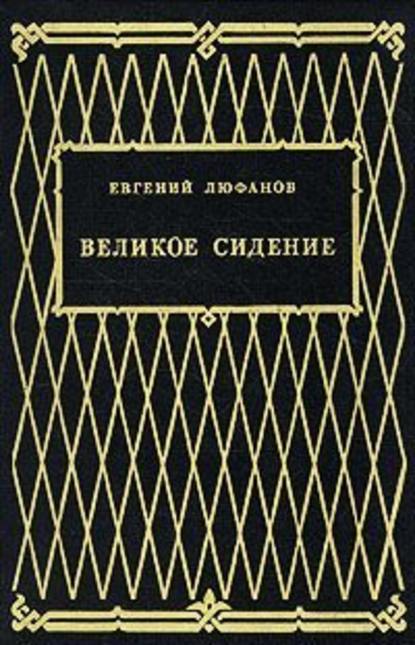По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Великое сидение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
От взятых с собой из Измайлова съестных припасов и от скотского гурта ничего не осталось. Столько едаков на ее, царицын, кошт навалилось – под чистую все, как помелом, подмели. Царица Марфа да царевны Наталья, Мария и Федосья, сестры Петра, своя сестрица Анастасия, каждая со своими придворными, все есть-пить хотели, а из Москвы своих припасов не взяли, понадеявшись, что все им в Петербурге тут приготовлено. Той – мясца, той – крупицы, мучицы надо. А как не дать? Родня ведь! Да и знали все, что с ней, с царицей Прасковьей, большой обоз шел. А тут еще и Петрова зазноба лифляндская на чужой каравай рот разинула, и у нее тоже, хотя и не столь большая, дворня, но есть.
Раздавала она, царица Прасковья, не скупилась, в надежде, что все ей возвращено будет, ан жди-пожди, и все жданки прождешь. Ничего у самой не осталось, и спросить не с кого. Петра Алексеевича нет, пожаловаться некому. Вместе со светлейшим князем Меншиковым отбыли к войне ближе, а без них никто ничего не знает и сделать не может. И жители, и работные, и военные люди перебиваются кое-как; многие уже совсем голодать стали. Цены в лавках и на уличном вольном торгу несусветные, да и купить почти нечего.
Хотя лето еще не кончилось, а дожди по-осеннему зарядили, дороги стали непроезжими, непролазными – самая добычливая пора для разбойничьих шаек. Сколько обозов разграблено, и даже стражники оберечь их не могут. Словно нарочно лихоимцы поджидали, когда из Измайлова для царицы Прасковьи два новых обоза пойдут. Пошли они, а до Петербурга ни один не доехал, от последнего обоза только приказчик с распухшей от битья рожей явился да со сломанной рукой. Бой почти под самым Петербургом с ворами был, и какие возчики перебиты, а какие сами в воровскую шайку ушли. Вот тебе и ожидаемые припасы, – мука, крупа, сало, где они? Куда, на какую полку зубы класть?..
Некоторые придворные, а особливо дурки да карлицы, привычные к сладкой еде, от голода, мокрости да неуюта похворали малость и померли, а уцелевшие отощали, и несмолкаемый вой стоит по царицыному подворью. Спасибо зятю, сестрину мужу, Федору Юрьевичу Ромодановскому, что распорядился по возу капусты да репы доставить. Приходится этой едой питаться, а какая в ней сыть? И царевны осунулись; Катеринка смеяться перестала, Анна с каждым днем все больше угрюмится, а у Парашки глаза в слезах и все слюнки глотает.
– Исть, маменька, чего-нибудь хочется…
– Кочерыжку, доченька, погрызи, либо пареную репку возьми.
А Парашка от этого еще пуще в рев.
И что же это будет такое?.. Приехали в «парадиз», в царский рай!.. К пожарам да к наводнениям еще и бескормица добавляется, а к этому ко всему ходит слух, что со дня на день швед на Петербург нападет и обратно к себе его заберет. Говорили намедни в соборе люди, что шведский король похваляется: пускай, дескать, царь Петр строит город, который все равно шведами будет взят… А тогда как быть?..
Только одна царева разлюбезная хахалица Катерина Алексеевна безунывна. Ей, конечно, и такая еда хороша: с девок привычно капустой да репой кормиться. А придет швед – отговорится на бусурманском своем языке, что насильно, мол, в полюбовницы себе царь забрал, а она, дескать, слезы лила, отбивалась. По всему видать, расподлющая тварь! А вот ей-то, ей, царице Прасковье, со своими царевнами не миновать живота лишаться. А если не от шведа, то от капусты с репой, от холода-голода, от кручины-тоски.
– О-охти-и!..
По всему Петербургу у подножия сосенок, берез и осин торчали грибы. Может, хоть они будут подспорьем в еде. Но все же и неприязненно смотрели люди на полчища маслят и рыжиков, вылезших из своих земляных укрытий. А над ними, словно генералы, в белых чулках да в красных мундирах, испятненные регалиями, мухоморы. Грибной год выдался.
– К войне опять.
– Опять!.. Она какой год уж идет.
– Значит, сильней прежнего будет.
II
Трудную навигационную науку проходили прикованные к галерной банке бывшие попы Флегонт и Гервасий. Не сразу и не легко давалось им действовать веслами слаженно с другими гребцами: то глубоко, то мелко забирали воду, то ударяли о чужое весло, внося сумятицу в ход галеры. Почти каждая такая оплошность влекла за собой удар плетки надсмотрщика, – красные рубцы не сходили с плеч и спин неумельцев. И приказ был не вскрикивать от ударов, не стонать.
Деревенели пальцы, сжимавшие рукоять весла, и то дрожью, то горячим потом обметывало Гервасия и Флегонта, то не хватало им воздуха, а то, захваченный широко раскрытым ртом, он распирал грудь, и кровь частыми тугими толчками болезненно ударяла в виски. Флегонт густо оброс поседевшей за недолгий срок бородой, а у Гервасия волос посекся и пожухла бесцветная его бороденка.
Пробовали попы заговаривать о своей злосчастной судьбе, но в ответ слышали угрозы: будут надоедать со своими жалобами – вырвут им ноздри да прижгут на лбу клеймо, что они суть воры. Помрут в муках таких? Ну и пускай помирают, на это запрета нет.
Босоногие, изможденные, в рубище, пока еще крепились попы, старались в лад с другими гребцами поднимать и опускать весла, ровнее откидываться назад и отталкивать в это время веслом захваченную толщу воды.
– Вот и видать, что стараетесь, сталоть ноздри будут целей, – ободрял их надсмотрщик и для пущей поблажки не так сильно хлестнул плетью того и другого.
Но Гервасию так и не пришлось освоить как следует навигацкую эту науку. На Ладоге, в штормовую погоду, когда волны не давали галере надлежащего хода и не помогали гневные крики надсмотрщика, чтобы гребцы-каторжане шевелились проворнее, Гервасий выпустил весло из рук, ткнулся головой в спину сидящего впереди каторжанина, и бессильной оказалась плеть, несколько раз пытавшаяся его опамятовать и потому сильно полоснувшая податливо-расслабленные плечи. Так и не опамятовался Гервасий от своего дерзкого неповиновения, а когда преисполненный ярости надсмотрщик схватил его за шиворот и остервенело рванул к себе, Гервасий, удерживаемый цепью, покорно свалился ему под ноги, навсегда освобожденный от каторги подоспевшей смертью. И тут еще на одной из передних банок сумятица произошла. Хотя там пока жив был гребец, но он уже безучастно водил одичавшими глазами, не узнавая никого, а рядом с ним корчился другой, надсадно и хрипло дыша. Остальные гребцы побросали весла и сидели, втянув голову в костлявые плечи, равнодушные к свистящей над ними плети и словно не чувствуя ее ожогов.
Разыгравшиеся на ладожском просторе волны и ветер мотали галеру из стороны в сторону, перекидывали ее от волны к волне, и волны со всего маху охлестывали судно. Окатила волна едва удержавшегося на ногах надсмотрщика, и он, судорожно хватаясь за что попало, стал пятиться назад, норовя поскорее убраться в кубрик к шкиперу и призвать кого-нибудь из команды к себе на подмогу. С минуты на минуту можно было ожидать, что особо разыгравшаяся волна с белым барашком на гребне поднимется во весь рост и так охлестнет галеру, что она, огрузившись водой, канет в ладожскую пучину.
Вот уж не думалось никому из гребцов, что они на свое счастье к банкам прикованы, – удерживала их короткая цепь на галере, а не то смыло бы за борт. Ну, а уж если придется всем разом, вместе с суденышком потонуть, то, значит, такова последняя их судьба. Не сбудется, значит, надежда дойти до реки Волхова, где бы их, галерных гребцов, в первом же прибрежном селении покормили, как сулило перед отплытием галерное их начальство. Дня два, мол, в пути поголодуете – не беда, зато так там навалитесь на еду, что только за ушами станет трещать. А из Петербурга в дорогу взять было нечего – самим градожителям нет еды, капустой одной пробавляются. И вы, дескать, гребцы-молодцы, как только дойдете до Новгорода, там вашу галеру самым сытным провиантом нагрузят, и пойдете в обратный путь. Из подмосковного Измайлова для двора царицы Прасковьи съестные припасы туда доставлены, а везти их дальше от Новгорода опасно: разбойничьи шайки могут напасть и все съестное ограбить. По воде сплавлять безопаснее.
А как не сбудется до Новгорода дойти, то совсем натощак, в многодневную проголодь придется смерть принимать.
– Помяни, господи, и прими рабов твоих во царствии своем, – перекрестился Флегонт.
А в кубрике свой переполох, и никто не отозвался на клич надсмотрщика, взывавшего о подмоге, чтобы заставить каторжан грести. Не миновать всей команде смерть в той галерной норе принимать: хлынет сюда вода – захлебнет. Но и наверх подняться страшно – собьет волной. Что делать? Как быть?.. Только и надежды, что на Николая-угодника, покровителя мореплавающих, и хотя Ладога не есть море, все же терпящие на ней бедствие в такой передряге все равно что и гибнущие на море. Громогласную и многоголосую молитву надобно Николаю-угоднику вознести и каторжан расковать. Может, смилуется угодник тогда, видя проявленную к рабам благостыню.
– Одного либо хоть двух расковать, а те потом с остатних железо скинут, – суетился шкипер и обращался к надсмотрщику: – Хлопочи, Маркел, во спасение душ. Воздастся за это тебе, – и совал ему зубило с молотком для рассечки кандальных заклепок:
– Мертвяка расклепать? – не понимал Маркел.
– Мертвяку все едино. Об живых хлопочи.
Перекрестился, набрался храбрости надсмотрщик Маркел, чуть ли не ползком подобрался к гребцам и надсадно выкрикнул:
– Высвобождайтесь из железа, ребята. Помогай вам бог.
Перед ним был рыжеволосый с вырванными ноздрями гребец. От сильного и частого дыхания, то слипаясь, то разлипаясь, с присвистом трепетали обветшавшие крылья его изуродованного носа, а на распаленном, побагровевшем лице выпучивались словно застекленевшие глаза.
– Рваный… – хотел было отшатнуться от него Маркел, но тот схватил его за руку и не отпускал от себя. – Ин ладно, пусть… – прилаживался надсмотрщик к его банке, ударяя то по железу, а то и по ноге.
С большим трудом срубил он заклепку с ножного кольца этого кандальника, а их по двенадцать человек у каждого борта галеры. Да ведь не на спокойной воде суденышко, а колышет, бьет его зыбучей волной, несет неведомо куда, – когда и как сможешь всех расклепать?..
– Земля… Берег там… – надрывая голос, крикнул один из колодников, указывая рукой на появившуюся вдруг за грядами волн береговую полоску. Ветер и волны гнали галеру к ней.
Исступленно кричали, выли, стонали колодники, а их вопли глушил гулкий шум налегавших на галеру волн, от натиска которых она вздрагивала и тоже словно нестерпимо стонала.
Невозможно было никому из гребцов оторвать ногу от банки, крепко держала короткая цепь, но, превозмогая боль, напрягая последние, появившиеся вдруг силы, хотя и безуспешно, но пытались все же люди вызволиться из оков, не дожидаясь, когда их раскуют.
Первый раскованный каторжанин с вырванными ноздрями выхватил из рук надсмотрщика Маркела зубило и молоток, искровянив себе пальцы, срубил заклепку на ножном кольце соседа по банке, которым был Флегонт, и тот, рванувшись со своего места, едва не сшиб с ног надсмотрщика, испуганно отпрянувшего от него.
Земля показалась. Может, это тот берег, от которого они утром отплыли и теперь снова пристанут к нему? Пусть бы так, – перестанут бедовать на воде.
Надсмотрщик Маркел встретился взглядом с раскованным рыжеволосым гребцом, и захолонуло его душу смятением, когда перехватил в глазах каторжанина злобно-мстительное торжество. Сразу же мысли одна отвратнее другой застращали надсмотрщика: зачем так опрометчиво поступил, расковав этого лихоимца? А что будет, когда окажутся освобожденными от цепей остальные? Не сведут ли они свои счеты с ним, Маркелом, столь рьяно хлеставшим их спины? Наверняка по-своему расправятся с ним да и со всей командой галеры, – в ней вместе со шкипером только шесть человек, а гребцов-каторжан более двадцати. И от предчувствия неминучей беды леденяще знобило Маркелу все его тело.
Неуправляемую галеру мотало по волнам; сильная качка не давала возможности рыжеволосому срубить заклепку с оков следующего гребца: только приставит плотнее зубило, намерится молотком, как ловчее ударить, а в то же мгновение охлестнет его вздыбившейся волной, оттолкнет в сторону или повалит на банку. Надо снова стараться улучить миг, чтобы вернее ударить по неподатливой, крепко сидящей заклепке. А надсмотрщик Маркел с нарастающим страхом следил за каждым его движением, мысленно кляня шкипера, вздумавшего на свою же погибель возносить всеобщее моление и высвободить ради этого гребцов из железа. Чем и как сумеет их потом опять устрашить? Сказать ему надо об этом, пока не поздно, предостеречь.
Едва только ступил Маркел на лесенку, чтобы спуститься к шкиперу, как резкий удар сшиб его с ног, швырнул вниз на проломленное днище галеры, и в этот пролом в тот же миг ворвалась стремительно хлынувшая вода. С треском и скрежетом раздиралось дощатое днище галеры, наскочившей на камни, и, охлестанная волнами, она все глубже оседала в воду.
Налетел, должно быть, самый что ни на есть сильный девятый штормовой вал, смыл с галеры двух раскованных гребцов и накрыл остальных, напористо навалившись на суденышко и плотно прижав его к озерному дну. Ничто не мешало после этого свободно набегать волнам до самого берега и обрамлять его пенистым прибоем, словно нарядными кружевными уборами.
III
Лежал Флегонт у береговой кромки, не в силах шевельнуть отяжелевшими и набухшими ногами, будто налитыми ладожской этой водой. Но, знать, на роду ему было написано чередовать невзгодную жизнь проблесками случайных удач.
Чудом вызволился он от, казалось бы, неминуемой гибели. Не захлебнула его волна и, унося на своем гребне, не ударила о выпиравшие из воды прибрежные камни, а откинула в прогалину между ними на рудой песок. Потом вдребезги разбивались о камни накатные волны и брызгами словно бы освежали Флегонта, будили в нем снулую, едва не омертвевшую жизнь. А тут еще подоспел подойти к нему рыжеволосый, с рваными ноздрями, тоже спасшийся от смертной беды человек. Он оттащил Флегонта на сухой берег и тормошил, будил его от пагубного недужного забытья.
С трудом приоткрыл Флегонт забухшие глаза и не мог припомнить, где и когда видел он этого наклонившегося над ним человека. Может, во сне?..
– Не nужи, оклемаешься, – обнадеживал тот.
– Кто ты? Как зовут? – спросил Флегонт, не слыша собственного голоса.
А рыжеволосый услышал.
Раздавала она, царица Прасковья, не скупилась, в надежде, что все ей возвращено будет, ан жди-пожди, и все жданки прождешь. Ничего у самой не осталось, и спросить не с кого. Петра Алексеевича нет, пожаловаться некому. Вместе со светлейшим князем Меншиковым отбыли к войне ближе, а без них никто ничего не знает и сделать не может. И жители, и работные, и военные люди перебиваются кое-как; многие уже совсем голодать стали. Цены в лавках и на уличном вольном торгу несусветные, да и купить почти нечего.
Хотя лето еще не кончилось, а дожди по-осеннему зарядили, дороги стали непроезжими, непролазными – самая добычливая пора для разбойничьих шаек. Сколько обозов разграблено, и даже стражники оберечь их не могут. Словно нарочно лихоимцы поджидали, когда из Измайлова для царицы Прасковьи два новых обоза пойдут. Пошли они, а до Петербурга ни один не доехал, от последнего обоза только приказчик с распухшей от битья рожей явился да со сломанной рукой. Бой почти под самым Петербургом с ворами был, и какие возчики перебиты, а какие сами в воровскую шайку ушли. Вот тебе и ожидаемые припасы, – мука, крупа, сало, где они? Куда, на какую полку зубы класть?..
Некоторые придворные, а особливо дурки да карлицы, привычные к сладкой еде, от голода, мокрости да неуюта похворали малость и померли, а уцелевшие отощали, и несмолкаемый вой стоит по царицыному подворью. Спасибо зятю, сестрину мужу, Федору Юрьевичу Ромодановскому, что распорядился по возу капусты да репы доставить. Приходится этой едой питаться, а какая в ней сыть? И царевны осунулись; Катеринка смеяться перестала, Анна с каждым днем все больше угрюмится, а у Парашки глаза в слезах и все слюнки глотает.
– Исть, маменька, чего-нибудь хочется…
– Кочерыжку, доченька, погрызи, либо пареную репку возьми.
А Парашка от этого еще пуще в рев.
И что же это будет такое?.. Приехали в «парадиз», в царский рай!.. К пожарам да к наводнениям еще и бескормица добавляется, а к этому ко всему ходит слух, что со дня на день швед на Петербург нападет и обратно к себе его заберет. Говорили намедни в соборе люди, что шведский король похваляется: пускай, дескать, царь Петр строит город, который все равно шведами будет взят… А тогда как быть?..
Только одна царева разлюбезная хахалица Катерина Алексеевна безунывна. Ей, конечно, и такая еда хороша: с девок привычно капустой да репой кормиться. А придет швед – отговорится на бусурманском своем языке, что насильно, мол, в полюбовницы себе царь забрал, а она, дескать, слезы лила, отбивалась. По всему видать, расподлющая тварь! А вот ей-то, ей, царице Прасковье, со своими царевнами не миновать живота лишаться. А если не от шведа, то от капусты с репой, от холода-голода, от кручины-тоски.
– О-охти-и!..
По всему Петербургу у подножия сосенок, берез и осин торчали грибы. Может, хоть они будут подспорьем в еде. Но все же и неприязненно смотрели люди на полчища маслят и рыжиков, вылезших из своих земляных укрытий. А над ними, словно генералы, в белых чулках да в красных мундирах, испятненные регалиями, мухоморы. Грибной год выдался.
– К войне опять.
– Опять!.. Она какой год уж идет.
– Значит, сильней прежнего будет.
II
Трудную навигационную науку проходили прикованные к галерной банке бывшие попы Флегонт и Гервасий. Не сразу и не легко давалось им действовать веслами слаженно с другими гребцами: то глубоко, то мелко забирали воду, то ударяли о чужое весло, внося сумятицу в ход галеры. Почти каждая такая оплошность влекла за собой удар плетки надсмотрщика, – красные рубцы не сходили с плеч и спин неумельцев. И приказ был не вскрикивать от ударов, не стонать.
Деревенели пальцы, сжимавшие рукоять весла, и то дрожью, то горячим потом обметывало Гервасия и Флегонта, то не хватало им воздуха, а то, захваченный широко раскрытым ртом, он распирал грудь, и кровь частыми тугими толчками болезненно ударяла в виски. Флегонт густо оброс поседевшей за недолгий срок бородой, а у Гервасия волос посекся и пожухла бесцветная его бороденка.
Пробовали попы заговаривать о своей злосчастной судьбе, но в ответ слышали угрозы: будут надоедать со своими жалобами – вырвут им ноздри да прижгут на лбу клеймо, что они суть воры. Помрут в муках таких? Ну и пускай помирают, на это запрета нет.
Босоногие, изможденные, в рубище, пока еще крепились попы, старались в лад с другими гребцами поднимать и опускать весла, ровнее откидываться назад и отталкивать в это время веслом захваченную толщу воды.
– Вот и видать, что стараетесь, сталоть ноздри будут целей, – ободрял их надсмотрщик и для пущей поблажки не так сильно хлестнул плетью того и другого.
Но Гервасию так и не пришлось освоить как следует навигацкую эту науку. На Ладоге, в штормовую погоду, когда волны не давали галере надлежащего хода и не помогали гневные крики надсмотрщика, чтобы гребцы-каторжане шевелились проворнее, Гервасий выпустил весло из рук, ткнулся головой в спину сидящего впереди каторжанина, и бессильной оказалась плеть, несколько раз пытавшаяся его опамятовать и потому сильно полоснувшая податливо-расслабленные плечи. Так и не опамятовался Гервасий от своего дерзкого неповиновения, а когда преисполненный ярости надсмотрщик схватил его за шиворот и остервенело рванул к себе, Гервасий, удерживаемый цепью, покорно свалился ему под ноги, навсегда освобожденный от каторги подоспевшей смертью. И тут еще на одной из передних банок сумятица произошла. Хотя там пока жив был гребец, но он уже безучастно водил одичавшими глазами, не узнавая никого, а рядом с ним корчился другой, надсадно и хрипло дыша. Остальные гребцы побросали весла и сидели, втянув голову в костлявые плечи, равнодушные к свистящей над ними плети и словно не чувствуя ее ожогов.
Разыгравшиеся на ладожском просторе волны и ветер мотали галеру из стороны в сторону, перекидывали ее от волны к волне, и волны со всего маху охлестывали судно. Окатила волна едва удержавшегося на ногах надсмотрщика, и он, судорожно хватаясь за что попало, стал пятиться назад, норовя поскорее убраться в кубрик к шкиперу и призвать кого-нибудь из команды к себе на подмогу. С минуты на минуту можно было ожидать, что особо разыгравшаяся волна с белым барашком на гребне поднимется во весь рост и так охлестнет галеру, что она, огрузившись водой, канет в ладожскую пучину.
Вот уж не думалось никому из гребцов, что они на свое счастье к банкам прикованы, – удерживала их короткая цепь на галере, а не то смыло бы за борт. Ну, а уж если придется всем разом, вместе с суденышком потонуть, то, значит, такова последняя их судьба. Не сбудется, значит, надежда дойти до реки Волхова, где бы их, галерных гребцов, в первом же прибрежном селении покормили, как сулило перед отплытием галерное их начальство. Дня два, мол, в пути поголодуете – не беда, зато так там навалитесь на еду, что только за ушами станет трещать. А из Петербурга в дорогу взять было нечего – самим градожителям нет еды, капустой одной пробавляются. И вы, дескать, гребцы-молодцы, как только дойдете до Новгорода, там вашу галеру самым сытным провиантом нагрузят, и пойдете в обратный путь. Из подмосковного Измайлова для двора царицы Прасковьи съестные припасы туда доставлены, а везти их дальше от Новгорода опасно: разбойничьи шайки могут напасть и все съестное ограбить. По воде сплавлять безопаснее.
А как не сбудется до Новгорода дойти, то совсем натощак, в многодневную проголодь придется смерть принимать.
– Помяни, господи, и прими рабов твоих во царствии своем, – перекрестился Флегонт.
А в кубрике свой переполох, и никто не отозвался на клич надсмотрщика, взывавшего о подмоге, чтобы заставить каторжан грести. Не миновать всей команде смерть в той галерной норе принимать: хлынет сюда вода – захлебнет. Но и наверх подняться страшно – собьет волной. Что делать? Как быть?.. Только и надежды, что на Николая-угодника, покровителя мореплавающих, и хотя Ладога не есть море, все же терпящие на ней бедствие в такой передряге все равно что и гибнущие на море. Громогласную и многоголосую молитву надобно Николаю-угоднику вознести и каторжан расковать. Может, смилуется угодник тогда, видя проявленную к рабам благостыню.
– Одного либо хоть двух расковать, а те потом с остатних железо скинут, – суетился шкипер и обращался к надсмотрщику: – Хлопочи, Маркел, во спасение душ. Воздастся за это тебе, – и совал ему зубило с молотком для рассечки кандальных заклепок:
– Мертвяка расклепать? – не понимал Маркел.
– Мертвяку все едино. Об живых хлопочи.
Перекрестился, набрался храбрости надсмотрщик Маркел, чуть ли не ползком подобрался к гребцам и надсадно выкрикнул:
– Высвобождайтесь из железа, ребята. Помогай вам бог.
Перед ним был рыжеволосый с вырванными ноздрями гребец. От сильного и частого дыхания, то слипаясь, то разлипаясь, с присвистом трепетали обветшавшие крылья его изуродованного носа, а на распаленном, побагровевшем лице выпучивались словно застекленевшие глаза.
– Рваный… – хотел было отшатнуться от него Маркел, но тот схватил его за руку и не отпускал от себя. – Ин ладно, пусть… – прилаживался надсмотрщик к его банке, ударяя то по железу, а то и по ноге.
С большим трудом срубил он заклепку с ножного кольца этого кандальника, а их по двенадцать человек у каждого борта галеры. Да ведь не на спокойной воде суденышко, а колышет, бьет его зыбучей волной, несет неведомо куда, – когда и как сможешь всех расклепать?..
– Земля… Берег там… – надрывая голос, крикнул один из колодников, указывая рукой на появившуюся вдруг за грядами волн береговую полоску. Ветер и волны гнали галеру к ней.
Исступленно кричали, выли, стонали колодники, а их вопли глушил гулкий шум налегавших на галеру волн, от натиска которых она вздрагивала и тоже словно нестерпимо стонала.
Невозможно было никому из гребцов оторвать ногу от банки, крепко держала короткая цепь, но, превозмогая боль, напрягая последние, появившиеся вдруг силы, хотя и безуспешно, но пытались все же люди вызволиться из оков, не дожидаясь, когда их раскуют.
Первый раскованный каторжанин с вырванными ноздрями выхватил из рук надсмотрщика Маркела зубило и молоток, искровянив себе пальцы, срубил заклепку на ножном кольце соседа по банке, которым был Флегонт, и тот, рванувшись со своего места, едва не сшиб с ног надсмотрщика, испуганно отпрянувшего от него.
Земля показалась. Может, это тот берег, от которого они утром отплыли и теперь снова пристанут к нему? Пусть бы так, – перестанут бедовать на воде.
Надсмотрщик Маркел встретился взглядом с раскованным рыжеволосым гребцом, и захолонуло его душу смятением, когда перехватил в глазах каторжанина злобно-мстительное торжество. Сразу же мысли одна отвратнее другой застращали надсмотрщика: зачем так опрометчиво поступил, расковав этого лихоимца? А что будет, когда окажутся освобожденными от цепей остальные? Не сведут ли они свои счеты с ним, Маркелом, столь рьяно хлеставшим их спины? Наверняка по-своему расправятся с ним да и со всей командой галеры, – в ней вместе со шкипером только шесть человек, а гребцов-каторжан более двадцати. И от предчувствия неминучей беды леденяще знобило Маркелу все его тело.
Неуправляемую галеру мотало по волнам; сильная качка не давала возможности рыжеволосому срубить заклепку с оков следующего гребца: только приставит плотнее зубило, намерится молотком, как ловчее ударить, а в то же мгновение охлестнет его вздыбившейся волной, оттолкнет в сторону или повалит на банку. Надо снова стараться улучить миг, чтобы вернее ударить по неподатливой, крепко сидящей заклепке. А надсмотрщик Маркел с нарастающим страхом следил за каждым его движением, мысленно кляня шкипера, вздумавшего на свою же погибель возносить всеобщее моление и высвободить ради этого гребцов из железа. Чем и как сумеет их потом опять устрашить? Сказать ему надо об этом, пока не поздно, предостеречь.
Едва только ступил Маркел на лесенку, чтобы спуститься к шкиперу, как резкий удар сшиб его с ног, швырнул вниз на проломленное днище галеры, и в этот пролом в тот же миг ворвалась стремительно хлынувшая вода. С треском и скрежетом раздиралось дощатое днище галеры, наскочившей на камни, и, охлестанная волнами, она все глубже оседала в воду.
Налетел, должно быть, самый что ни на есть сильный девятый штормовой вал, смыл с галеры двух раскованных гребцов и накрыл остальных, напористо навалившись на суденышко и плотно прижав его к озерному дну. Ничто не мешало после этого свободно набегать волнам до самого берега и обрамлять его пенистым прибоем, словно нарядными кружевными уборами.
III
Лежал Флегонт у береговой кромки, не в силах шевельнуть отяжелевшими и набухшими ногами, будто налитыми ладожской этой водой. Но, знать, на роду ему было написано чередовать невзгодную жизнь проблесками случайных удач.
Чудом вызволился он от, казалось бы, неминуемой гибели. Не захлебнула его волна и, унося на своем гребне, не ударила о выпиравшие из воды прибрежные камни, а откинула в прогалину между ними на рудой песок. Потом вдребезги разбивались о камни накатные волны и брызгами словно бы освежали Флегонта, будили в нем снулую, едва не омертвевшую жизнь. А тут еще подоспел подойти к нему рыжеволосый, с рваными ноздрями, тоже спасшийся от смертной беды человек. Он оттащил Флегонта на сухой берег и тормошил, будил его от пагубного недужного забытья.
С трудом приоткрыл Флегонт забухшие глаза и не мог припомнить, где и когда видел он этого наклонившегося над ним человека. Может, во сне?..
– Не nужи, оклемаешься, – обнадеживал тот.
– Кто ты? Как зовут? – спросил Флегонт, не слыша собственного голоса.
А рыжеволосый услышал.