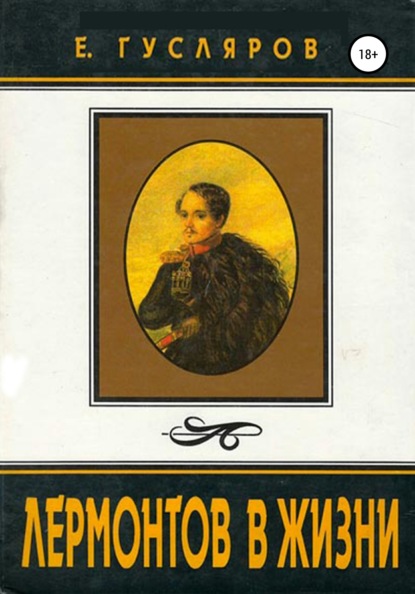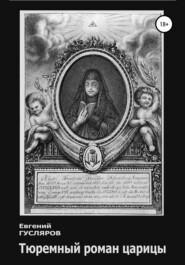По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лермонтов в жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Легко читаемая мистика есть в этом эпизоде.
Но сплошная мистика присутствует и в самом появлении поэта Лермонтова на этом свете.
Философ Владимир Соловьев, которого очень трудно заподозрить в какой-либо бульварщине, взял да и сочинил вдруг следующую историю, основанную на древних сведениях о шотландских корнях Лермонтова.
В пограничном с Англией шотландском местечке в XIII веке известен был замок, мрачноватый с виду, Эрсильдон. Тут жил знаменитый в то время рыцарь Лермонт. Слава его основывалась на том, что он представлял собой нечто вроде тогдашнего Нострадамуса, ведуна и прозорливца, наделенного к тому же громадным поэтическим талантом. За что имя ему дано было Рифмач – Thomas the Rhymer. Слава его особо возросла, когда предсказал он неожиданную и вполне случайную смерть шотландскому королю Альфреду III.
Сам Томас Рифмач закончил свою земную жизнь при весьма странных обстоятельствах. Он поехал на охоту. Там попались ему два совершенно белых оленя, за которыми он погнался. С тех пор его не видели. Пошли однако упорные слухи, что это были вовсе не олени, а посланцы подземного царства фей. С тех пор гениальный певец и обитает в том царстве, услаждая лирой слух своих неземных слушательниц. Философ уверен, что давний случай этот имеет к истории русской литературы самое непосредственное отношение.
«А проще сказать, это душа зачарованного феями Томаса Лермонта (Рифмача) выходила в очередной раз на поверхность бренного мира в облике причисленного к десятому его поколению неправдоподобно гениального в своем возрасте рифмача Михаила Лермонтова».
Англоманию Лермонтова можно объяснять его корнями. Как на главную причину его смерти некоторые указывают на ложно понятый байронизм. В чем выражался этот байронизм, давший когда-то пышные всходы на русской почве, нам надо бы хорошо знать, потому что без этого мы многое не поймем в нашей литературе. Не поймем многих мотивов творчества и поведения Пушкина, а особо – Лермонтова. Байронизм, и без того злая маска, становился особо опасным в форме той беспощадной карикатуры на него, которую изображал собой Лермонтов. В том вижу я зов его предков. И это он увел его в очередной раз в заколдованное царство английских фей.
Первый признак байронизма заключался в том, что самые талантливые поэты наши, изображая своих героев, даже самых темных и негодных, стали награждать их только теми чертами, которые имели сами. Если черт этих недоставало, то их надо было приобрести, воспитать в себе. Лермонтов занимался этим с большим успехом. Тут он, как и в поэзии, – образец классический. Особо удавались ему почему-то те черты, которые к положительным никак не отнесешь. Известен ответ его на вопрос о том, кого изобразил он в главном герое поэмы «Демон».
– Как? Вы не догадались? Да ведь это я и есть собственной персоной…
Самое поразительное в его Печорине, конечно, тончайшие оттенки его переживаний. Это потрясает. Не верится, что, обладая даже гениальным воображением, можно с такой беспощадной достоверностью переживать придуманные события. Вот тут-то и закавыка.
Придуманных событий в романах Лермонтова почти нет никаких. А то, каким образом появлялись эти события на страницах его рукописей, и есть в его творческом методе самое занимательное, уникальное, возможно, поучительное, но больше… жестокое. В рамки традиционной морали и даже морали сегодняшнего дня ну никоим образом вместиться не способное.
Вот он задумывает написать некоторого рода сатиру на светское общество – роман «Княгиня Лиговская». Ему всего двадцать лет. Но приемы уже вполне сформировавшиеся и определенно – демонические. Весной 1835-го, за год до написания этой, незаконченной, правда, повести, пишет он письмо родственнице своей, Александре Верещагиной. А в нем такие строки:
«Теперь я не пишу романов. Я их затеваю…»
Его биограф запишет потом нечто в этом же духе:
«Я изготовляю на деле материалы для будущих моих сочинений», – ответ Лермонтова на вопрос: зачем он интригует женщин?»
Посмотрим, что это за интриги.
Одна из них, самая странная и с большим налетом цинизма, отмеченного еще современниками, произошла с известной в лермонтоведении Елизаветой Сушковой.
Это она однажды спросила Лермонтова:
– Вы пишете что нибудь?
– Нет, – ответил он уже известное, – но я на деле заготовляю материалы для многих сочинений: знаете ли: вы будете почти везде героиней…
Она не обрадовалась бы, если б знала, какой именно героиней ей выпадет стать.
Тут надо вспомнить сюжет «Княгини Лиговской».
В нем изложена история «отцветающей» двадцатипятилетней светской львицы, которую увлек молодой, недостаточно красивый и не совсем светский офицер по фамилии Печорин. Ему это надо было с единственной целью – чтобы о нем заговорили.
«Полтора года назад, – говорит о своем герое Лермонтов, – Печорин был в свете еще человек довольно новый: ему надобно было, чтоб поддержать себя, приобрести то, что некоторые называют светскою известностью, то есть прослыть человеком, который может сделать зло, когда ему вздумается; несколько времени он напрасно искал себе пьедестала, вставши на который, он мог бы заставить толпу взглянуть на себя; сделаться любовником известной красавицы было бы слишком трудно для начинающего, а скомпрометировать молодую и невинную он бы не решился, и потому он избрал своим орудием Лизавету Николаевну, которая была ни то ни другое. Как быть? В нашем бедном обществе фраза: он погубил столько-то репутаций – значит почти: он выиграл столько-то сражений».
Тут точно описаны собственные переживания Лермонтова.
Начало жестокого романа с Екатериной Сушковой в изложении самого (в письме к А. Верещагиной) Лермонтова выглядит так: «Если я начал за ней ухаживать, то это не было отблеском прошлого. Вначале это было простым поводом проводить время, а затем… стало расчетом. Вот каким образом. Вступая в свет, я увидел, что у каждого был свой пьедестал: хорошее состояние, имя, титул, покровительство… Я увидал, что если мне удастся занять собою одно лицо, другие незаметно тоже займутся мною, сначала из любопытства, потом из соперничества. Отсюда отношения к Сушковой».
Первое свое сражение Лермонтов выиграл так.
Детальные донесения с этого удивительного поля сражения он посылал, с недобрым смехом, упомянутой А. Верещагиной.
«Я публично обращался с нею, как с личностью, всегда мне близкою, давал ей чувствовать, что только таким образом она может надо мною властвовать. Когда я заметил, что мне это удалось… я выкинул маневр. Прежде всего в глазах света стал более холодным с ней, чтобы показать, что я ее более не люблю… Когда она стала замечать это и пыталась сбросить ярмо, я первый ее публично покинул. Я в глазах света стал с нею жесток и дерзок, насмешлив и холоден. Я стал ухаживать за другими и под секретом рассказывать им те стороны, которые представлялись в мою пользу… Далее она попыталась вновь завлечь меня напускною печалью, рассказывая всем близким моим знакомым, что любит меня; я не вернулся к ней, а искусно всем этим пользовался…»
Вслед за этим буквально то же самое проделывает и Печорин с бедною Лизаветой Николаевной:
«…Печорин стал с нею рассеяннее, холоднее, явно старался ей делать те мелкие неприятности, которые замечаются всеми и за которые между тем невозможно требовать удовлетворения. Говоря с другими девушками, он выражался об ней с оскорбительным сожалением, тогда как она, напротив, вследствие плохого расчета, желая кольнуть его самолюбие, поверяла своим подругам под печатью строжайшей тайны свою чистейшую, искреннейшую любовь. Но напрасно, он только наслаждался излишним торжеством…» И т. д.
Есть в том жестоком романе эпизод с письмом. Шокирующий, настоящего мужчины совершенно недостойный. Мне никак не представить, чтобы совершил его, например, Пушкин, тоже часто достаточно вольно поступавший с женским полом.
Чтобы выйти из надоевшей игры в любовь, Лермонтов поступает самым примитивным, но опять скандальным образом. Он пишет Екатерине Сушковой анонимное письмо, полное чудовищных нелепостей. Злорадно при том сознается: «Я искусно направил письмо так, что оно попало в руки тетки. В доме гром и молния…»
Девушка скомпрометирована окончательно. Эта по всем признакам дикая и нелепая история продолжается около года. Все это время Лермонтов наслаждается своей убийственной ловкостью. Он страшно доволен собой. И особенно тем, что влюбленная в него Екатерина Николаевна отказывает блестящему жениху. Вновь остается на бобах и в критическом возрасте своем рискует навсегда засидеться в невестах. В тогдашнем обществе – женская трагедия из самых жестоких.
Этот эпизод, который, повторим, Лермонтов затеял и шлифовал целый год, в романе занимает всего несколько страниц. Такая тщательность в отделке литературного шедевра наверняка единственна в своем роде.
Есть там и злополучное анонимное письмо. В интерпретации Печорина оно звучит так:
«Милостивая государыня!
Вы меня не знаете, я вас знаю: мы встречаемся часто, история вашей жизни так же мне знакома, как моя записная книжка, а вы моего имени никогда не слыхали… Мне известно, что Печорин вам нравится, что вы всячески думаете снова возжечь в нем чувства, которые ему никогда не снились, он с вами пошутил – он недостоин вас: он любит другую, все ваши старания послужат только вашей гибели, свет и так показывает на вас пальцами, скоро он совсем от вас отворотится…»
За то, что это письмо без изменений вставлено сюда из того житейского романа, который мы сейчас наблюдаем, говорят несколько собственноручных строчек из того же интимного письма, которое мы уже цитировали. Лермонотов – Верещагиной:
«Но вот веселая сторона истории. Когда я осознал, что в глазах света надо порвать с нею, а с глазу на глаз все-таки оставаться преданным, я быстро нашел любезное средство – я написал анонимное письмо: «Mademoiselle, я человек, знающий вас, но вам неизвестный… и т. д.; я вас предваряю, берегись этого молодого человека; М. Л-ов вас погубит и т. д. Вот доказательство… (разный вздор)» и т. д. Письмо на четырех страницах…»
Как видим, цинизма во всей это истории Лермонтов даже и не предполагает, не видит ни малейшего намека на него. Тут для него просто ряд веселых эпизодов. Отчего это? Может ли великий человек страдать особого рода нравственным дальтонизмом? Житейское поведение великого Михаила Лермонтова дает нам достаточно поводов задать этот вопрос.
Вот еще эпизод, относящийся ко времени печального романа с Екатериной Сушковой.
Была тогда такая мода. Неравнодушие свое можно было выражать в те времена разными трогательными способами. Она связала к его именинам кошелек. Узнала его любимые цвета и сделала его из голубого и белого шелка. Отправила к нему тайно, но тайна эта была опять же шита белыми нитками. В тот же день Лермонтов играл с некоторыми дамами в карты и за неимением разменной монеты поставил на кон этот самый кошелек. Проиграл его без всякого сожаления.
Это, конечно же, издевательство.
Оказывается, всей этой фантастически нелепой истории есть объяснение. Когда-то, будучи еще вполне ребенком, Лермонтов испытал к ней острое чувство влюбленности. А та просто не заметила этого. Ей было двадцать, ему – шестнадцать. Тогда мальчик Миша был косолап, с вечно красными глазами, со вздернутым носом и тогда уже был жестоко язвителен. Злопамятность его поразительна.
«Вы видите, – с жестоким задором объясняет он, – что я мщу за слезы, которые пять лет тому назад заставляло меня проливать кокетство m-lle Сушковой. О, наши счеты еще не кончены! Она заставила страдать сердце ребенка, а я только мучаю самолюбие старой кокетки».
Эта месть его вышла громадной. Неожиданно, может быть, даже для самого мстителя. Какое-то и впрямь странное упорство и необъяснимый расчет двигают им.
Год он мучает ее искусной интригой. Этого ему мало. Как теперь выясняется, роман свой он задумывает лишь как продолжение этой интриги и составную часть своего плана страшной мести. Он находит для нее самые язвительные и уничтожающие женщину слова в этом своем романе. А это теперь надолго. Проживи Лермонтов еще сорок лет, и таких романов могло бы появиться множество. Поскольку кандидаток на подобную месть было у него, оказывается, предостаточно.
«Мне случалось слышать признание нескольких из его жертв, и я не могла удержаться от смеха, даже прямо в лицо, при виде слез моих подруг, не могла не смеяться над оригинальными и комическими развязками, которые он давал своим злодейским донжуанским подвигам…» Это напишет о нем та же Евдокия Ростопчина.
И пытается объяснить это тем, что мы уже частично знаем: