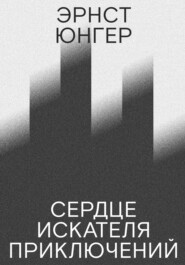По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На мраморных утесах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На мраморных утесах
Эрнст Юнгер
Эксклюзивная классика (АСТ)
Книга, исключительная по значимости для европейской литературы – и как один из лучших образцов немецкоязычного модернизма, и как одна из самых ярких антиутопий ХХ века. Роман, в котором в полной мере отразилось критическое отношение автора к идеям национал-социализма.
Странное государство Большая Бухта, существующее словно бы вне пространств и времен и как бы застывшее в реалиях позднего Средневековья. Государство, существовавшее достаточно благополучно, пока к власти не пришел циничный, умный и жестокий Старший Лесничий, больше всего на свете ненавидящий красоту, поскольку именно в ней он видит эстетическое выражение свободы.
Теперь хода событий уже не остановить. Безымянный рассказчик и его брат, укрывшись на мраморных утесах, ведут сопротивление, пытаясь противостоять разрушению культуры для грядущего ее возрождения…
Эрнст Юнгер
На мраморных утесах
© Ernst J?nger, Auf den Marmorklippen. S?mtliche Werke (PB) vol. 18, Klett-Cotta, Stuttgart 2015
© Klett-Cotta – J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart, 1939, 1978
© Перевод. А. Анваер, 2022
© Перевод стихов, Н. Сидемон-Эристави, 2022
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
1
Всем вам знакома безмерная тоска, что охватывает нас при воспоминании о поре былого счастья. Оно миновало безвозвратно, и наш отрыв от него немилосерднее любой разлуки. Тогда нас манит еще сильнее эхо картин: мы думаем о них, как о теле умершей возлюбленной, которое покоится глубоко в земле и теперь словно мираж предстает перед нами во всем своем возвышенном и одухотворенном великолепии. Снова и снова мы страстно алчем в наших грезах коснуться всех моментов прошлого, проникнуть во все его складки. Нам кажется, что не исполнили мы до конца меру жизни и любви, но уже никакое раскаяние не вернет нам утраченного. О, пусть это чувство служит нам уроком в каждый миг счастья!
И еще сладостнее становятся воспоминания о наших лунных и солнечных годах, когда они заканчивались внезапными ужасами бедствий. Только тогда понимаем мы, какой счастливый жребий выпадает нам, людям, когда мы живем год за годом в наших маленьких общинах, под мирной крышей, проводя время за задушевными беседами и приветствуя друг друга утром и вечером пожеланиями добра. Ах, мы всегда запоздало осознаем, что именно тогда изливались на нас все успехи точно из бездонного рога изобилия.
Вот так думаю и я о тех временах, когда жили мы у Большой Бухты – лишь в воспоминании предстает передо мной их очарование. Разумеется, тогда мне казалось, что наши дни омрачало множество горестей и печалей, а пуще всего приходилось быть настороже перед Старшим Лесничим. Жили мы поэтому в известной строгости, одевались просто и скромно, хотя никакие обеты и клятвы нас не связывали. Но тем не менее дважды в год мы отдавали должное красной еде – один раз весной, один раз осенью.
Осенью мы пировали как мудрецы и совершали возлияния изысканным вином, благо на южных склонах Большой Бухты обильно произрастал виноград. Когда в вертоградах среди красной листвы и темных гроздей мы слышали шутливую перебранку виноградарей, когда по городкам и деревням начинали скрипеть виноградные прессы и дурманящий аромат свежих перебродивших выжимок стелился над дворами, мы шли к трактирщикам, бочарам и виноделам и пили с ними молодое вино из пузатых кружек. Всегда встречали мы там веселых сотрапезников, ибо земля та богата и прекрасна, в ней процветает ничем не омраченный досуг, а острое словечко и душевное настроение ценятся наравне со звонкой монетой.
Вечер за вечером проводили мы за веселыми пирушками. В эти недели закутанные для маскировки в тряпье сторожа с трещотками и ружьями обходили с рассвета до глубокой ночи виноградники, отпугивая и отстреливая жадных до ягод птиц. Поздно ночью сторожа возвращались с гирляндами нанизанных на бечевки перепелов, дроздов и мухоловок, и очень скоро их добыча, завернутая в виноградные листья и разложенная по блюдам, оказывалась на столе. С удовольствием ели мы и жареные каштаны, и молодые орехи, запивая их новым вином, но самым лакомым блюдом были отменные грибы, на которых местные охотятся в лесах с собаками – белые трюфели, изысканные сморчки и цезарские грибы.
Пока вино было еще сладким, медового цвета, мы дружно сидели за столами, занимая себя задушевными разговорами и панибратски приобнимая соседа за плечо. Однако как только вино начинало действовать и выделять земляные тона, неодолимо пробуждались духи жизни. Тогда случались блистательные поединки, исход которых решало главное оружие – смех; сходились в этих поединках бойцы, отличавшиеся свободомыслием, каковое приобретается только за долгую, не обремененную тяжкими трудами жизнь.
Но превыше этих часов, протекавших в искрящемся настроении, ценили мы тихое возвращение домой по садам и полям в глубоком омуте опьянения, когда на пестрых листьях уже начинала проступать утренняя роса. Пройдя через Петушиные ворота маленького городка, мы видели справа светящийся берег моря, а слева возвышались сиявшие в лунном свете мраморные утесы. Между скалами и морем тянулась цепь покрытых виноградниками холмов, в склонах которых терялась наша тропинка.
С этим путем связаны воспоминания о светлом и поразительном пробуждении, каковое одновременно внушало робость и вызывало светлую радость. Это было похоже на всплытие из глубин жизни на поверхность. Словно пробуждающий ото сна стук, из тьмы нашего пьяного сознания вдруг всплывала какая-нибудь картина – шест с бараньим рогом, который крестьянин втыкает в землю, или желтоглазый филин, усевшийся на конек амбара, или метеор, чиркнувший по своду небес. Мы всегда застывали на месте, словно окаменев, и внезапный холод леденил нам кровь. Потом нам начинало казаться, что мы обрели новое чувство, позволяющее нам обозревать страну; мы смотрели на мир, и глазам нашим была дана сила видеть светящиеся жилы золота и хрусталя под остекленевшей прозрачной землей. Потом случалось чудо – серые и призрачные, подступали к нам исконные духи страны, обитавшие здесь с незапамятных времен – до того, как впервые раздался звон колоколов монастырской церкви, до того, как плуг поднял здесь первый пласт земли. Они приближались к нам медленно, неторопливо, с грубыми одеревенелыми лицами, выражение которых было непостижимым образом одновременно веселым и непередаваемо страшным; и это зрелище одновременно пугало и глубоко трогало наши сердца. Порою нам казалось, будто духи хотят заговорить, но очень скоро они рассеивались словно дым.
Мы молча проходили короткий отрезок пути к Рутовой обители. Когда в Библиотеке загорался свет, мы смотрели друг на друга, и я замечал возвышенное свечение на лице брата Ото. Это зеркало говорило мне, что встреча наша – не плод иллюзии. Не проронив ни слова, мы пожимали друг другу руки, и я поднимался в Гербарий. Мы и потом не говорили об этом.
Наверху я еще долго сидел у открытого окна, радуясь и всем сердцем чувствуя, как материя жизни золотыми нитями разматывается с веретена. Потом над Плоскогорьем всходило солнце и ярко освещало страну до самой границы с Бургундией. Суровые обрывистые скалы и ледники искристо переливались оттенками белого и красного света и, дрожа, отражались в зеленом зеркале бухты.
На заостренном фронтоне крыши обители принимались хлопотать горихвостки – им надо было кормить второй выводок; птенцы тонко попискивали, словно кто-то невидимый точил крошечные ножички. Из прибрежных камышовых зарослей вереницами поднимались утки, а в винограднике зяблик и щегол склевывали последние ягоды. Потом я слышал, как открывалась дверь Библиотеки и брат Ото выходил в сад полюбоваться на лилии.
2
Однако весной мы кутили как последние дураки, так уж искони заведено в той стороне. Мы закутывались в пестрые балахоны, изорванная материя которых просвечивала, как птичье оперение, и вешали на лица твердые маски в виде птичьих клювов. Затем мы пускались в шутовской пляс, размахивая руками, словно крыльями, и продвигались к городку, где у Старого рынка было воздвигнуто высокое Дурацкое дерево. Там при свете факелов начиналось масочное шествие; мужчины шли, изображая птиц, а женщины блистали роскошными одеяниями прошлых столетий. Пронзительными, делано высокими голосами, напоминавшими звук часов с музыкальным боем, они выкрикивали нам сальные шуточки, а мы отвечали им пронзительным птичьим криком. Из шинков и кабачков, заманивая всю эту по-птичьи оперенную братию, звучала дикая какофония писка флейт, визжавших как щеглы, совиного жужжания цитр и ревущих как глухари на току скрипок, которыми вся эта хмельная корпорация сопровождала свои непристойные вирши. Мы с братом Ото присоединились к черным дятлам, которые отбивали ритм своего марша ударами поварешек по деревянным плошкам; мы вершили шутовской суд и расправу. Пить здесь надо было аккуратно, ибо вино нам приходилось всасывать через соломинку, пропущенную сквозь отверстия клюва. Когда у нас начинали болеть головы, мы освежались прогулкой по садам и могилам возле городского вала, восторгались танцплощадками или, уйдя в сень какого-нибудь трактира и скинув опостылевшие маски, уплетали в компании какой-нибудь разбитной девицы прямо со сковородки блюдо из приготовленных по-бургундски улиток.
Везде до рассвета звучал в ночи сплошной птичий гвалт – в темных переулках и на берегу Большой Бухты, в каштановых рощах и виноградниках, этот крик доносился с украшенных фонариками гондол, скользивших по водной глади; да что там, птицы орали даже на кладбищах, среди кипарисов. И все время, словно эхо этого гомона, был слышен панический крик, отвечавший птицам. Женщины нашего края невероятно красивы и исполнены расточительной силы, которую Старый Застрельщик называет бескорыстной добродетелью.
Знаете ли, не боль и горести этой жизни, но ее мужество и необузданная полнота, когда мы вспоминаем о ней, заставляют нас едва сдерживать слезы. Эта игра голосов до сих пор явственно звучит у меня в ушах, и прежде всего тот сдавленный крик, которым встретила меня на валу Лоретта. Несмотря на то, что ее тело скрывал белый, отороченный золотом кринолин, а лицо пряталось за перламутровой маской, я немедленно узнал ее по грациозным движениям бедер даже в темноте аллеи и притаился за деревом. Я напугал ее диким хохотом дятла и бросился преследовать ее, исступленно размахивая при этом черными рукавами драного балахона. Наверху, там, где в винограднике стоит римский межевой камень, я поймал выбившуюся из сил Лоретту и, трепеща, обнял ее руками, склонив к ней огненно-красную личину. Когда я, словно во сне и во власти какого-то волшебства, ощутил, как она притихла в моих объятиях, меня вдруг охватила жалость, и я, улыбаясь, сдвинул птичью маску на лоб.
Она тоже заулыбалась и нежно приложила ладонь к моим губам – так нежно, что я в тишине ощущал лишь свое дыхание, веявшее сквозь ее пальцы.
3
Впрочем, в нашей Рутовой обители мы жили – изо дня в день – довольно замкнуто. Обитель стояла на краю мраморного утеса, посередине одного из скалистых островов, которые там и сям попадаются на глаза наблюдателю, разрывая зеленый покров виноградников. Вертоград был обнесен невысокой каменной оградой, а края ветхой стены заросли дикой травой, которая обожает жирный чернозем горных виноградников. Ранней весной здесь цвели синие гроздья мускатного гиацинта, а осенью нас радовал своими яркими, как фонарики, красными плодами физалис. Однако все время, независимо от сезона, дом и сад были окружены серебристо-зеленым кустарником, листья которого в разгар солнечного дня источали замысловатый аромат.
В полдень, когда от жары сморщивались виноградины, в обители царила освежающая прохлада, и не только потому, что пол на южный манер был выложен мозаичной плиткой, но и потому, что некоторые помещения дома были вырублены в скале. Однако в такие дни я с большей охотой отдыхал, лежа на террасе, и сонно прислушивался к дребезжащему стрекотанию цикад. Потом на сад обрушивались мотыльки, облетавшие зонтики дикой моркови, а среди уступов скал грелись на горячих от солнца камнях перламутровые ящерицы. И, наконец, когда белый песок змеиной тропы вспыхивал раскаленным пламенем, на нее лениво выползали гадюки, и очень скоро вся тропа покрывалась их телами, словно иероглифической вязью. Мы не испытывали перед этими тварями, кои в великом множестве гнездились в расщелинах и трещинах скал, окружавших обитель, ни малейшего страха; скорее они днем доставляли нам наслаждение своим разноцветным блеском, а ночью услаждали наш слух тонким мелодичным свистом, которым обычно сопровождаются их любовные игры. Часто, подбирая полы одежды, мы просто перешагивали через них, а когда собирались принимать гостей, боявшихся змей, то просто отбрасывали их ногами с дороги. По змеиной тропе мы всегда ходили с гостями, взявшись за руки, и частенько я замечал, что ощущение свободы и поистине хореографической уверенности, испытываемое нами на этой дороге, передавалось и им.
Многое содействовало нашим доверительным отношениям со змеями, но, если бы не Лампуза, наша старая кухарка, мы едва ли познакомились бы с их повадками. Покуда длилось лето, Лампуза каждый вечер выставляла для них у входа на кухню серебряный котелок, полный молока, а потом негромким голосом подзывала этих тварей. Тогда из всех углов сада, в последних лучах заходящего солнца, выползали золотистые извивающиеся змеи, светившиеся на фоне чернозема лилейных клумб и подушек виноградного плюща, и выше, в кустах орешника и бузины. Потом эти существа огненным колесом укладывались вокруг котелка и питались дарами Лампузы.
Принося эту жертву, Лампуза неизменно держала на руках маленького Эрио, который поддерживал зов поварихи своим слабеньким голоском. Каково же было мое удивление, когда однажды вечером я увидел, как это едва научившееся ходить дитя волочило из кухни котелок. Вытащив его на лужайку, ребенок постучал по краю посудины деревянной ложкой, и тотчас из расщелин мраморных утесов со всех сторон поползли, блестя на солнце, красноватые змеи. Словно в кошмарном сне услышал я смех маленького Эрио, стоявшего среди змей на глинистой земле кухонного двора. Гады облепили его маленькое тельце и быстрыми движениями раскачивались своими тяжелыми треугольными головами над его макушкой. Я стоял на балконе, не осмеливаясь окликнуть моего Эрио, как не осмеливаемся мы окликать сомнамбулу, идущего по краю кровли. Но тут я увидел стоявшую в дверях кухни старуху – Лампузу, которая, скрестив руки на груди, улыбалась, и улыбка эта вселила в меня уверенность, что никакая опасность малышу не грозит.
С того достопамятного вечера и стал Эрио для нас звонарем к вечерне. Едва заслышав звон котелка, мы откладывали работу, чтобы засвидетельствовать его жертвоприношение. Брат Ото спешил из своей Библиотеки, а я из Гербария на внутренний балкон, да и Лампуза отрывалась от плиты и с нежной горделивостью взирала на дитя. Мы поистине наслаждались тем усердием, с каким он держал в повиновении этих тварей. Очень скоро Эрио мог назвать каждую змею по имени, семеня среди пресмыкающихся в своей голубой бархатной курточке с позолотой. Мальчик тщательно следил за тем, чтобы каждая змея получила свое молоко, для чего расчищал путь к котелку опоздавшим гадюкам. Для этого он отгонял насытившихся змей ударами деревянной ложки по головам или просто отталкивал их в сторону, если они не спешили освободить место. Эрио хватал их за верхнюю часть шеи и изо всей силы отшвыривал прочь. Как бы грубо ни обращался Эрио с гадюками, звери эти вели себя с ним ласково и смиренно, даже во время линьки, когда змеи становятся очень чувствительными. В это время пастухи не гоняли стада вдоль мраморных утесов на выгон, ибо от укусов гадюк, словно пораженные молнией, замертво валились наземь самые здоровенные быки.
Больше других Эрио любил самую крупную, самую красивую змею, которую мы с братом Ото окрестили Грифонихой, и которая, как можно было заключить из рассказов виноградарей, с давних пор жила в ущельях. Тело копьеголовых гадюк окрашено в металлический красноватый цвет, а поверх этой окраски, словно чешуйки, разбросаны пятна цвета светлой латуни. У нашей Грифонихи преобладал, однако, чистый золотистый оттенок, переходивший у головы в ювелирно-изумрудный цвет, становившийся наиболее сочным на самой голове. В гневе Грифониха раздувала шею в щиток, который угрожающе сверкал на солнце, как золоченое зеркало. Нам казалось, что остальные змеи выказывают ей известное почтение, ибо никто из гадюк не осмеливался приблизиться к котелку до тех пор, пока золотая змея не утоляла свою жажду. Потом мы заметили, что Эрио часто играл с нею, а змея терлась о его курточку своей острой головой.
Когда действо заканчивалось, Лампуза приносила нам к вечерне две чаши простого вина и два ломтя черного соленого хлеба.
4
С террасы в Библиотеку вела стеклянная дверь. В прекрасные утренние часы дверь эта была всегда широко распахнута, и брат Ото сидел за своим огромным столом, как будто в саду. Я всегда с удовольствием заглядывал в этот кабинет, на потолке которого играли зеленые тени листвы, а тишину лишь подчеркивали щебет молодых птиц и жужжание пчел.
У окна на мольберте покоилась большая чертежная доска, а вдоль стен до самого потолка высились ряды книг. Самый нижний помещался на высокой полке, сработанной специально для фолиантов – громадного «Hortus plantarum mundi»[1 - «Сад растений мира» (лат.). – Здесь и далее примечания редактора.] и красочно проиллюстрированных от руки сочинений; такого уже давно никто не печатает. Над этой нижней полкой выступали высокие репозитории, казавшиеся еще более широкими из-за выдвижных полок. Репозитории служили хранилищем пожелтевших листов гербариев. На досках помещалось также собрание окаменевших отпечатков растений, которые мы вырубали в известковых и угольных карьерах. Между этими окаменелостями красовались и великолепные кристаллы, служившие украшениями, которые можно было неторопливо разглядывать на ладони во время вдумчивых бесед. Над коллекцией стояли тома меньшего размера – не слишком обширное ботаническое собрание, но с исчерпывающей подборкой литературы о лилиях. Этот ряд книг делился на три раздела – на сочинения, посвященные форме, цвету и аромату цветов.
Ряды книг располагались также и в небольшом зале, на лестнице, ведущей наверх и дальше, до самого Гербария. Здесь располагались сочинения Отцов Церкви, мыслителей и классических авторов древнего и нового времени, а самое главное, собрание всякого рода словарей и энциклопедий. Вечерами мы встречались с братом Ото в маленьком зале, где в камине на сухих виноградных стеблях плясали веселые огоньки. Если за день работа удавалась, то мы предавались непринужденным праздным разговорам, ведя которые собеседники шагают проторенными путями, отдавая должное датам и признавая авторитеты. Мы шутили по поводу разных научных мелочей, играли с редкими или абсурдными цитатами. В этих забавах большим подспорьем для нас был легион немых, переплетенных в кожу или пергамент рабов.
По большей части я ранним утром поднимался в Гербарий, где работал до поздней ночи. Когда мы поселились в доме, мы обшили деревом пол, на который установили длинные ряды шкафов. На полках громоздились тысячи перевязанных листов с гербариями. Лишь малую их толику собрали мы; большую часть их собрали давно истлевшие руки. Иногда, в поисках какого-нибудь растения, я натыкался на порыжевший от древности лист, выцветшее наименование которого было начертано еще рукой великого Линнея. В эти ночные и предутренние часы я дополнял старые и заводил новые карточки к указателю объемистого каталога коллекции и к указателю «Малой Флоры», куда мы прилежно заносили все находки в районе Бухты. На следующий день брат Ото просматривал листочки, сверяясь с книгами, помечал находки более подробно и раскрашивал. Так продвигалась наша работа, каковая в самом своем начале уже приносила нам истинное наслаждение.
Когда мы удовлетворены, наш разум довольствуется даже малыми дарами этого мира. С давних пор испытываю я трепет перед царством растений и много лет посвятил путешествиям, во время которых выискивал его чудеса. Мне отлично знакомы мгновения, когда замирает сердце при виде раскрывающейся бездны, прячущейся в плодоносящем зерне. Именно поэтому роскошь растительной жизни нигде не была мне ближе, чем на этом дощатом полу, пропитанном запахом давно увядшей зелени.
Прежде чем улечься, я еще некоторое время расхаживал взад-вперед по узкому коридору, где растения часто казались мне светлее и великолепнее, чем где бы то ни было. Издалека ощущался аромат поросших белым шиповником долин, которым упивался я ранней весной в Arabia deserta[2 - Аравийская пустыня (лат.).], доносился и аромат ванили, столь великолепно освежающий путника в беспощадном зное лишенного тени канделябрового леса. Затем снова, словно страницы старой книги, раскрываются воспоминания о часах буйного изобилия – о горячих болотах, где цвела victoria regia[3 - Виктория амазонская (лат.).], о рощах, которые бледными пятнами горят в лучах полуденного солнца далеко за прибрежными пальмами. Но мне недоставало страха, охватывающего нас всякий раз, как оказываемся мы перед избытком растительности, как перед образом богини, влекущей нас мановением тысячи своих рук. Я чувствовал, всей душой ощущал, как по мере наших штудий росли и наши силы противостоять жаркой жизненной силе, укрощать ее и вести, как ведут под уздцы норовистого коня.
Часто уже начинал брезжить рассвет, когда я вытягивался на узкой походной кровати, разложенной в Гербарии.
5
Кухня Лампузы вдавалась в мраморную скалу. В древности такие пещеры служили защитой и убежищем пастухам, а в более поздние времена вокруг этих циклопических палат вырастали усадебные пристройки. Спозаранку можно было видеть старуху у горящей плиты – она варила утренний супчик для Эрио. К кухонному помещению с очагом примыкали другие сводчатые залы, где пахло молоком, фруктами и разлитым вином. Я редко бывал в этой части обители, ибо Лампуза вызывала во мне чувства, которые я предпочел бы никогда не испытывать. Зато Эрио знал здесь каждый закоулок.
Частенько видел я и брата Ото, стоявшего рядом со старухой у очага. Именно ему, брату Ото, обязан я тем счастьем, что выпало мне на долю в лице Эрио, плода любви Сильвии, дочери Лампузы. Служили мы тогда в Пурпурном рейтарском полку и участвовали в походе за свободный народ Плоскогорья – поход этот, правда, кончился неудачей. Часто, подъезжая к перевалам, видели мы Лампузу у дверей ее хижины, а рядом с ней стройную Сильвию в красном платке и красной юбке. Брат Ото был рядом, когда я подобрал в пыли гвоздику, вынутую Сильвией из волос и брошенную на дорогу; он и предостерег меня по пути, чтобы не путался я со старой и юной ведьмами, и вид у него был при этом хоть и насмешливый, но очень обеспокоенный. Но куда больше огорчал меня смех, с каким Лампуза мерила меня взглядом, взглядом бесстыдной сводницы. Но что поделать – очень скоро я вошел в эту хижину и вышел из нее.
Когда мы, отступая, вновь проезжали через Бухту и въехали в обитель, мы узнали о рождении ребенка, а еще о том, что Сильвия оставила его и ушла прочь с чужими людьми. Эта новость оказалась для меня очень некстати, и прежде всего потому, что дошла она до меня в самом начале того времени, какое – после всех горестей и мук войны – как нельзя более подходило для безмятежных штудий.
По этой причине поручил я брату Ото от моего имени навестить Лампузу, поговорить с ней и дать ей возмещение, какое он сочтет уместным. Как же сильно был я удивлен, узнав, что он немедленно взял дитя и ее самое на наше содержание; но, вопреки моим опасениям, шаг этот очень скоро оказался для нас сущим благословением. И поскольку, как это водится, правильное решение отличается, в частности, тем, что позволяет покончить с прошлым, постольку теперь любовь Сильвии представилась мне совершенно в ином свете. Я признал, что с предубеждением отнесся к ней и ее матери, и что я – как легко ее нашел, так легкомысленно с нею и обошелся, как обходятся с лежащим на дороге алмазом, принимая его за простую стекляшку. Но ведь все ценное и дорогое достается нам игрой случая, а самое лучшее – так просто даром. Для этого, правда, – и так уж оно сложилось само – потребовались непосредственность и естественная простота брата Ото, столь ему свойственные. Основной его принцип заключался в том, что всех людей, какие приближались к нашей обители, он считал редкими и драгоценными находками, подобными тем, какие делают в дальних экзотических странствиях. Он с удовольствием называл всех людей оптиматами, дабы подчеркнуть, что все они просто в силу рождения уже достойны права быть причисленными к мировой аристократии и что каждый из них может пожертвовать ради нас чем-то высшим. Он почитал их как конобы волшебства и чудес и признавал за ними высочайшее достоинство, за которым закреплены поистине княжеские права и привилегии. И в самом деле, примечал я, что все, кто к нему приближались, распускались, как просыпаются растения после зимнего сна, – нет, они не становились лучше, они просто становились самими собой.
Эрнст Юнгер
Эксклюзивная классика (АСТ)
Книга, исключительная по значимости для европейской литературы – и как один из лучших образцов немецкоязычного модернизма, и как одна из самых ярких антиутопий ХХ века. Роман, в котором в полной мере отразилось критическое отношение автора к идеям национал-социализма.
Странное государство Большая Бухта, существующее словно бы вне пространств и времен и как бы застывшее в реалиях позднего Средневековья. Государство, существовавшее достаточно благополучно, пока к власти не пришел циничный, умный и жестокий Старший Лесничий, больше всего на свете ненавидящий красоту, поскольку именно в ней он видит эстетическое выражение свободы.
Теперь хода событий уже не остановить. Безымянный рассказчик и его брат, укрывшись на мраморных утесах, ведут сопротивление, пытаясь противостоять разрушению культуры для грядущего ее возрождения…
Эрнст Юнгер
На мраморных утесах
© Ernst J?nger, Auf den Marmorklippen. S?mtliche Werke (PB) vol. 18, Klett-Cotta, Stuttgart 2015
© Klett-Cotta – J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart, 1939, 1978
© Перевод. А. Анваер, 2022
© Перевод стихов, Н. Сидемон-Эристави, 2022
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
1
Всем вам знакома безмерная тоска, что охватывает нас при воспоминании о поре былого счастья. Оно миновало безвозвратно, и наш отрыв от него немилосерднее любой разлуки. Тогда нас манит еще сильнее эхо картин: мы думаем о них, как о теле умершей возлюбленной, которое покоится глубоко в земле и теперь словно мираж предстает перед нами во всем своем возвышенном и одухотворенном великолепии. Снова и снова мы страстно алчем в наших грезах коснуться всех моментов прошлого, проникнуть во все его складки. Нам кажется, что не исполнили мы до конца меру жизни и любви, но уже никакое раскаяние не вернет нам утраченного. О, пусть это чувство служит нам уроком в каждый миг счастья!
И еще сладостнее становятся воспоминания о наших лунных и солнечных годах, когда они заканчивались внезапными ужасами бедствий. Только тогда понимаем мы, какой счастливый жребий выпадает нам, людям, когда мы живем год за годом в наших маленьких общинах, под мирной крышей, проводя время за задушевными беседами и приветствуя друг друга утром и вечером пожеланиями добра. Ах, мы всегда запоздало осознаем, что именно тогда изливались на нас все успехи точно из бездонного рога изобилия.
Вот так думаю и я о тех временах, когда жили мы у Большой Бухты – лишь в воспоминании предстает передо мной их очарование. Разумеется, тогда мне казалось, что наши дни омрачало множество горестей и печалей, а пуще всего приходилось быть настороже перед Старшим Лесничим. Жили мы поэтому в известной строгости, одевались просто и скромно, хотя никакие обеты и клятвы нас не связывали. Но тем не менее дважды в год мы отдавали должное красной еде – один раз весной, один раз осенью.
Осенью мы пировали как мудрецы и совершали возлияния изысканным вином, благо на южных склонах Большой Бухты обильно произрастал виноград. Когда в вертоградах среди красной листвы и темных гроздей мы слышали шутливую перебранку виноградарей, когда по городкам и деревням начинали скрипеть виноградные прессы и дурманящий аромат свежих перебродивших выжимок стелился над дворами, мы шли к трактирщикам, бочарам и виноделам и пили с ними молодое вино из пузатых кружек. Всегда встречали мы там веселых сотрапезников, ибо земля та богата и прекрасна, в ней процветает ничем не омраченный досуг, а острое словечко и душевное настроение ценятся наравне со звонкой монетой.
Вечер за вечером проводили мы за веселыми пирушками. В эти недели закутанные для маскировки в тряпье сторожа с трещотками и ружьями обходили с рассвета до глубокой ночи виноградники, отпугивая и отстреливая жадных до ягод птиц. Поздно ночью сторожа возвращались с гирляндами нанизанных на бечевки перепелов, дроздов и мухоловок, и очень скоро их добыча, завернутая в виноградные листья и разложенная по блюдам, оказывалась на столе. С удовольствием ели мы и жареные каштаны, и молодые орехи, запивая их новым вином, но самым лакомым блюдом были отменные грибы, на которых местные охотятся в лесах с собаками – белые трюфели, изысканные сморчки и цезарские грибы.
Пока вино было еще сладким, медового цвета, мы дружно сидели за столами, занимая себя задушевными разговорами и панибратски приобнимая соседа за плечо. Однако как только вино начинало действовать и выделять земляные тона, неодолимо пробуждались духи жизни. Тогда случались блистательные поединки, исход которых решало главное оружие – смех; сходились в этих поединках бойцы, отличавшиеся свободомыслием, каковое приобретается только за долгую, не обремененную тяжкими трудами жизнь.
Но превыше этих часов, протекавших в искрящемся настроении, ценили мы тихое возвращение домой по садам и полям в глубоком омуте опьянения, когда на пестрых листьях уже начинала проступать утренняя роса. Пройдя через Петушиные ворота маленького городка, мы видели справа светящийся берег моря, а слева возвышались сиявшие в лунном свете мраморные утесы. Между скалами и морем тянулась цепь покрытых виноградниками холмов, в склонах которых терялась наша тропинка.
С этим путем связаны воспоминания о светлом и поразительном пробуждении, каковое одновременно внушало робость и вызывало светлую радость. Это было похоже на всплытие из глубин жизни на поверхность. Словно пробуждающий ото сна стук, из тьмы нашего пьяного сознания вдруг всплывала какая-нибудь картина – шест с бараньим рогом, который крестьянин втыкает в землю, или желтоглазый филин, усевшийся на конек амбара, или метеор, чиркнувший по своду небес. Мы всегда застывали на месте, словно окаменев, и внезапный холод леденил нам кровь. Потом нам начинало казаться, что мы обрели новое чувство, позволяющее нам обозревать страну; мы смотрели на мир, и глазам нашим была дана сила видеть светящиеся жилы золота и хрусталя под остекленевшей прозрачной землей. Потом случалось чудо – серые и призрачные, подступали к нам исконные духи страны, обитавшие здесь с незапамятных времен – до того, как впервые раздался звон колоколов монастырской церкви, до того, как плуг поднял здесь первый пласт земли. Они приближались к нам медленно, неторопливо, с грубыми одеревенелыми лицами, выражение которых было непостижимым образом одновременно веселым и непередаваемо страшным; и это зрелище одновременно пугало и глубоко трогало наши сердца. Порою нам казалось, будто духи хотят заговорить, но очень скоро они рассеивались словно дым.
Мы молча проходили короткий отрезок пути к Рутовой обители. Когда в Библиотеке загорался свет, мы смотрели друг на друга, и я замечал возвышенное свечение на лице брата Ото. Это зеркало говорило мне, что встреча наша – не плод иллюзии. Не проронив ни слова, мы пожимали друг другу руки, и я поднимался в Гербарий. Мы и потом не говорили об этом.
Наверху я еще долго сидел у открытого окна, радуясь и всем сердцем чувствуя, как материя жизни золотыми нитями разматывается с веретена. Потом над Плоскогорьем всходило солнце и ярко освещало страну до самой границы с Бургундией. Суровые обрывистые скалы и ледники искристо переливались оттенками белого и красного света и, дрожа, отражались в зеленом зеркале бухты.
На заостренном фронтоне крыши обители принимались хлопотать горихвостки – им надо было кормить второй выводок; птенцы тонко попискивали, словно кто-то невидимый точил крошечные ножички. Из прибрежных камышовых зарослей вереницами поднимались утки, а в винограднике зяблик и щегол склевывали последние ягоды. Потом я слышал, как открывалась дверь Библиотеки и брат Ото выходил в сад полюбоваться на лилии.
2
Однако весной мы кутили как последние дураки, так уж искони заведено в той стороне. Мы закутывались в пестрые балахоны, изорванная материя которых просвечивала, как птичье оперение, и вешали на лица твердые маски в виде птичьих клювов. Затем мы пускались в шутовской пляс, размахивая руками, словно крыльями, и продвигались к городку, где у Старого рынка было воздвигнуто высокое Дурацкое дерево. Там при свете факелов начиналось масочное шествие; мужчины шли, изображая птиц, а женщины блистали роскошными одеяниями прошлых столетий. Пронзительными, делано высокими голосами, напоминавшими звук часов с музыкальным боем, они выкрикивали нам сальные шуточки, а мы отвечали им пронзительным птичьим криком. Из шинков и кабачков, заманивая всю эту по-птичьи оперенную братию, звучала дикая какофония писка флейт, визжавших как щеглы, совиного жужжания цитр и ревущих как глухари на току скрипок, которыми вся эта хмельная корпорация сопровождала свои непристойные вирши. Мы с братом Ото присоединились к черным дятлам, которые отбивали ритм своего марша ударами поварешек по деревянным плошкам; мы вершили шутовской суд и расправу. Пить здесь надо было аккуратно, ибо вино нам приходилось всасывать через соломинку, пропущенную сквозь отверстия клюва. Когда у нас начинали болеть головы, мы освежались прогулкой по садам и могилам возле городского вала, восторгались танцплощадками или, уйдя в сень какого-нибудь трактира и скинув опостылевшие маски, уплетали в компании какой-нибудь разбитной девицы прямо со сковородки блюдо из приготовленных по-бургундски улиток.
Везде до рассвета звучал в ночи сплошной птичий гвалт – в темных переулках и на берегу Большой Бухты, в каштановых рощах и виноградниках, этот крик доносился с украшенных фонариками гондол, скользивших по водной глади; да что там, птицы орали даже на кладбищах, среди кипарисов. И все время, словно эхо этого гомона, был слышен панический крик, отвечавший птицам. Женщины нашего края невероятно красивы и исполнены расточительной силы, которую Старый Застрельщик называет бескорыстной добродетелью.
Знаете ли, не боль и горести этой жизни, но ее мужество и необузданная полнота, когда мы вспоминаем о ней, заставляют нас едва сдерживать слезы. Эта игра голосов до сих пор явственно звучит у меня в ушах, и прежде всего тот сдавленный крик, которым встретила меня на валу Лоретта. Несмотря на то, что ее тело скрывал белый, отороченный золотом кринолин, а лицо пряталось за перламутровой маской, я немедленно узнал ее по грациозным движениям бедер даже в темноте аллеи и притаился за деревом. Я напугал ее диким хохотом дятла и бросился преследовать ее, исступленно размахивая при этом черными рукавами драного балахона. Наверху, там, где в винограднике стоит римский межевой камень, я поймал выбившуюся из сил Лоретту и, трепеща, обнял ее руками, склонив к ней огненно-красную личину. Когда я, словно во сне и во власти какого-то волшебства, ощутил, как она притихла в моих объятиях, меня вдруг охватила жалость, и я, улыбаясь, сдвинул птичью маску на лоб.
Она тоже заулыбалась и нежно приложила ладонь к моим губам – так нежно, что я в тишине ощущал лишь свое дыхание, веявшее сквозь ее пальцы.
3
Впрочем, в нашей Рутовой обители мы жили – изо дня в день – довольно замкнуто. Обитель стояла на краю мраморного утеса, посередине одного из скалистых островов, которые там и сям попадаются на глаза наблюдателю, разрывая зеленый покров виноградников. Вертоград был обнесен невысокой каменной оградой, а края ветхой стены заросли дикой травой, которая обожает жирный чернозем горных виноградников. Ранней весной здесь цвели синие гроздья мускатного гиацинта, а осенью нас радовал своими яркими, как фонарики, красными плодами физалис. Однако все время, независимо от сезона, дом и сад были окружены серебристо-зеленым кустарником, листья которого в разгар солнечного дня источали замысловатый аромат.
В полдень, когда от жары сморщивались виноградины, в обители царила освежающая прохлада, и не только потому, что пол на южный манер был выложен мозаичной плиткой, но и потому, что некоторые помещения дома были вырублены в скале. Однако в такие дни я с большей охотой отдыхал, лежа на террасе, и сонно прислушивался к дребезжащему стрекотанию цикад. Потом на сад обрушивались мотыльки, облетавшие зонтики дикой моркови, а среди уступов скал грелись на горячих от солнца камнях перламутровые ящерицы. И, наконец, когда белый песок змеиной тропы вспыхивал раскаленным пламенем, на нее лениво выползали гадюки, и очень скоро вся тропа покрывалась их телами, словно иероглифической вязью. Мы не испытывали перед этими тварями, кои в великом множестве гнездились в расщелинах и трещинах скал, окружавших обитель, ни малейшего страха; скорее они днем доставляли нам наслаждение своим разноцветным блеском, а ночью услаждали наш слух тонким мелодичным свистом, которым обычно сопровождаются их любовные игры. Часто, подбирая полы одежды, мы просто перешагивали через них, а когда собирались принимать гостей, боявшихся змей, то просто отбрасывали их ногами с дороги. По змеиной тропе мы всегда ходили с гостями, взявшись за руки, и частенько я замечал, что ощущение свободы и поистине хореографической уверенности, испытываемое нами на этой дороге, передавалось и им.
Многое содействовало нашим доверительным отношениям со змеями, но, если бы не Лампуза, наша старая кухарка, мы едва ли познакомились бы с их повадками. Покуда длилось лето, Лампуза каждый вечер выставляла для них у входа на кухню серебряный котелок, полный молока, а потом негромким голосом подзывала этих тварей. Тогда из всех углов сада, в последних лучах заходящего солнца, выползали золотистые извивающиеся змеи, светившиеся на фоне чернозема лилейных клумб и подушек виноградного плюща, и выше, в кустах орешника и бузины. Потом эти существа огненным колесом укладывались вокруг котелка и питались дарами Лампузы.
Принося эту жертву, Лампуза неизменно держала на руках маленького Эрио, который поддерживал зов поварихи своим слабеньким голоском. Каково же было мое удивление, когда однажды вечером я увидел, как это едва научившееся ходить дитя волочило из кухни котелок. Вытащив его на лужайку, ребенок постучал по краю посудины деревянной ложкой, и тотчас из расщелин мраморных утесов со всех сторон поползли, блестя на солнце, красноватые змеи. Словно в кошмарном сне услышал я смех маленького Эрио, стоявшего среди змей на глинистой земле кухонного двора. Гады облепили его маленькое тельце и быстрыми движениями раскачивались своими тяжелыми треугольными головами над его макушкой. Я стоял на балконе, не осмеливаясь окликнуть моего Эрио, как не осмеливаемся мы окликать сомнамбулу, идущего по краю кровли. Но тут я увидел стоявшую в дверях кухни старуху – Лампузу, которая, скрестив руки на груди, улыбалась, и улыбка эта вселила в меня уверенность, что никакая опасность малышу не грозит.
С того достопамятного вечера и стал Эрио для нас звонарем к вечерне. Едва заслышав звон котелка, мы откладывали работу, чтобы засвидетельствовать его жертвоприношение. Брат Ото спешил из своей Библиотеки, а я из Гербария на внутренний балкон, да и Лампуза отрывалась от плиты и с нежной горделивостью взирала на дитя. Мы поистине наслаждались тем усердием, с каким он держал в повиновении этих тварей. Очень скоро Эрио мог назвать каждую змею по имени, семеня среди пресмыкающихся в своей голубой бархатной курточке с позолотой. Мальчик тщательно следил за тем, чтобы каждая змея получила свое молоко, для чего расчищал путь к котелку опоздавшим гадюкам. Для этого он отгонял насытившихся змей ударами деревянной ложки по головам или просто отталкивал их в сторону, если они не спешили освободить место. Эрио хватал их за верхнюю часть шеи и изо всей силы отшвыривал прочь. Как бы грубо ни обращался Эрио с гадюками, звери эти вели себя с ним ласково и смиренно, даже во время линьки, когда змеи становятся очень чувствительными. В это время пастухи не гоняли стада вдоль мраморных утесов на выгон, ибо от укусов гадюк, словно пораженные молнией, замертво валились наземь самые здоровенные быки.
Больше других Эрио любил самую крупную, самую красивую змею, которую мы с братом Ото окрестили Грифонихой, и которая, как можно было заключить из рассказов виноградарей, с давних пор жила в ущельях. Тело копьеголовых гадюк окрашено в металлический красноватый цвет, а поверх этой окраски, словно чешуйки, разбросаны пятна цвета светлой латуни. У нашей Грифонихи преобладал, однако, чистый золотистый оттенок, переходивший у головы в ювелирно-изумрудный цвет, становившийся наиболее сочным на самой голове. В гневе Грифониха раздувала шею в щиток, который угрожающе сверкал на солнце, как золоченое зеркало. Нам казалось, что остальные змеи выказывают ей известное почтение, ибо никто из гадюк не осмеливался приблизиться к котелку до тех пор, пока золотая змея не утоляла свою жажду. Потом мы заметили, что Эрио часто играл с нею, а змея терлась о его курточку своей острой головой.
Когда действо заканчивалось, Лампуза приносила нам к вечерне две чаши простого вина и два ломтя черного соленого хлеба.
4
С террасы в Библиотеку вела стеклянная дверь. В прекрасные утренние часы дверь эта была всегда широко распахнута, и брат Ото сидел за своим огромным столом, как будто в саду. Я всегда с удовольствием заглядывал в этот кабинет, на потолке которого играли зеленые тени листвы, а тишину лишь подчеркивали щебет молодых птиц и жужжание пчел.
У окна на мольберте покоилась большая чертежная доска, а вдоль стен до самого потолка высились ряды книг. Самый нижний помещался на высокой полке, сработанной специально для фолиантов – громадного «Hortus plantarum mundi»[1 - «Сад растений мира» (лат.). – Здесь и далее примечания редактора.] и красочно проиллюстрированных от руки сочинений; такого уже давно никто не печатает. Над этой нижней полкой выступали высокие репозитории, казавшиеся еще более широкими из-за выдвижных полок. Репозитории служили хранилищем пожелтевших листов гербариев. На досках помещалось также собрание окаменевших отпечатков растений, которые мы вырубали в известковых и угольных карьерах. Между этими окаменелостями красовались и великолепные кристаллы, служившие украшениями, которые можно было неторопливо разглядывать на ладони во время вдумчивых бесед. Над коллекцией стояли тома меньшего размера – не слишком обширное ботаническое собрание, но с исчерпывающей подборкой литературы о лилиях. Этот ряд книг делился на три раздела – на сочинения, посвященные форме, цвету и аромату цветов.
Ряды книг располагались также и в небольшом зале, на лестнице, ведущей наверх и дальше, до самого Гербария. Здесь располагались сочинения Отцов Церкви, мыслителей и классических авторов древнего и нового времени, а самое главное, собрание всякого рода словарей и энциклопедий. Вечерами мы встречались с братом Ото в маленьком зале, где в камине на сухих виноградных стеблях плясали веселые огоньки. Если за день работа удавалась, то мы предавались непринужденным праздным разговорам, ведя которые собеседники шагают проторенными путями, отдавая должное датам и признавая авторитеты. Мы шутили по поводу разных научных мелочей, играли с редкими или абсурдными цитатами. В этих забавах большим подспорьем для нас был легион немых, переплетенных в кожу или пергамент рабов.
По большей части я ранним утром поднимался в Гербарий, где работал до поздней ночи. Когда мы поселились в доме, мы обшили деревом пол, на который установили длинные ряды шкафов. На полках громоздились тысячи перевязанных листов с гербариями. Лишь малую их толику собрали мы; большую часть их собрали давно истлевшие руки. Иногда, в поисках какого-нибудь растения, я натыкался на порыжевший от древности лист, выцветшее наименование которого было начертано еще рукой великого Линнея. В эти ночные и предутренние часы я дополнял старые и заводил новые карточки к указателю объемистого каталога коллекции и к указателю «Малой Флоры», куда мы прилежно заносили все находки в районе Бухты. На следующий день брат Ото просматривал листочки, сверяясь с книгами, помечал находки более подробно и раскрашивал. Так продвигалась наша работа, каковая в самом своем начале уже приносила нам истинное наслаждение.
Когда мы удовлетворены, наш разум довольствуется даже малыми дарами этого мира. С давних пор испытываю я трепет перед царством растений и много лет посвятил путешествиям, во время которых выискивал его чудеса. Мне отлично знакомы мгновения, когда замирает сердце при виде раскрывающейся бездны, прячущейся в плодоносящем зерне. Именно поэтому роскошь растительной жизни нигде не была мне ближе, чем на этом дощатом полу, пропитанном запахом давно увядшей зелени.
Прежде чем улечься, я еще некоторое время расхаживал взад-вперед по узкому коридору, где растения часто казались мне светлее и великолепнее, чем где бы то ни было. Издалека ощущался аромат поросших белым шиповником долин, которым упивался я ранней весной в Arabia deserta[2 - Аравийская пустыня (лат.).], доносился и аромат ванили, столь великолепно освежающий путника в беспощадном зное лишенного тени канделябрового леса. Затем снова, словно страницы старой книги, раскрываются воспоминания о часах буйного изобилия – о горячих болотах, где цвела victoria regia[3 - Виктория амазонская (лат.).], о рощах, которые бледными пятнами горят в лучах полуденного солнца далеко за прибрежными пальмами. Но мне недоставало страха, охватывающего нас всякий раз, как оказываемся мы перед избытком растительности, как перед образом богини, влекущей нас мановением тысячи своих рук. Я чувствовал, всей душой ощущал, как по мере наших штудий росли и наши силы противостоять жаркой жизненной силе, укрощать ее и вести, как ведут под уздцы норовистого коня.
Часто уже начинал брезжить рассвет, когда я вытягивался на узкой походной кровати, разложенной в Гербарии.
5
Кухня Лампузы вдавалась в мраморную скалу. В древности такие пещеры служили защитой и убежищем пастухам, а в более поздние времена вокруг этих циклопических палат вырастали усадебные пристройки. Спозаранку можно было видеть старуху у горящей плиты – она варила утренний супчик для Эрио. К кухонному помещению с очагом примыкали другие сводчатые залы, где пахло молоком, фруктами и разлитым вином. Я редко бывал в этой части обители, ибо Лампуза вызывала во мне чувства, которые я предпочел бы никогда не испытывать. Зато Эрио знал здесь каждый закоулок.
Частенько видел я и брата Ото, стоявшего рядом со старухой у очага. Именно ему, брату Ото, обязан я тем счастьем, что выпало мне на долю в лице Эрио, плода любви Сильвии, дочери Лампузы. Служили мы тогда в Пурпурном рейтарском полку и участвовали в походе за свободный народ Плоскогорья – поход этот, правда, кончился неудачей. Часто, подъезжая к перевалам, видели мы Лампузу у дверей ее хижины, а рядом с ней стройную Сильвию в красном платке и красной юбке. Брат Ото был рядом, когда я подобрал в пыли гвоздику, вынутую Сильвией из волос и брошенную на дорогу; он и предостерег меня по пути, чтобы не путался я со старой и юной ведьмами, и вид у него был при этом хоть и насмешливый, но очень обеспокоенный. Но куда больше огорчал меня смех, с каким Лампуза мерила меня взглядом, взглядом бесстыдной сводницы. Но что поделать – очень скоро я вошел в эту хижину и вышел из нее.
Когда мы, отступая, вновь проезжали через Бухту и въехали в обитель, мы узнали о рождении ребенка, а еще о том, что Сильвия оставила его и ушла прочь с чужими людьми. Эта новость оказалась для меня очень некстати, и прежде всего потому, что дошла она до меня в самом начале того времени, какое – после всех горестей и мук войны – как нельзя более подходило для безмятежных штудий.
По этой причине поручил я брату Ото от моего имени навестить Лампузу, поговорить с ней и дать ей возмещение, какое он сочтет уместным. Как же сильно был я удивлен, узнав, что он немедленно взял дитя и ее самое на наше содержание; но, вопреки моим опасениям, шаг этот очень скоро оказался для нас сущим благословением. И поскольку, как это водится, правильное решение отличается, в частности, тем, что позволяет покончить с прошлым, постольку теперь любовь Сильвии представилась мне совершенно в ином свете. Я признал, что с предубеждением отнесся к ней и ее матери, и что я – как легко ее нашел, так легкомысленно с нею и обошелся, как обходятся с лежащим на дороге алмазом, принимая его за простую стекляшку. Но ведь все ценное и дорогое достается нам игрой случая, а самое лучшее – так просто даром. Для этого, правда, – и так уж оно сложилось само – потребовались непосредственность и естественная простота брата Ото, столь ему свойственные. Основной его принцип заключался в том, что всех людей, какие приближались к нашей обители, он считал редкими и драгоценными находками, подобными тем, какие делают в дальних экзотических странствиях. Он с удовольствием называл всех людей оптиматами, дабы подчеркнуть, что все они просто в силу рождения уже достойны права быть причисленными к мировой аристократии и что каждый из них может пожертвовать ради нас чем-то высшим. Он почитал их как конобы волшебства и чудес и признавал за ними высочайшее достоинство, за которым закреплены поистине княжеские права и привилегии. И в самом деле, примечал я, что все, кто к нему приближались, распускались, как просыпаются растения после зимнего сна, – нет, они не становились лучше, они просто становились самими собой.