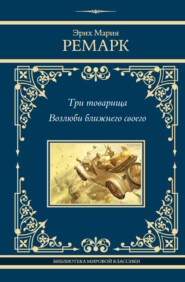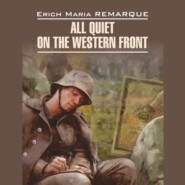По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Три товарища и другие романы
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Здесь марка пятьдесят…
– Не мели чепухи. Или у тебя еще молоко на губах не обсохло? Двадцать пфеннигов полагаются швейцару. Так что катись!
Бывало, что таксисты давали швейцарам на чай. Но это бывало, когда те приводили им выгодных клиентов, а не наоборот.
– Молоко-то как раз обсохло. Поэтому я получу марку семьдесят.
– Ты получишь в рыло! – рявкнул он. – Мотай, раз сказано! Я здесь не первый год и порядки знаю.
Дело было не в двадцати пфеннигах. Просто я не люблю, когда меня надувают.
– Не пой мне арии, – сказал я. – Отдавай остальные.
Швейцар ударил так резко, что я не успел прикрыться. Увернуться мне в машине и вовсе было некуда. Я врезался головой в баранку. В шоке отпрянул назад. Голова гудела, как барабан, из носа текло. Передо мной маячил швейцар.
– Навесить тебе еще, ты, труп кикиморы?
Я в долю секунды взвесил свои шансы. Ничего нельзя было сделать. Он был сильнее. Чтобы поймать такого на удар, нужно действовать неожиданно. Бить, сидя в машине, нельзя – удар не будет иметь силы. А пока вылезу, он трижды собьет меня с ног. Я смотрел на него. Он дышал мне в лицо пивным перегаром.
– Еще разок врежу – и жена твоя овдовеет.
Я смотрел на него. Только смотрел, не шевелясь, в это широкое, сытое мурло, пожирая его глазами. Я понимал, куда нужно бить, я был от ярости как стальная пружина. Но я не двигался. А только рассматривал эту харю, как в увеличительное стекло, – близко, отчетливо, крупным планом, каждый волосок щетины, каждую пору красной, обветренной кожи…
Блеснула каска полицейского.
– Что здесь происходит?
Швейцар придал лицу угодливое выражение.
– Ничего, господин вахмистр.
Полицейский посмотрел на меня.
– Ничего, – сказал я.
Он переводил взгляд с меня на швейцара.
– Ведь у вас кровь идет.
– Ударился.
Швейцар отступил на шаг. В его глазах играла усмешка. Он решил, что я просто побоялся донести на него.
– Тогда проезжайте, – сказал полицейский.
Я дал газ и поехал обратно на стоянку.
– Ну и видок у тебя, – сказал Густав.
– Пустяки, только нос, – ответил я и рассказал, как все было.
– Пойдем-ка в трактир, – сказал Густав. – Недаром я был санитаром на фронте. Какое, однако, свинство бить человека, когда он сидит.
Он отвел меня на кухню, потребовал льда и с полчаса возился со мной.
– Ну вот, – заявил он наконец, – теперь не останется и следа. Ну а как черепок? Не беспокоит? Тогда не будем терять времени.
Подошел Томми.
– Это такой верзила из «Винеты»? Бузила известный. Куражится, потому что ни разу не проучили.
– Ну, теперь он схлопочет, – сказал Густав.
– Да, но только от меня, – сказал я.
Густав недовольно взглянул на меня.
– Пока ты вылезешь из машины…
– А я кое-что придумал. Не получится – ты успеешь вмешаться.
– Ладно.
Я надел фуражку Густава, к тому же мы сели в его машину, чтобы усыпить внимание швейцара. Да и не разглядит он много в такой-то темноте.
Мы подъехали. На улице не было ни души.
Густав выскочил из машины, помахивая двадцатимарковой купюрой.
– Проклятие, опять нет мелких денег! Швейцар, разменяете? Сколько нужно? Марку семьдесят? Отдайте же ему, а я сейчас.
Он сделал вид, будто направился к кассе. Швейцар покашливая приблизился ко мне и протянул марку пятьдесят. Я продолжал держать вытянутую руку.
– Катись! – буркнул он.
– Гони монету, пес шелудивый! – рявкнул я.
На секунду он остолбенел. Потом слегка облизнул губы и вкрадчиво произнес:
– Пеняй на себя. Запомнишь надолго!
Он размахнулся. Он наверняка нокаутировал бы меня, но я был начеку: отклонился, пригнувшись, и его кулак со свистом пришелся на острые грани стальной заводной ручки, которую я незаметно держал наготове в левой руке. Швейцар взвыл и отскочил, тряся в воздухе рукой. Он шипел от боли, как паровая машина, и стоял совершенно открыто.
Я вылетел из машины.
– Узнал, скотина? – выдохнул я и ударил его в живот.
Он свалился.
– Не мели чепухи. Или у тебя еще молоко на губах не обсохло? Двадцать пфеннигов полагаются швейцару. Так что катись!
Бывало, что таксисты давали швейцарам на чай. Но это бывало, когда те приводили им выгодных клиентов, а не наоборот.
– Молоко-то как раз обсохло. Поэтому я получу марку семьдесят.
– Ты получишь в рыло! – рявкнул он. – Мотай, раз сказано! Я здесь не первый год и порядки знаю.
Дело было не в двадцати пфеннигах. Просто я не люблю, когда меня надувают.
– Не пой мне арии, – сказал я. – Отдавай остальные.
Швейцар ударил так резко, что я не успел прикрыться. Увернуться мне в машине и вовсе было некуда. Я врезался головой в баранку. В шоке отпрянул назад. Голова гудела, как барабан, из носа текло. Передо мной маячил швейцар.
– Навесить тебе еще, ты, труп кикиморы?
Я в долю секунды взвесил свои шансы. Ничего нельзя было сделать. Он был сильнее. Чтобы поймать такого на удар, нужно действовать неожиданно. Бить, сидя в машине, нельзя – удар не будет иметь силы. А пока вылезу, он трижды собьет меня с ног. Я смотрел на него. Он дышал мне в лицо пивным перегаром.
– Еще разок врежу – и жена твоя овдовеет.
Я смотрел на него. Только смотрел, не шевелясь, в это широкое, сытое мурло, пожирая его глазами. Я понимал, куда нужно бить, я был от ярости как стальная пружина. Но я не двигался. А только рассматривал эту харю, как в увеличительное стекло, – близко, отчетливо, крупным планом, каждый волосок щетины, каждую пору красной, обветренной кожи…
Блеснула каска полицейского.
– Что здесь происходит?
Швейцар придал лицу угодливое выражение.
– Ничего, господин вахмистр.
Полицейский посмотрел на меня.
– Ничего, – сказал я.
Он переводил взгляд с меня на швейцара.
– Ведь у вас кровь идет.
– Ударился.
Швейцар отступил на шаг. В его глазах играла усмешка. Он решил, что я просто побоялся донести на него.
– Тогда проезжайте, – сказал полицейский.
Я дал газ и поехал обратно на стоянку.
– Ну и видок у тебя, – сказал Густав.
– Пустяки, только нос, – ответил я и рассказал, как все было.
– Пойдем-ка в трактир, – сказал Густав. – Недаром я был санитаром на фронте. Какое, однако, свинство бить человека, когда он сидит.
Он отвел меня на кухню, потребовал льда и с полчаса возился со мной.
– Ну вот, – заявил он наконец, – теперь не останется и следа. Ну а как черепок? Не беспокоит? Тогда не будем терять времени.
Подошел Томми.
– Это такой верзила из «Винеты»? Бузила известный. Куражится, потому что ни разу не проучили.
– Ну, теперь он схлопочет, – сказал Густав.
– Да, но только от меня, – сказал я.
Густав недовольно взглянул на меня.
– Пока ты вылезешь из машины…
– А я кое-что придумал. Не получится – ты успеешь вмешаться.
– Ладно.
Я надел фуражку Густава, к тому же мы сели в его машину, чтобы усыпить внимание швейцара. Да и не разглядит он много в такой-то темноте.
Мы подъехали. На улице не было ни души.
Густав выскочил из машины, помахивая двадцатимарковой купюрой.
– Проклятие, опять нет мелких денег! Швейцар, разменяете? Сколько нужно? Марку семьдесят? Отдайте же ему, а я сейчас.
Он сделал вид, будто направился к кассе. Швейцар покашливая приблизился ко мне и протянул марку пятьдесят. Я продолжал держать вытянутую руку.
– Катись! – буркнул он.
– Гони монету, пес шелудивый! – рявкнул я.
На секунду он остолбенел. Потом слегка облизнул губы и вкрадчиво произнес:
– Пеняй на себя. Запомнишь надолго!
Он размахнулся. Он наверняка нокаутировал бы меня, но я был начеку: отклонился, пригнувшись, и его кулак со свистом пришелся на острые грани стальной заводной ручки, которую я незаметно держал наготове в левой руке. Швейцар взвыл и отскочил, тряся в воздухе рукой. Он шипел от боли, как паровая машина, и стоял совершенно открыто.
Я вылетел из машины.
– Узнал, скотина? – выдохнул я и ударил его в живот.
Он свалился.