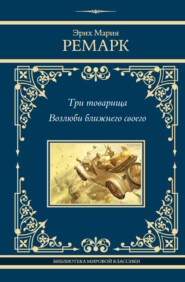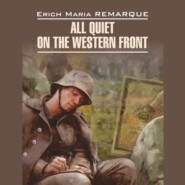По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Земля обетованная
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы считаете?
– Конечно! Рим уже наш, теперь вот и Париж! Сейчас дело быстро пойдет. Очень быстро!
«Очень быстро», – подумал я и вдруг ощутил внутри острый укол, от которого даже перехватило дыхание.
– Да, конечно, – пробормотал я. – Теперь, наверное, все пойдет очень быстро.
В каком-то странном замешательстве я двинулся дальше. Казалось, у меня отняли что-то, что, в сущности, мне даже и не принадлежало, – то ли боевое знамя, то ли солнечное, хотя и в облаках, небо, промелькнувшее над головой прежде, чем я успел протянуть к нему руку.
Феликс О’Брайен, сменный портье, стоял в дверях, сонно подпирая косяк.
– Вас там ждут, – доложил он мне.
Я почувствовал, как предательски забилось сердце, и поспешил в холл. Я надеялся увидеть Марию Фиолу, но это был Лахман, кинувшийся ко мне с распростертыми объятиями.
– Я отделался от пуэрториканки! – объявил он, задыхаясь от энтузиазма. – Я нашел другую! Рыжая блондинка, с Миссисипи. Настоящая богиня Германия, крупная, пышнотелая, этакий райский сад цветущей плоти!
– Германия? – переспросил я.
Он смущенно хихикнул.
– Любовь не спрашивает о национальности, Людвиг. Разумеется, она американка. Но, возможно, немецкого происхождения. Да и какое это имеет значение? Как говорится, было бы болото, а черти найдутся.
– В Германии тебя за такой роман отправили бы в газовую камеру.
– Мы здесь в Америке, в свободной стране! Ты пойми, для меня это избавление! Я же сохну без любви! Пуэрториканка только водила меня за нос. И обходилась мне, особенно вместе с ее альфонсом, слишком дорого. Прокормить этого ее оглоеда-мексиканца – столько четок и иконок в Нью-Йорке просто не продашь! Я был на грани банкротства.
– Париж взят.
– Что? – не сразу понял он. – Ах да, Париж, ну конечно! Только все равно немцы во Франции еще несколько лет продержатся. А потом еще в Германии будут сражаться. Это единственное, что они умеют. Уж мне ли не знать. Нет, Людвиг, ждать бесполезно. Я старею с каждым днем. Эта валькирия, конечно, крепкий орешек, но тут хоть есть надежда…
– Курт, очнись! – сказал я. – Если она и вправду так хороша, с какой стати она именно на тебя должна клюнуть?
– У нее одно плечо ниже другого, – деловито объяснил Лахман. – Это из-за горба, очень маленького, он только начинает расти. Его и не видно почти, но она-то о нем знает. И стесняется. При этом груди у нее – чистый мрамор, а зад – просто сахарная голова! Она работает кассиршей в кино на Сорок четвертой улице. Так что если захочешь в кино, тебе это будет даром.
– Спасибо, – сказал я. – Я в кино хожу редко. Так ты, значит, счастлив?
Физиономия Лахмана страдальчески скривилась, глаза подернулись влагой.
– Счастлив? – переспросил он. – Разве есть такое слово для эмигранта? Эмигрант счастлив не бывает. Мы прокляты на вечные мытарства. Мы всем чужие. Обратно нам дороги нет, а здесь нас терпят только из милости. Ужасно, особенно если вдобавок тебя донимает демон плотских влечений!
– Это как посмотреть. У тебя хоть демон есть, Курт. У других вообще ничего не осталось.
– Не смейся надо мной, – вздохнул Лахман. – Успех в любви отбирает сил не меньше, чем неудача. Но что ты, истукан бессердечный, в этом смыслишь?
– Достаточно, чтобы заметить: успех делает мелкого торговца религиозным хламом куда более агрессивным, чем неудача… – Я вдруг осекся. Только сейчас я сообразил, что не запомнил номера новой квартиры Марии. Ее телефона я тоже не знал. – Черт бы подрал! – вырвалось у меня в сердцах.
– Гой, он и есть гой, – заметил Лахман. – Когда вам нечего сказать, вы чертыхаетесь. А то и стреляете.
Вторая авеню по вечерам превращалась в эспланаду для гомосексуалистов. Здесь под ручку прогуливались пары, одинокие молодые особи фланировали в ожидании знаков внимания, а пожилые сластолюбцы прощупывали их осторожными, похотливыми взглядами. Здесь царила атмосфера карнавала, медленно вращалась карусель порока, влекомая мотором потаенной страсти, запретной, но все же полулегальной, а потому трепетной и волнительной вдвойне, так что, казалось, сам воздух был наэлектризован ею.
– Вот свиньи! – буркнул продавец газетного киоска, когда я покупал у него вечернюю газету.
– Почему? – удивился я. – Ведь это же ваши клиенты.
– Да я не про гомиков, – поморщился он. – Я про ихних псин! На поводке их надо водить, но эти педики псин все равно отпускают. Любят своих тварей до безумия! Раньше были таксы, потом пошла мода на терьеров, а теперь от пуделей спасу нет. Вы только взгляните! Их же тьма!
Я огляделся. Он был прав. Улица кишмя кишела мужчинами, выведшими на прогулку своих пуделей.
– Опять эта гнида! – возопил вдруг продавец, пытаясь выбраться из-за прилавка. Это удалось ему не сразу – под ноги свалилась толстая пачка журналов. – Дайте же ему пинка! – закричал он.
Маленький пудель палевой масти, выскочивший неведомо откуда, уже задрал лапу над газетами и журналами, вывешенными с наружной стороны прилавка. Я шуганул его, и он, тявкнув в ответ, мгновенно исчез в неугомонной уличной толчее.
– Это был Фифи, – сообщил мне продавец, выбравшись наконец из-за прилавка и в бессильной ярости глядя на экземпляр журнала «Конфиденшл», мокрой тряпкой свисавший с перекладинки. – Опять успел! Этот бандит выбрал мой киоск и метит его каждый день! А пузырь у него, скажу я вам, все равно что у слона! И самое главное – я никогда не успеваю до него добраться.
– Зато у него, похоже, неплохой вкус, – заметил я. – Он обделывает то, что этого, безусловно, заслуживает.
Продавец снова забрался в свой киоск.
– Отсюда-то мне его не видно, – объяснял он. – И гаденыш прекрасно знает это! Он подкрадывается сзади, и готово дело! Я его вижу, только когда он уже убегает, а иногда и вовсе не вижу, если он смывается туда же, назад. Неужели нельзя, как нормальные псы, отлить на дерево? А мне его удовольствие каждый день стоит пары-тройки журналов.
– Тяжелый случай, – посочувствовал я. – Может, посыпать нижний ряд вашей прессы перцем?
Киоскер только мрачно взглянул на меня.
– Станете вы читать эротический журнал, если у вас в носу щиплет, глаза слезятся и вы беспрерывно чихаете? Да я бы этих треклятых пуделей отравил всех до единого! При том, что у меня у самого собака. Но не такая же!
Я взял газету и осторожно развернул ее. «Откуда вдруг такая нерешительность? – подумал я. – Что, собственно, меня удерживает? Откуда эта беспричинная опаска?» И не смог себе ответить. Это было все сразу, странная смесь странно перепутавшихся чувств – тут и легкость, и мимолетное, почти неощутимое возбуждение, и дрожь нетерпения, и тихое, робкое, недолговечное счастье, и смутная боль неясной вины. Я сложил газету и направился к дому, который теперь узнал.
В лифте я встретил Фифи, того самого палевого пуделька, и его хозяина, который не преминул тут же со мной заговорить.
– По-моему, нам с вами на один этаж, – сказал он. – Ведь это вы вчера приходили с госпожой Фиолой?
Я растерянно кивнул.
– Я видел, как вы заходили, – объяснил он. – Меня зовут Хосе Крузе.
– А я уже познакомился с вашим песиком Фифи. Газетный киоскер от него без ума.
Крузе расхохотался. У него был массивный золотой браслет на руке и явный избыток зубов во рту.
– Говорят, на нашем этаже раньше был первоклассный бордель, – сообщил он. – Чудно, да? А было бы совсем неплохо.
Я начисто не помнил, на каком этаже живет Мария. Крузе остановил лифт и пропустил меня вперед, слегка притиснув в дверях.
– Вот мы и дома, – сказал он, одарив меня кокетливым взглядом. – Вам туда, а мне сюда. Может, зайдете как-нибудь на коктейль? Виды отсюда потрясающие.
– Может быть.