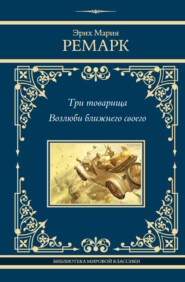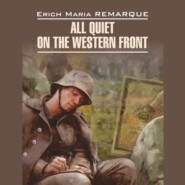По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тени в раю
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Налей в бутылку воды. Колонка на улице, прямо у нас перед входом. Подсыпь малость дорожной пыли, для пущей убедительности. Уличить тебя никто не уличит. Если уж у тебя заверенные четки и оливковая ветвь, тебе без иорданской воды никак нельзя.
– Но не в водочной же бутылке?
– Почему? Этикетку отмочишь, соскребешь. А бутылка на вид очень даже восточная. Твоя пуэрториканка водку наверняка не пьет. Разве что ром.
– Виски. Чудно, правда?
– Да нет.
Лахман задумался.
– Надо бы бутылку запечатать, так будет достовернее. У тебя сургуч найдется?
– А больше тебе ничего не надо? Паспорт не требуется или виза? Откуда у меня сургуч?
– Да у людей чего только не бывает… Я сам сколько лет кроличью лапку с собой таскал…
– Может, у Меликова сургуч имеется…
– Точно! Ему же письма и бандероли запечатывать надо. Как я сам не додумался!
И Лахман, вприпрыжку прихрамывая, поспешил к стойке.
* * *
Я откинулся в кресле. Уже стемнело. Из вестибюльного мрака сквозь светлый прямоугольник дверного проема призрачными тенями устремлялись в вечернюю уличную жизнь люди. В зеркале напротив застыла тусклая серая мгла, тщетно силясь хоть чуточку отливать серебром. Плюшевые кресла казались бордовыми, и на какой-то миг мне почудилось, будто это запекшаяся кровь. Очень много крови. Где же я видел такое раньше? Тесная серая комнатенка, кровь на трупах, а за окном вовсю пылает закат, в свете которого все цвета вокруг странно блекнут, остается только черный, серый и вот этот, коричнево-бордовый, – блекнет все, кроме лица человека у окна, который внезапно повернул голову и попал в сноп закатных лучей, но не весь, а в полупрофиль; половина лица еще в тени, зато другая будто в отблесках пламени, и голос с саксонским акцентом, неожиданно пронзительный, почти визгливый, нетерпеливо требовательный: «Ну же, пошевеливайтесь! Следующих давайте!»
Я поспешно отвернулся и снова включил свет. Прошли годы, прежде чем я снова научился спать без света, а заснув, не просыпаться от жутких кошмаров. Я и сейчас не очень люблю выключать свет на ночь, да и спать один тоже не люблю.
Я встал, пошел к выходу. Там возле стойки портье над чем-то колдовали Лахман с Меликовым.
– Дело на мази! – торжествующе воскликнул Лахман. – Ты только взгляни, взгляни! У Владимира нашлась русская монета, мы запечатали ей бутылку. Русские буквы, кириллица! Если уж это не сойдет за изделие греческих монахов из монастыря на реке Иордан, тогда даже не знаю…
Я смотрел, как расплавленный сургуч капает на бутылочную пробку, пронзительно алый в подрагивающих бликах свечи. «Да что со мной такое? – думал я. – Ведь все позади! Я спасся! И вот она, жизнь, совсем рядом, только дверь распахни! Спасся! Только вот вправду ли спасся? Вправду ли ноги унес? И от теней тоже?»
– Я выйду, прогуляюсь немного, – сказал я. – В голове чертова прорва английских слов. Надо проветриться. Пока!
* * *
Когда я вернулся, у Меликова уже началась смена. В этой гостинице он был един во многих лицах: и ночной портье, и дневной, а при случае еще и посыльный, и коридорный… На этой неделе он был ночным портье.
– А Лахман где? – поинтересовался я.
– Наверху, у своей ненаглядной…
– Думаешь, сегодня ему обломится?
– Ну нет. Она соблаговолит сопроводить себя и мексиканца в ресторан. И милостиво позволит Лахману оплатить счет. Он всегда такой был?
– Всегда. Но не такой невезучий. И уверяет, что на калек и увечных его потянуло, только когда сам охромел. А раньше, мол, нормальный был. Может, просто слишком застенчивый, стыдится перед красивой женщиной себя показать. Кто его знает…
Краем глаза я успел заметить фигуру в дверях. Это оказалась стройная, довольно высокая женщина с изящной головкой. Бледная, сероглазая, темно-золотистая блондинка, кажется, крашеная. Меликов встал.
– Наташа Петрова, – только и сказал он. – И давно вы вернулись?
– Да уж две недели.
Я тоже поднялся. Блондинка была лишь чуть ниже меня ростом. Облегающий костюм подчеркивает почти хрупкую фигуру. Говорит быстро, будто выпаливает, и голос слегка резковат и как будто прокуренный.
– Вам водки? – предложил Меликов. – Или виски?
– Водки. Но только глоток. Я на минуточку, и снова на съемку.
– На ночь глядя?
– Да, допоздна. Фотограф только по вечерам свободен. Сегодня платья и шляпки. Маленькие такие. Совсем крохотные.
Лишь теперь я заметил, что она и сама в шляпке, даже скорей в беретике, черная такая фитюлька, к тому же набекрень – вообще непонятно, как держится.
Меликов удалился за бутылкой.
– Вы ведь не американец? – спросила девушка.
– Нет. Немец.
– Ненавижу немцев!
– Я тоже, – проронил я.
Она глянула на меня ошарашенно.
– Я не вас имела в виду.
– Я тоже, – повторил я.
– Я француженка. Вы должны понять. Война.
– Понимаю, – равнодушно бросил я. Мне не впервой отвечать за злодейства моего отечества. В конце концов, я за это и в лагере для интернированных отсидел во Франции – французов, впрочем, не возненавидел. Но пускаться в объяснения на сей счет бессмысленно. Когда человеку настолько все ясно насчет любви и ненависти, его святой простоте лишь позавидовать можно.
Меликов уже снова был тут как тут, с бутылкой и тремя крохотными стопочками, которые наполнил до краев.
– Вы обиделись? – спросила девушка.
– Нет. Просто не хочется сейчас водки.
Меликов ухмыльнулся.
– Ваше здоровье! – провозгласил он по-русски, поднимая стопку.