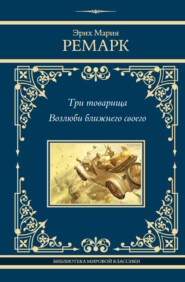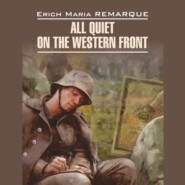По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тени в раю
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Росс. Но имя прежнее.
– Вот так встреча, – протянул Лахман с легкой усмешкой.
Мы помолчали. Обычная смущенная заминка при встрече эмигрантов. Когда не знаешь, о чем лучше не спрашивать. Когда не знаешь, кто жив, а кто нет.
– О Кане что-нибудь слышал? – спросил я наконец.
Это тоже испытанный прием. Сперва осторожно интересуешься теми, кто был не слишком близок ни тебе, ни собеседнику.
– Он здесь, в Нью-Йорке, – сообщил Лахман.
– И он тоже? Он-то какими судьбами здесь оказался?
– Да как все мы здесь оказываемся? Игрою случая, как судьба распорядится. По крайней мере, в списке подлежащих спасению корифеев духа, составленном американцами, ни один из нас не значился.
Меликов выключил люстру у нас над головами и извлек из-под стойки бутылку.
– Американская водка, – пояснил он. – Примерно то же самое, что калифорнийское бордо или бургундское из Сан-Франциско. Или чилийское рейнское. Это одна из выгод эмиграции – можно по много раз выпивать на прощание, а потом отмечать новую встречу. Что даже создает иллюзию долгой жизни.
Ни Лахман, ни я ничего на это не ответили. Меликов был эмигрантом другого поколения – семнадцатого года. Боль, что жгла наши души, в нем давно отгорела и стала всего лишь воспоминанием.
– Твое здоровье, Владимир, – произнес я наконец. – И почему только мы не уродились йогами?
– Да мне бы в Германии не уродиться евреем – и то я был бы счастлив, – заявил Лахман, он же Мертон.
– Вы у нас граждане мира, передовой отряд космополитов, – невозмутимо изрек Меликов. – Вот и держитесь как первопроходцы. Вам еще памятники будут ставить.
– Когда? – поинтересовался Лахман.
– Где? – добавил я. – Уж не в России ли?
– На Луне, – проронил Меликов, направляясь к стойке выдать ключи очередному постояльцу.
– Тоже мне остряк, – бросил Лахман, провожая его глазами. – Работаешь на него?
– В смысле?
– Ну там, девочки. Иной раз морфий помаленьку и все такое. И ставки, по-моему, у него можно делать.
– Ты из-за этого и пришел?
– Нет. Из-за женщины, по которой с ума схожу. Представляешь: пуэрториканка, ей пятьдесят, она католичка и без ноги. Ступня ампутирована. Вдобавок при ней все время еще и мексиканец один трется. Этот мексиканец – он сутенер. За пять долларов мать родную с кем угодно положит. Но она не согласна. Ни в какую. Убеждена, что боженька с неба все видит. Даже ночью. Я ей объясняю, мол, у твоего боженьки близорукость, причем давно. Все бесполезно. Но деньги при этом берет. И кормит меня обещаниями. А сама смеется. Но потом снова обещает. Что ты на это скажешь? Можно подумать, ради этого я мечтал попасть в Америку! Прямо хоть вешайся!
У Лахмана из-за его хромоты был очень странный бзик. В прежние годы, если верить его бахвальству, он был большой ходок по женской части. Пока его не приревновал один эсэсовец и не затащил в пивнушку штурмовиков в намерении там кастрировать, но, к счастью для Лахмана, – было это еще в тридцать четвертом, в Берлине-Вильмерсдорфе – вмешалась полиция. Короче, Лахман отделался несколькими шрамами и переломом ноги в четырех местах, где потом что-то неправильно срослось. С тех пор он хромает, и его почему-то стало тянуть на женщин с физическими недостатками. Единственное, что Лахману требовалось, – это чтобы у очередной избранницы был объемистый и упругий зад, все остальное не имело значения. Даже во Франции в самых немыслимых условиях он находил возможность предаваться своей неодолимой страсти. В Руане, уверял он, ему довелось пополнить свой донжуанский список женщиной с тремя грудями, причем все три были на спине. По сравнению с ней тициановская Венера Анадиомена, как и все прочие Венеры, выходящие из пены морской, просто жалкие дурнушки, ведь руанскую богиню даже не нужно было переворачивать: она услаждала взор всеми прелестями сразу.
– И притом упругая, плотная! – Лахман мечтательно закатил глаза. – Пылающий мрамор!
– Ты совсем не изменился, Курт, – проронил я.
– А люди вообще не меняются. Хотя то и дело дают себе зарок начать новую жизнь. Некоторые и вправду начинают – поневоле, оказавшись на самом дне. Но стоит чуток оклематься – и все зароки позабыты. – Он вздохнул, словно и сам только что оклемался. – Даже не знаю, что это: геройство или идиотизм?
Только тут я заметил крупные капли пота на его белесом, морщинистом лбу.
– Конечно, геройство, – буркнул я. – В нашей шкуре только и остается, что украшать себя доблестями. А главное, в душе особо не копаться, иначе непременно наткнешься на решетку отстойника, под которой полно всякой дряни.
– И ты, как погляжу, все тот же, – заметил Лахман, отирая смятым платком пот со лба. – Все еще пробавляешься расхожими философскими премудростями?
– Да, не могу без них. Они меня успокаивают.
Лахман снисходительно ухмыльнулся:
– Скажи лучше: дают тебе чувство дешевого превосходства, в этом все дело.
– Превосходство дешевым не бывает.
На миг Лахман опешил и прикусил язык.
– Пойду ее уламывать, – вздохнул он немного погодя и извлек из кармана нечто, завернутое в тонкую подарочную бумагу. – Четки, – пояснил он. – Собственноручно освящены самим папой. Чистое серебро и слоновая кость. Как думаешь, хоть это ее проймет?
– Каким папой освящены?
– Пием, каким же еще?
– Лучше бы Бенедиктом Пятнадцатым.
– Что? – Лахман уставился на меня озадаченно. – Он же умер. И почему именно он?
– От него исходит больше превосходства. Как от всякого мертвеца. И уж оно-то никак не дешевое.
– Ах вон что. Еще один остряк-самоучка. А я и позабыл. В последний раз, когда я тебя…
– Стоп! – оборвал я его.
– Что такое?
– Стоп, Курт! Больше ни слова.
– Ну ладно. – Лахман еще какое-то мгновение колебался. Потом жажда пооткровенничать все же взяла верх. Он развернул голубоватый сверток. – Вот, реликвия, прямо из Гефсиманского сада, веточка оливкового дерева с Масличной горы. Заверено сертификатом, с печатью и подписью. Если уж это ее не проймет, что тогда?
Он смотрел на меня умоляюще.
– Проймет. А пузырька с водой Иордана у тебя нет?
– Нет.
– Так налей.
– То есть как?