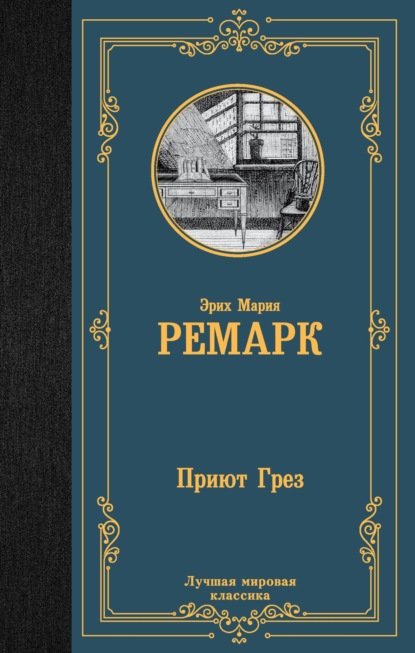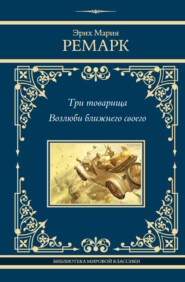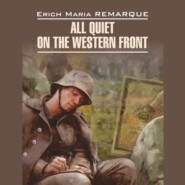По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Приют Грез
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И он остался, меж тем как госпожа Хайндорф провожала гостей.
Элизабет вернулась с террасы. Фриц хотел поблагодарить ее за песню и вдруг заметил, что она плакала. В испуге он схватил ее руку.
– Пустяки… – сказала она. – Сущие пустяки, просто стих нашел. Сердце было так переполнено, вот я и вышла на террасу. И услышала внизу смех девушки и глухой мужской голос. И вдруг на меня нашло… не говорите тете, все уже хорошо.
– Можете на меня положиться, – сказал Фриц.
– Я это чувствую, рядом с вами мне так покойно, хотя мы едва знакомы. Кажется, будто вы всегда придете на помощь, если мне кто-нибудь понадобится.
– И верьте своему чувству. – Фриц был растроган. – Такими словами вы облегчаете мне огромную просьбу. Я пишу картину. Там два персонажа. Мужчина, отчаявшийся, сломленный, под ударами жизни заслонивший голову руками. И девушка, ее руки и глаза полны света, она ласково гладит его по волосам. Мужчина у меня есть. Натуру для девушки я нашел сегодня – в вас. Вы позволите сделать с вас наброски?
– Вы очень любите эту картину? – спросила она вместо ответа.
– Очень. В ней есть еще одна идея. Она должна запечатлеть мгновение, когда человек приходит от Я к Ты, когда рушится эгоизм, когда он отрекается от себя и отдает свой труд обществу. Молодежи. Или человечеству. А что за свой неминуемый отказ от счастья он тем не менее обретает известное утешение и огромную компенсацию, воплощает светоносная девушка. Трагедия человека-творца…
– Говорят, все художники так любят свои произведения, оттого что они – часть их самих.
– Пожалуй, так оно и есть.
Вошла госпожа Хайндорф.
– Стемнело. Зажжем свет?
– Нет, не стоит, – сказала Элизабет, – и без него так хорошо.
– Сударыня, я должен кое-что вам сказать. Вы, наверно, помните мучения с моей первой натурой. На диво быстро я теперь нашел вторую в лице вашей племянницы. Вы позволите?
– Ну конечно, с удовольствием, дорогой друг, – отвечала госпожа Хайндорф. – Очень рада, что ваши желания сбываются так быстро.
– Вы не станете возражать, если мы вскоре начнем сеансы?
– Разумеется, хоть завтра…
– А где? Я охотно приду к вам, хотя в мастерской удобнее, все под рукой и освещение лучше.
Госпожа Хайндорф некоторое время смотрела на него, потом на Элизабет.
– Тебе решать, Элизабет.
Та блестящими глазами смотрела на нее.
– Ну что ж, я знаю, – успокаивая, сказала госпожа Хайндорф, – чего тебе больше всего хочется. Она – маленькая мечтательница, – с улыбкой сказала она Фрицу, потом, посерьезнев, посмотрела ему прямо в глаза: – Я знаю вас, господин Шрамм, и этого довольно. Почему бы моей племяннице не прийти к вам! Какое нам дело до отживших условностей. Когда ей завтра прийти?
– Благодарю вас, сударыня. – Фриц благоговейно поднес ее руку к губам. – Если удобно, то в три часа.
– Ну же, Элизабет?
Девушка энергично кивнула:
– Да-да.
Госпожа Хайндорф улыбнулась:
– Я так и думала. Что ж… такой чудный вечер. Давайте посидим еще немного на террасе. И выпьем за то, что вы нашли свою натуру, по бокалу вина, золотистого вина.
Она позвонила слуге, велела вынести на террасу плетеные кресла и подушки и зажечь несколько цветных лампионов.
На улице совсем стемнело. В цветущих вишнях висела полная луна. Облитые серебряным сиянием стояли вдали черные леса. В вышине уже мерцали звезды. Вино поблескивало в бокалах.
Госпожа Хайндорф подняла свой бокал:
– За вашу счастливую находку, за вашу картину и за искусство!
Бокалы легонько зазвенели, когда они чокнулись.
– За находку, – тихо сказал Фриц и залпом выпил вино.
Воцарилась тишина. Каждый думал о своем.
– Лу… – вдруг обронил Фриц в своей глубокой задумчивости.
– Рана все еще не зажила? – тихо спросила госпожа Хайндорф.
– Она никогда не заживет, – пробормотал Фриц, но тотчас взял себя в руки: – Я не жалуюсь. Это было, и моя жизнь не была грезой, как у моего бедного друга Хёрстемайера, который давно лежит в сырой земле.
– Расскажите.
– Он был художником-декоратором. И каждый отложенный из заработков грош тратил на книги. Читал ночи напролет. Гёте знал почти наизусть. Мало-помалу и в нем самом проснулся поэт. И он ночами писал стихи и драмы. Твердо веря в успех. Как же часто он с восторгом говорил, что на гонорар за драму, которая наверняка произведет фурор, поедет в Италию. Даже итальянский ради этого выучил. Но ему не дано было ни успеха драмы, ни путешествия. Очень скоро он умер от застарелого легочного недуга.
Фриц потерянно смотрел в пространство перед собой.
– Один из многих непрактичных чудаков-немцев, мог бы сказать кто-нибудь и, пожалуй, был бы прав. Но для меня в этом больше величия, чем в завоевании мира.
Он молча смотрел в тихую ночь. Слышался плеск фонтана. Над головой сияли чудесно яркие звезды.
– Какое умиротворение, – сказала Элизабет.
– Словно уже настало лето… немецкая летняя ночь… – добавила госпожа Хайндорф.
– В немецкой летней ночи заключено особое волшебство, – задумчиво начал Фриц, – и вообще в немецкой родине. Пожалуй, никакому другому народу не свойственно такое восхищение чужбиной, такая сила экспансии и стремление в дали, как нам… они даже вызывают презрение, если заходят слишком далеко, становятся обезьянничаньем. И все-таки: пусть бравый немец Шмидт спокойно заделается американским гражданином Смитом, пусть он говорит по-английски, называет своих детей Маком и Мод и плюет на Германию; я скажу вам, что это внешняя или поверхностная мишура! Как только мистер Смит разок услышит рождественские колокола, или почует запах из домашней посылки с рождественской коврижкой, или увидит сияющую огнями рождественскую елку, он тотчас, несмотря на Еnglish spoken[5 - Английская речь (англ.).], несмотря на Мод и Мака, снова станет давним немецким Шмидтом и, невзирая на все ухищрения бизнеса и погоню за долларом, вновь поверит в сказку и жизненные чудеса, которые в крови у каждого настоящего немца, я не имею в виду еврея или славянина. И пусть он хоть тысячу тысяч раз беззвездной ночью изгрызет свои кулаки, он все равно станет таким, все равно! Ведь это и есть упоительное, вечно юное в нашем народе – его простодушие, которое без устали бранят, его ребячливая непрактичность. Я не политик, мне начхать на все политические направления. Я человек, вот моя политика! Да к тому же художник. Потому-то непрактичный простак Михель, который для меня по-прежнему тайный венец всего, для которого мир по-прежнему полон чудес, удивления и веры, – этот простак Михель для меня куда выше холодного, скользкого дельца вроде тех наших собратьев, для кого жизнь не более чем арифметический пример. Мир прекрасен, но у нас он прекраснее всего. Это субъективно, и я знаю, что англичанин, француз, испанец, говоря так, тоже прав. А итальянец, пожалуй, даже еще больше. Но так говорю и я, и я опять-таки прав! Под сияющей синевой римских небес, когда я восхищался пентелийским и каррарским мрамором, на меня вдруг накатила такая невыразимая тоска по летней немецкой ночи, такая тоска по родине, что я незамедлительно уехал домой и чуть не прослезился, увидев первую березку.
Он встал и с воодушевлением поднял бокал:
– И этот последний бокал я посвящаю родине, немецкой родине!
Мягко задувал ветерок, мерцали звезды, разноцветные лампионы легонько покачивались.
Со звоном чокнулись бокалы, и Элизабет решительно произнесла:
Элизабет вернулась с террасы. Фриц хотел поблагодарить ее за песню и вдруг заметил, что она плакала. В испуге он схватил ее руку.
– Пустяки… – сказала она. – Сущие пустяки, просто стих нашел. Сердце было так переполнено, вот я и вышла на террасу. И услышала внизу смех девушки и глухой мужской голос. И вдруг на меня нашло… не говорите тете, все уже хорошо.
– Можете на меня положиться, – сказал Фриц.
– Я это чувствую, рядом с вами мне так покойно, хотя мы едва знакомы. Кажется, будто вы всегда придете на помощь, если мне кто-нибудь понадобится.
– И верьте своему чувству. – Фриц был растроган. – Такими словами вы облегчаете мне огромную просьбу. Я пишу картину. Там два персонажа. Мужчина, отчаявшийся, сломленный, под ударами жизни заслонивший голову руками. И девушка, ее руки и глаза полны света, она ласково гладит его по волосам. Мужчина у меня есть. Натуру для девушки я нашел сегодня – в вас. Вы позволите сделать с вас наброски?
– Вы очень любите эту картину? – спросила она вместо ответа.
– Очень. В ней есть еще одна идея. Она должна запечатлеть мгновение, когда человек приходит от Я к Ты, когда рушится эгоизм, когда он отрекается от себя и отдает свой труд обществу. Молодежи. Или человечеству. А что за свой неминуемый отказ от счастья он тем не менее обретает известное утешение и огромную компенсацию, воплощает светоносная девушка. Трагедия человека-творца…
– Говорят, все художники так любят свои произведения, оттого что они – часть их самих.
– Пожалуй, так оно и есть.
Вошла госпожа Хайндорф.
– Стемнело. Зажжем свет?
– Нет, не стоит, – сказала Элизабет, – и без него так хорошо.
– Сударыня, я должен кое-что вам сказать. Вы, наверно, помните мучения с моей первой натурой. На диво быстро я теперь нашел вторую в лице вашей племянницы. Вы позволите?
– Ну конечно, с удовольствием, дорогой друг, – отвечала госпожа Хайндорф. – Очень рада, что ваши желания сбываются так быстро.
– Вы не станете возражать, если мы вскоре начнем сеансы?
– Разумеется, хоть завтра…
– А где? Я охотно приду к вам, хотя в мастерской удобнее, все под рукой и освещение лучше.
Госпожа Хайндорф некоторое время смотрела на него, потом на Элизабет.
– Тебе решать, Элизабет.
Та блестящими глазами смотрела на нее.
– Ну что ж, я знаю, – успокаивая, сказала госпожа Хайндорф, – чего тебе больше всего хочется. Она – маленькая мечтательница, – с улыбкой сказала она Фрицу, потом, посерьезнев, посмотрела ему прямо в глаза: – Я знаю вас, господин Шрамм, и этого довольно. Почему бы моей племяннице не прийти к вам! Какое нам дело до отживших условностей. Когда ей завтра прийти?
– Благодарю вас, сударыня. – Фриц благоговейно поднес ее руку к губам. – Если удобно, то в три часа.
– Ну же, Элизабет?
Девушка энергично кивнула:
– Да-да.
Госпожа Хайндорф улыбнулась:
– Я так и думала. Что ж… такой чудный вечер. Давайте посидим еще немного на террасе. И выпьем за то, что вы нашли свою натуру, по бокалу вина, золотистого вина.
Она позвонила слуге, велела вынести на террасу плетеные кресла и подушки и зажечь несколько цветных лампионов.
На улице совсем стемнело. В цветущих вишнях висела полная луна. Облитые серебряным сиянием стояли вдали черные леса. В вышине уже мерцали звезды. Вино поблескивало в бокалах.
Госпожа Хайндорф подняла свой бокал:
– За вашу счастливую находку, за вашу картину и за искусство!
Бокалы легонько зазвенели, когда они чокнулись.
– За находку, – тихо сказал Фриц и залпом выпил вино.
Воцарилась тишина. Каждый думал о своем.
– Лу… – вдруг обронил Фриц в своей глубокой задумчивости.
– Рана все еще не зажила? – тихо спросила госпожа Хайндорф.
– Она никогда не заживет, – пробормотал Фриц, но тотчас взял себя в руки: – Я не жалуюсь. Это было, и моя жизнь не была грезой, как у моего бедного друга Хёрстемайера, который давно лежит в сырой земле.
– Расскажите.
– Он был художником-декоратором. И каждый отложенный из заработков грош тратил на книги. Читал ночи напролет. Гёте знал почти наизусть. Мало-помалу и в нем самом проснулся поэт. И он ночами писал стихи и драмы. Твердо веря в успех. Как же часто он с восторгом говорил, что на гонорар за драму, которая наверняка произведет фурор, поедет в Италию. Даже итальянский ради этого выучил. Но ему не дано было ни успеха драмы, ни путешествия. Очень скоро он умер от застарелого легочного недуга.
Фриц потерянно смотрел в пространство перед собой.
– Один из многих непрактичных чудаков-немцев, мог бы сказать кто-нибудь и, пожалуй, был бы прав. Но для меня в этом больше величия, чем в завоевании мира.
Он молча смотрел в тихую ночь. Слышался плеск фонтана. Над головой сияли чудесно яркие звезды.
– Какое умиротворение, – сказала Элизабет.
– Словно уже настало лето… немецкая летняя ночь… – добавила госпожа Хайндорф.
– В немецкой летней ночи заключено особое волшебство, – задумчиво начал Фриц, – и вообще в немецкой родине. Пожалуй, никакому другому народу не свойственно такое восхищение чужбиной, такая сила экспансии и стремление в дали, как нам… они даже вызывают презрение, если заходят слишком далеко, становятся обезьянничаньем. И все-таки: пусть бравый немец Шмидт спокойно заделается американским гражданином Смитом, пусть он говорит по-английски, называет своих детей Маком и Мод и плюет на Германию; я скажу вам, что это внешняя или поверхностная мишура! Как только мистер Смит разок услышит рождественские колокола, или почует запах из домашней посылки с рождественской коврижкой, или увидит сияющую огнями рождественскую елку, он тотчас, несмотря на Еnglish spoken[5 - Английская речь (англ.).], несмотря на Мод и Мака, снова станет давним немецким Шмидтом и, невзирая на все ухищрения бизнеса и погоню за долларом, вновь поверит в сказку и жизненные чудеса, которые в крови у каждого настоящего немца, я не имею в виду еврея или славянина. И пусть он хоть тысячу тысяч раз беззвездной ночью изгрызет свои кулаки, он все равно станет таким, все равно! Ведь это и есть упоительное, вечно юное в нашем народе – его простодушие, которое без устали бранят, его ребячливая непрактичность. Я не политик, мне начхать на все политические направления. Я человек, вот моя политика! Да к тому же художник. Потому-то непрактичный простак Михель, который для меня по-прежнему тайный венец всего, для которого мир по-прежнему полон чудес, удивления и веры, – этот простак Михель для меня куда выше холодного, скользкого дельца вроде тех наших собратьев, для кого жизнь не более чем арифметический пример. Мир прекрасен, но у нас он прекраснее всего. Это субъективно, и я знаю, что англичанин, француз, испанец, говоря так, тоже прав. А итальянец, пожалуй, даже еще больше. Но так говорю и я, и я опять-таки прав! Под сияющей синевой римских небес, когда я восхищался пентелийским и каррарским мрамором, на меня вдруг накатила такая невыразимая тоска по летней немецкой ночи, такая тоска по родине, что я незамедлительно уехал домой и чуть не прослезился, увидев первую березку.
Он встал и с воодушевлением поднял бокал:
– И этот последний бокал я посвящаю родине, немецкой родине!
Мягко задувал ветерок, мерцали звезды, разноцветные лампионы легонько покачивались.
Со звоном чокнулись бокалы, и Элизабет решительно произнесла: