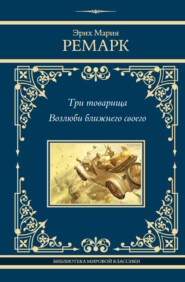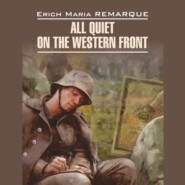По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Триумфальная арка
Автор
Жанр
Год написания книги
1945
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ребенок. В этом пожираемом болезнью теле зародилась и слепо прорастает новая жизнь. Тоже приговоренная к смерти. Она еще питается, еще жадно сосет, вбирает соки, подчиняясь только одному стремлению – расти и расти, этот комочек, еще без мысли, но уже наделенный желанием гулять в садах, кем-то стать, инженером, священником, солдатом, убийцей, человеком, наделенным желанием жить, страдать, изведать счастье и крах надежд… Инструмент осторожно двинулся вдоль незримой перегородки, нащупал нечто плотное, надломил, оторвал, потянул на себя – кончено… Конец неосознанному кружению крови, неизведанному дыханию, восторгу, печали, взрослению, становлению. Вместо всего этого – только мертвый, бледный клочок плоти да пара кровавых сгустков.
– От Буассона есть что-нибудь?
– Пока нет. Ждем с минуты на минуту.
– Ничего, время пока терпит.
Равич отошел от стола.
– Пульс?
Взгляд его упал за экран и неожиданно встретился с глазами Кэте Хэгстрем. Та смотрела на него – не слепо, а вполне ясным, осознанным взглядом, будто она уже все знает. Уж не очнулась ли? Он даже шагнул к ней, но тут же остановился. Вздор. Невозможно. Игра света, обман зрения.
– Пульс какой? – требовательно повторил он.
– Пульс сто. Давление сто двенадцать. Падает.
– Пора бы уже, – буркнул Равич. – Пора бы Буассону управиться.
Снизу едва слышно донесся телефонный звонок. Вебер уставился на дверь. Равич на дверь не смотрел. Он ждал. Он ее и так услышит. Вошла сестра.
– Да, – сообщил Вебер. – Рак.
Равич кивнул и снова принялся за работу. Снял щипцы, зажимы. Извлек ретрактор, салфетки. Эжени, стоя рядом, пересчитывала инструменты.
Начал зашивать. Он работал уверенно, точно, предельно сосредоточенно, но уже как автомат. Без единой мысли. Вот и смыкается могила. Пласты тканей ложатся слоями, один за другим, вплоть до последнего, внешнего. Он наложил скобки и выпрямился.
– Готово.
Эжени педалью снова привела операционный стол в горизонтальное положение и накрыла Кэте Хэгстрем простыней. «Шехерезада», проносилось в голове у Равича, только позавчера, платье от Мэнбоше, вы когда-нибудь были счастливы, не раз, мне страшно, вам же не впервой, обычная операция, цыгане с их музыкой. Он взглянул на часы над дверью. Двенадцать. Полдень. В городе сейчас распахиваются двери контор и фабрик, здоровые люди спешат на обед. Сестры вдвоем выкатили плоскую тележку из операционной. Равич содрал с себя резиновые перчатки и пошел в предоперационную мыть руки.
– У вас сигарета, – напомнил Вебер, мывший руки над соседней раковиной. – Губы обожжете.
– Ага. Спасибо. Только вот кто ей об этом скажет, Вебер?
– Вы, – отозвался тот без тени сомнения в голосе.
– Придется ей объяснить, почему мы ее разрезали. Она-то думала, мы сделаем все изнутри. Ей ведь не расскажешь, что мы обнаружили.
– Вы что-нибудь придумаете, – ободрил его Вебер.
– Вы считаете?
– Конечно. Время у вас есть, до вечера.
– А вы?
– Мне она не поверит. Она же знает, что оперировали вы, от вас и захочет все услышать. А если явлюсь я, она сразу насторожится.
– И то правда.
– Не понимаю, за такой короткий срок – чтобы такая опухоль. Как такое может быть?
– Может. Хотел бы я знать, что мне ей говорить.
– Что-нибудь придумаете, Равич. Какую-нибудь кисту или миому.
– Да, – повторил Равич. – Какую-нибудь кисту или миому.
Ночью он еще раз наведался в клинику. Кэте Хэгстрем спала. Вечером проснулась, ее вырвало, примерно час она лежала без сна, потом снова уснула.
– Она о чем-нибудь спрашивала?
– Нет, – ответила розовощекая медсестра. – Она была еще не вполне в себе и ни о чем не спросила.
– Полагаю, она проспит до утра. Если раньше проснется и спросит, скажете ей, все прошло хорошо. Пусть спит дальше. В случае чего дадите ей снотворного. Если волноваться начнет, позвоните доктору Веберу или мне. Я скажу портье, где меня искать.
Он стоял посреди улицы, словно только что еще раз сумел улизнуть от смерти. Несколько часов отсрочки – прежде чем придется врать прямо в глаза, в эти милые, доверчивые глаза. Ночь вдруг показалась теплой и какой-то мерцающей. Серую проказу жизни опять милосердно прикроют несколько подаренных часов пощады, чтобы вспорхнуть под утро стайкой голубей. Но и эти часы – тоже обман, никакой это не подарок, в этой жизни подарков не бывает, только отсрочка, хотя, с другой стороны, – а что не отсрочка? Разве сама жизнь – не отсрочка, не пестроцветное марево, застящее наш дальний, но неуклонный путь к черным, неумолимо надвигающимся вратам?
Он зашел в бистро, сел за мраморный столик у окна. В прокуренном зале было шумно. Подошел официант.
– Один дюбонне и пачку «Колониаль».
Он вскрыл пачку, вытянул толстенькую крепкую сигарету, закурил. За соседним столиком компания французов жарко спорила о своем продажном правительстве и о мюнхенском пакте[16 - Имеется в виду договор между Англией и Францией с одной стороны и Германией и Италией с другой, подписанный 30 сентября 1938 года, по условиям которого Англия и Франция дали согласие на оккупацию Германией Судетских областей Чехословакии в обмен на пакт о ненападении сторон. Договор был очевидной уступкой европейских стран агрессивной политике фашистской Германии.]. Равич слушал вполуха. Любому дураку ясно: мир вяло сползает навстречу новой войне. И никто особо не сопротивляется – отсрочка, еще год, еще два, вот и все, на что человечество еще способно подвигнуться. И здесь тоже только отсрочка – как во всем, всегда и везде.
Он выпил коктейль. Сладковатый, тягучий вкус аперитива все еще гулял во рту приторным осадком. Какого черта он его вообще заказал? Он махнул официанту.
– Коньяку. Отборного.
Глядя в окно, он пытался отогнать невеселые мысли. Если ничего поделать нельзя – какой смысл попусту с ума сходить? Он вспомнил, когда он этот урок усвоил. Один из главных уроков в жизни…
В девятьсот шестнадцатом это было, в августе, под Ипром. Их рота за день до этого с передовой вернулась. Впервые за все месяцы на фронте им такие спокойные деньки достались. Вообще тишина. В тот день они лежали под теплым августовским солнышком вокруг костра и пекли накопанную в поле картошку. А еще через минуту от всего этого только воронка осталась. Внезапный артиллерийский залп, снаряд, угодивший прямо в костер, – когда он, без единой царапины, очнулся, то подле себя сразу увидел двоих убитых, а чуть поодаль его друг Пауль Месман, тот самый Пауль, которого он знал с малолетства, с которым они вместе играли, вместе в школу пошли и вообще были не разлей вода, – этот Пауль Месман дергался теперь на земле с развороченным животом, и из живота этого выползали внутренности.
На плащ-палатке они тащили его в лазарет самой короткой дорогой, вверх по пологому склону прямиком через пшеничное поле. Тащили вчетвером, каждый за свой угол, а он лежал на буром брезенте, придерживая руками свои белые, жирные, окровавленные кишки, рот раскрыт, глаза бессмысленно выпучены.
Два часа спустя он умер. Перед смертью все кричал: «Одной меньше…»
Равич запомнил, как они вернулись. Он, как неживой, сидел в бараке. Первый раз в жизни он такое видел. Тут его и нашел Качинский, их ротный, до войны он сапожником был.
– Пошли, – сказал ему Качинский. – У баварцев в буфете пиво есть и водка. И колбаса.
Равич уставился на него с ужасом. Как можно! Какое кощунство!
Качинский некоторое время смотрел на него, потом сказал:
– Ты пойдешь. А не пойдешь, я тебя измордую и силком отведу. Ты у меня пожрешь досыта, напьешься, а потом еще в бордель отправишься.
Равич ничего не отвечал. Тогда Качинский присел с ним рядом.
– От Буассона есть что-нибудь?
– Пока нет. Ждем с минуты на минуту.
– Ничего, время пока терпит.
Равич отошел от стола.
– Пульс?
Взгляд его упал за экран и неожиданно встретился с глазами Кэте Хэгстрем. Та смотрела на него – не слепо, а вполне ясным, осознанным взглядом, будто она уже все знает. Уж не очнулась ли? Он даже шагнул к ней, но тут же остановился. Вздор. Невозможно. Игра света, обман зрения.
– Пульс какой? – требовательно повторил он.
– Пульс сто. Давление сто двенадцать. Падает.
– Пора бы уже, – буркнул Равич. – Пора бы Буассону управиться.
Снизу едва слышно донесся телефонный звонок. Вебер уставился на дверь. Равич на дверь не смотрел. Он ждал. Он ее и так услышит. Вошла сестра.
– Да, – сообщил Вебер. – Рак.
Равич кивнул и снова принялся за работу. Снял щипцы, зажимы. Извлек ретрактор, салфетки. Эжени, стоя рядом, пересчитывала инструменты.
Начал зашивать. Он работал уверенно, точно, предельно сосредоточенно, но уже как автомат. Без единой мысли. Вот и смыкается могила. Пласты тканей ложатся слоями, один за другим, вплоть до последнего, внешнего. Он наложил скобки и выпрямился.
– Готово.
Эжени педалью снова привела операционный стол в горизонтальное положение и накрыла Кэте Хэгстрем простыней. «Шехерезада», проносилось в голове у Равича, только позавчера, платье от Мэнбоше, вы когда-нибудь были счастливы, не раз, мне страшно, вам же не впервой, обычная операция, цыгане с их музыкой. Он взглянул на часы над дверью. Двенадцать. Полдень. В городе сейчас распахиваются двери контор и фабрик, здоровые люди спешат на обед. Сестры вдвоем выкатили плоскую тележку из операционной. Равич содрал с себя резиновые перчатки и пошел в предоперационную мыть руки.
– У вас сигарета, – напомнил Вебер, мывший руки над соседней раковиной. – Губы обожжете.
– Ага. Спасибо. Только вот кто ей об этом скажет, Вебер?
– Вы, – отозвался тот без тени сомнения в голосе.
– Придется ей объяснить, почему мы ее разрезали. Она-то думала, мы сделаем все изнутри. Ей ведь не расскажешь, что мы обнаружили.
– Вы что-нибудь придумаете, – ободрил его Вебер.
– Вы считаете?
– Конечно. Время у вас есть, до вечера.
– А вы?
– Мне она не поверит. Она же знает, что оперировали вы, от вас и захочет все услышать. А если явлюсь я, она сразу насторожится.
– И то правда.
– Не понимаю, за такой короткий срок – чтобы такая опухоль. Как такое может быть?
– Может. Хотел бы я знать, что мне ей говорить.
– Что-нибудь придумаете, Равич. Какую-нибудь кисту или миому.
– Да, – повторил Равич. – Какую-нибудь кисту или миому.
Ночью он еще раз наведался в клинику. Кэте Хэгстрем спала. Вечером проснулась, ее вырвало, примерно час она лежала без сна, потом снова уснула.
– Она о чем-нибудь спрашивала?
– Нет, – ответила розовощекая медсестра. – Она была еще не вполне в себе и ни о чем не спросила.
– Полагаю, она проспит до утра. Если раньше проснется и спросит, скажете ей, все прошло хорошо. Пусть спит дальше. В случае чего дадите ей снотворного. Если волноваться начнет, позвоните доктору Веберу или мне. Я скажу портье, где меня искать.
Он стоял посреди улицы, словно только что еще раз сумел улизнуть от смерти. Несколько часов отсрочки – прежде чем придется врать прямо в глаза, в эти милые, доверчивые глаза. Ночь вдруг показалась теплой и какой-то мерцающей. Серую проказу жизни опять милосердно прикроют несколько подаренных часов пощады, чтобы вспорхнуть под утро стайкой голубей. Но и эти часы – тоже обман, никакой это не подарок, в этой жизни подарков не бывает, только отсрочка, хотя, с другой стороны, – а что не отсрочка? Разве сама жизнь – не отсрочка, не пестроцветное марево, застящее наш дальний, но неуклонный путь к черным, неумолимо надвигающимся вратам?
Он зашел в бистро, сел за мраморный столик у окна. В прокуренном зале было шумно. Подошел официант.
– Один дюбонне и пачку «Колониаль».
Он вскрыл пачку, вытянул толстенькую крепкую сигарету, закурил. За соседним столиком компания французов жарко спорила о своем продажном правительстве и о мюнхенском пакте[16 - Имеется в виду договор между Англией и Францией с одной стороны и Германией и Италией с другой, подписанный 30 сентября 1938 года, по условиям которого Англия и Франция дали согласие на оккупацию Германией Судетских областей Чехословакии в обмен на пакт о ненападении сторон. Договор был очевидной уступкой европейских стран агрессивной политике фашистской Германии.]. Равич слушал вполуха. Любому дураку ясно: мир вяло сползает навстречу новой войне. И никто особо не сопротивляется – отсрочка, еще год, еще два, вот и все, на что человечество еще способно подвигнуться. И здесь тоже только отсрочка – как во всем, всегда и везде.
Он выпил коктейль. Сладковатый, тягучий вкус аперитива все еще гулял во рту приторным осадком. Какого черта он его вообще заказал? Он махнул официанту.
– Коньяку. Отборного.
Глядя в окно, он пытался отогнать невеселые мысли. Если ничего поделать нельзя – какой смысл попусту с ума сходить? Он вспомнил, когда он этот урок усвоил. Один из главных уроков в жизни…
В девятьсот шестнадцатом это было, в августе, под Ипром. Их рота за день до этого с передовой вернулась. Впервые за все месяцы на фронте им такие спокойные деньки достались. Вообще тишина. В тот день они лежали под теплым августовским солнышком вокруг костра и пекли накопанную в поле картошку. А еще через минуту от всего этого только воронка осталась. Внезапный артиллерийский залп, снаряд, угодивший прямо в костер, – когда он, без единой царапины, очнулся, то подле себя сразу увидел двоих убитых, а чуть поодаль его друг Пауль Месман, тот самый Пауль, которого он знал с малолетства, с которым они вместе играли, вместе в школу пошли и вообще были не разлей вода, – этот Пауль Месман дергался теперь на земле с развороченным животом, и из живота этого выползали внутренности.
На плащ-палатке они тащили его в лазарет самой короткой дорогой, вверх по пологому склону прямиком через пшеничное поле. Тащили вчетвером, каждый за свой угол, а он лежал на буром брезенте, придерживая руками свои белые, жирные, окровавленные кишки, рот раскрыт, глаза бессмысленно выпучены.
Два часа спустя он умер. Перед смертью все кричал: «Одной меньше…»
Равич запомнил, как они вернулись. Он, как неживой, сидел в бараке. Первый раз в жизни он такое видел. Тут его и нашел Качинский, их ротный, до войны он сапожником был.
– Пошли, – сказал ему Качинский. – У баварцев в буфете пиво есть и водка. И колбаса.
Равич уставился на него с ужасом. Как можно! Какое кощунство!
Качинский некоторое время смотрел на него, потом сказал:
– Ты пойдешь. А не пойдешь, я тебя измордую и силком отведу. Ты у меня пожрешь досыта, напьешься, а потом еще в бордель отправишься.
Равич ничего не отвечал. Тогда Качинский присел с ним рядом.