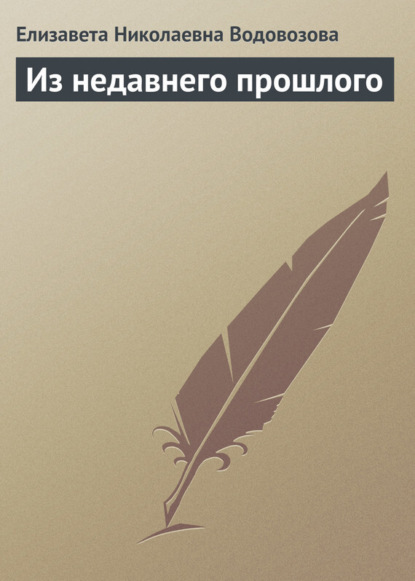По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Из недавнего прошлого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я утратила всякую надежду на благоприятный исход этого дела; формальный отказ, который я рассчитывала получить еще не скоро, казался мне даже лишней затяжкой, напрасно обременяющей мое и без того тяжелое, неопределенное положение. Вот потому-то и не было пределов моему изумлению, когда через несколько дней М. И. Семевский приехал сказать мне, что Делянов дал разрешение моему сыну держать государственный экзамен, бумага им уже подписана и на днях я получу об этом официальное уведомление. Так как все это М. И. Семевский узнал от самого Эзова, то члены моей семьи очень заинтересовались, каким образом ему удалось уломать министра.
Вот что мы узнали. Когда дошла очередь до изложения моей просьбы, Эзов начал говорить министру о том, как много молодых людей лишены теперь возможности кончить университетский курс. Отчасти, говорил он, это происходит вследствие трудностей, сопряженных для ученика с классицизмом: для бедняка, не имеющего репетитора, трудно одолеть гимназический курс со всеми этими экстемпоралиями[4 - Здесь: контрольными работами (от лат. extemporalia).], но отчасти и вследствие того, что за политические провинности, иногда совершенные по простому легкомыслию юношей, их исключают из университетов. Министр отвечал, что он прекрасно знает всю трудность классицизма для учащихся, что на это ему жалуются учителя, но не он его ввел. Что же касается политических провинностей молодежи, то это дело уже полицейских учреждений. Конечно, он, министр, находит, что революционный элемент необходимо искоренять самыми энергичными мерами, но, если проступок юноши не из тяжелых, он согласен, что такого не следует лишать образования, не дозволяя ему держать экзамены: «Выслать куда-нибудь на север подальше на год-другой, чтобы охладить горячую голову, вот и все». За суровые мероприятия он, министр, нигде не возвышал своего голоса.
– Я никогда не забываю, что моя задача – распространять образование, а не тормозить его.
– А между тем при том положении вещей, какое у нас теперь создалось в различных областях жизни, может скоро оказаться недостаток в людях, окончивших университетское образование. Вот, например, госпожа Водовозова: она просит ваше сиятельство разрешить держать государственные экзамены ее сыну, который был уволен из университета только за то, что дал отлитографировать перевод немецкого профессора Туна, которого, кстати сказать, не разошлось ни одного экземпляра. Что касается самого произведения Туна, то могу смело уверить вас, что в нем нет решительно ничего, могущего зажигать политические страсти.
– Я знаком, я, конечно, знаком с произведением Туна. Но видите, раз начальство что-нибудь запрещает, то решительно все, а тем более студенты, обязаны вполне подчиняться такому постановлению.
Кстати замечу, что Делянов, по рассказам лиц, имевших случай беседовать с ним и встречать его, когда при нем упоминали о каком-нибудь произведении, всегда утверждал, что прекрасно с ним знаком, хотя это ничем не подтверждалось. Очень любил он и повторять излюбленную фразу о том, что он никогда не забывает свою задачу распространять просвещение, а не тормозить его. Он вспоминал ее и тогда, когда его министерство повысило плату за университетское образование, говорил о своей любви к просвещению и в самую горячую пору своего похода против «кухаркиных детей» (как окрестило общество его циркуляр против поступления в средние учебные заведения детей низших сословии), произносил он свою излюбленную фразу и тогда, когда ограничил прием в учебные заведения инородцев, когда для евреев была установлена процентная норма. Сознавая непосильную трудность классицизма для большинства учащихся и ничтожную роль, какую во время его господства играли все остальные учебные предметы, Делянов, однако, крепко держался этой системы за весь период своего управления министерством просвещения. Но перейду к рассказу.
Лишь только в разговоре с Эзовым Делянов упомянул о том, что студент обязан повиноваться распоряжениям начальства, его докладчик заметил ему:
– Это несомненно так, ваше сиятельство. Но ведь студент Водовозов за содеянное и понес весьма чувствительную кару: предварительное тюремное заключение и пять лет ссылки. Я решаюсь вам указать и на другую причину, которая заставляет меня поддерживать просьбу госпожи Водовозовой: я не имею ни с нею, ни с ее сыном никакого личного знакомства, но она – писательница для юношества, книги ее имеют весьма значительное распространение, сама она вращается в известном литературном кругу, и при отказе ей все эти писатели начнут всюду кричать и распространять совершенно неправильную молву о вашем сиятельстве, доказывать, что ваше министерство тормозит дело просвещения.
– Да боже меня сохрани! Вам-то уже известно, что я всеми силами стараюсь распространять его.
– Так вот, ваше сиятельство: во избежание кривотолков подтвердите это вашею подписью. – И Эзов в ту же минуту подал министру перо для подписи. – Если бы я, – говорил он, – пришел к министру за подписью через несколько часов, он бы, вероятно, уже раздумал дать ее. Получив официальное разрешение от министра народного просвещения, я отправилась к директору департамента полиции в его приемный день. Среди многочисленных просителей я стояла последнею. Когда дошла очередь до меня, директор, с нескрываемою ирониею, обратился ко мне:
– Что скажете новенького?
– Вы обещали, ваше превосходительство, если лица, от которых зависит дозволить моему сыну держать экзамены, согласятся на это, то и вы не будете препятствовать…
– Ах, боже мой! Да что вам, наконец, надо от меня? Вы опять с вашими нелепыми фантазиями! Это даже довольно неделикатно с вашей стороны! Мало вы предъявляли мне всяких просьб, мало вы наделали хлопот департаменту полиции?.. А теперь вы во что бы то ни стало желаете втянуть меня в ваши фантастические планы, в ваши авантюры!
– Но я получила формальное разрешение. – И я протянула ему бумагу с означенным уведомлением.
– Что? Что вы говорите? – расширив зрачки и в упор глядя на меня, спрашивал директор. Его необыкновенное изумление и суровая отповедь, как и всегда, напугали меня. В таких случаях мне казалось, что я что-нибудь сказала не так, как следует. Испуганная, я машинально повторяла уже сказанное и протягивала все ту же бумагу. Но он отстранил ее и, после нескольких минут раздумья, произнес:
– Зайдите в мой кабинет.
На мое счастье, мне пришлось не сейчас войти к нему, – его отвлекли какие-то посетители. Это дало мне возможность обдумать, что говорить, и я твердо решила не сообщать ему, каким простым способом я добилась осуществления раз поставленной себе цели. Когда я наконец вошла в его кабинет, я подала ему бумагу, которую он внимательно прочитал.
– Вы получили разрешение от его сиятельства графа Делянова! За мое директорство это первый случай такого разрешения. Я обещал вам не ставить препятствий, если другие разрешат, но такого оборота дела я никак не мог предвидеть. Впрочем, от своего слова я не отказываюсь. Да это было бы и бесполезно. Если вам удалось добиться разрешения от министра народного просвещения, вы сумеете выхлопотать и все остальное. Да-с!.. Могущественные у вас связи! – и он встал, подавая мне руку.
Мой сын приехал в марте 1890 года держать экзамены, которые растянулись на весьма продолжительный срок: некоторые из них происходили до лета, остальные – после его окончания. Таким образом, мой сын, приехав из ссылки, прожил в Петербурге и его окрестностях до девяти месяцев. Вышло так, что даже во время лета департамент полиции не потребовал его возвращения в ссылку, так как сроки экзаменов были крайне неопределенные. Но мне выдавали лишь недолгосрочные отсрочки на право жительства моего сына в Петербургской губернии, а потому мне те и дело приходилось являться в департамент полиции; В таком случае я всецело подвергалась то суровому, то более снисходительному обращению со стороны директора; В первом случае он бросал не то гневные, не то раздраженные окрики вроде следующих: «Когда же этому будет конец?» – или упрекал меня за то, что я, заручившись всевозможными связями, поставила моего сына в особые условия, при которых ссылка не будет надлежащею карою за его преступление. Но я была уже обстрелянной птицей: молчала как убитая, чтобы дать пройти вспышке. И действительно, через минуту директор, обращаясь к чиновнику, уже давал надлежащее распоряжение на новую отсрочку.
В следующем году надо мной стряслась новая беда: мои второй сын, Николай, в то время студент юридического факультета, за присутствие на похоронах Н. В. Шелгунова в апреле 1891 года был подвергнут непродолжительному аресту, а затем исключен из Петербургского университета. Скоро после этого до меня дошли слухи, что кому-то из уволенных студентов министр просвещения разрешил продолжать курс в провинциальном университете. И я во второй раз отправилась к Делянову, предварительно письменно изложив мою просьбу о дозволении моему сыну перейти в Дерптский университет. Мой «благожелатель», по-прежнему дежуривший в передней министра, встретил меня по-приятельски, внимательно расспросил, в чем состоит мое новое дело, и подтвердил, что двое или трое, хлопотавшие о том же, получили дозволение. Но, когда я спросила его, нельзя ли мне ограничиться подачею прошения, он запротестовал, говоря, что при личном свидания дело будет вернее.
Здороваясь с министром и еще стоя с ним посреди комнаты, я изложила ему мою просьбу.
– Скажите, пожалуйста, сколько же, наконец, у вас сыновей? – ворчливым тоном спросил Делянов, знаком приглашая садиться. Я отвечала ему, что у меня два сына.
– И оба революционеры?
– Помилуйте, ваше сиятельство, какая же революция в том, что мой сын, будучи лично знаком с Шелгуновым, отправился на его похороны?
– А я утверждаю, что он отправился исключительно с целью протеста, с желанием публично заявить правительству: «Вы угнетали покойного, гоняли его по ссылкам (хотя он заслужил несравненно более суровое к нему отношение), а мы, молодое поколение, за это-то и преклоняемся перед ним». Ведь я прекрасно знаю, что ваши сыновья не могут быть религиозными людьми: я лично был знаком с покойным Василием Ивановичем и с вами имел честь достаточно познакомиться, чтобы судить о том, что ваш сын отправился на похороны Шелгунова не для того, чтобы помолиться за душу усопшего раба божия, а чтобы вместе с другими студентами устроить революционную манифестацию. И как наивны эти молодые люди! Ну, сколько их там было? Для примера скажем триста, пятьсот, допустим даже, что их пришло бы, наконец, три и четыре тысячи… Скажите, пожалуйста, что такое для правительства три-четыре тысячи революционеров? Да решительно ничего! Появляется эскадрон жандармов и… – При этом министр вдруг поднял руку к своему лицу, повернул ее ладонью вверх и дунул. Этим приемом он, очевидно, желал наглядно показать мне, как при одном только появлении жандармов моментально исчезнут с лица земли все революционеры, точно пылинка при легком дуновении ветра. – Да еще пусть бога благодарят, что их только разгонят и рассадят по участкам. Правительство, по обыкновению, действовало в высшей степени милостиво и снисходительно: оно могло бы повернуть дело и так, что только мокренько бы осталось. А почему плодятся у нас эти несчастные, устраивающие Демонстрации-манифестации? Только потому, что семейные начала крайне неустойчивы. У нас все сваливают на школу, – нет-с, извините-с… тут во всем виновата семья, в которой исчезли все устои, все добрые старые семейные традиции и добропорядочные принципы. Вместо того чтобы почаще повторять вашему сыну: «Остерегайся манифестантов, держи себя от них подальше, переходи на другую сторону улицы, как только их завидишь», а вы, сударыня, Даже при отсутствии религиозных чувств, изволите отправлять своего сына молиться за душу усопшего раба божьего под предводительством господина Михайловского.
– Михайловский шел за гробом не в качестве предводителя, а как ближайший друг Шелгунова.
– А! Вы, значит, знакомы с господином Михайловским! Прекрасным обществом вы окружаете ваших сыновей! Чего же удивляться, что они революционеры! И меня вот еще что интересует: скажите, пожалуйста, почему это вы, сударыня, вместо здоровой духовной пищи пичкаете ваших сыновей произведениями господина Михайловского, этого памфлетиста? – вдруг огорошил меня Делянов совершенно неожиданным мною даже от него обвинением. И высказал он это в такой странной форме, что у меня мелькнуло в голове: «Тут дело не обошлось без какого-нибудь доноса или, по крайней мере, нелепой передачи». Я не раз слыхала, что любовь Делянова к болтовне заставляет его при всяком удобном случае задерживать у себя людей различного общественного положения и выспрашивать у них о том, что делается в городе, о слухах и людях. Его добродушное обращение с собеседниками располагало многих из них к сплетням. Вопрос Делянова поверг меня в недоумение, и у меня вырвалось как-то само собою:
– Мои сыновья читают не исключительно Михайловского, а столько же его произведения, сколько и каждого выдающегося, крупного писателя.
– Как? Михайловский – крупный, выдающийся писатель? – И министр при этом как ужаленный вскочил с своего места. – И вы, сударыня, писательница, образованная женщина, можете называть этого жалкого памфлетиста выдающимся писателем?
– Простите, ваше сиятельство, но на Михайловского в литературе уже давно установился взгляд, даже среди тех писателей, которые разделяют не все его идеи, как на замечательного социолога, публициста и критика.
– Очень сожалею и современную литературу, и вас, сударыня, и всех, придерживающихся подобных взглядов на такого вредного писателя, как Михайловский, снискавшего себе известность только своим популярничаньем среди молодежи, выступая ее предводителем в антиправительственных сборищах. Что же касается вашей просьбы относительно вашего сына, то считаю долгом заявить вам, что я по совести не могу наполнять университеты, хотя бы и провинциальные, заведомыми революционерами. – И с этими словами министр встал и подал мне руку, показывая, что аудиенция окончена.
Открывая при моем выходе дверь, мой «благоприятель» сделал мне едва заметный знак глазами, который подсказал мне, что я должна подождать его. И действительно, я остановилась за дверью, а он через несколько минут вышел ко мне на площадку со словами:
– Неудача? Да вы не смущайтесь! Другим дозволено, и вам разрешат! Это он сегодня порасстроился с вами! Я слышал ваш разговор: ведь с ним умеючи надо говорить. Да ничего, нужно только несколько деньков задержать прошение. Это я устрою.
Но, вероятно, не старанию моего «благоприятеля» я обязана была тем, что моему сыну разрешили продолжать университетский курс в Дерптском (Юрьевском) университете: многие студенты, уволенные за присутствие на похоронах Шелгунова, точно так же были приняты в провинциальные университеты.
После моего второго, и последнего свидания с Деляновым я долго не получала ни отказа на мою просьбу, ни известия об ее удовлетворении. Тяжелое настроение мешало работе, и я решила отправиться к Н. К. Михайловскому. Издавна уже как-то повелось, что в трудные минуты жизни, в периоды житейских невзгод и треволнений хорошие знакомые Николая Константиновича отправлялись посоветоваться с ним, а то и просто рассказать ему о том, что с ними случилось. Трудно представить, как бесконечно внимателен он был в таких случаях. Он всегда умел дать хороший совет, привести в пример какой-нибудь аналогичный случай из жизни, который окончился благоприятно, а то и совсем разогнать тоску, если какое-нибудь обычное житейское затруднение или недоразумение его собеседник принимал к сердцу более трагично, чем оно того заслуживало.
Михайловский в это время жил в Любани, где он поселился, когда был выслан из Петербурга. До невозможности жалкое помещение занимал он в это время: оно не напоминало ни дачу, ни дом, а представляло какую-то полутемную хибарку с крылечком, которое в шутку называли террасой. У Николая Константиновича я застала его сына, племянника и одну общую знакомую. Мы провели время, как и всегда, в самой непринужденной болтовне, а молодежь и в школьничествах, в которые от времени до времени втягивали и Николая Константиновича.
На возвратном пути в вагоне мне пришлось сидеть около пожилой дамы, с которою я встречалась в знакомых домах, возвращавшеюся в Петербург из провинции. Когда она узнала, что я еду от Михайловского, она заговорила о нем с чувством самого глубокого уважения и горячей признательности.
– Чтобы вполне оценить его, – говорила она, – узнать его благороднейшее сердце и нежную душу, нужно попасть в беду. Он был очень дружен с моим мужем, несколько лет сряду часто бывал у нас, и я, как и все люди нашего круга, считала его крупным писателем и весьма порядочным человеком. Но если бы мне кто-нибудь сказал тогда, что он может глубоко проникнуться чужим горем и несчастьем, окружить человека, попавшего в беду, самыми нежными, самыми деликатными заботами, я бы нашла это большим преувеличением, приписала бы это обычному свойству нашей интеллигенции, которая – раз уже выдающийся писатель, награждает его несуществующими душевными качествами. Но вот надо мной стряслась беда: мой муж отправлен был в ссылку, и Николай Константинович стал так заботиться о моей семье, точно о своей собственной. Что же касается материальной помощи, то он оказывал ее с невыразимо тонкою деликатностью. Да, это настоящий человек, истинный джентльмен в самом лучшем смысле этого слова! – закончила она.
notes
Сноски
1
Книга немецкого проф. Туна, существующая теперь на русском языке в нескольких переводах, считалась в то время недозволенною. В сотрудничестве с несколькими лицами мой сын перевел эту книгу, снабдил ее примечаниями и приложениями. Этот перевод не был им напечатан, а лишь литографирован в небольшом количестве экземпляров. (Примеч. Е. Н. Водовозовой.)
2
Чиновник особых поручений при Четвертом отделении собственной его величества канцелярии, который через два года после этого получил звание почетного опекуна и управляющего Московским воспитательным домом с его округами, Николаевским сиротским институтом и др. (Примеч. Е. Н. Водовововой.)
3
В конце концов это учреждение не устроилось. (Примеч. Е. Н. Вооовозовой.)
4
Здесь: контрольными работами (от лат. extemporalia).