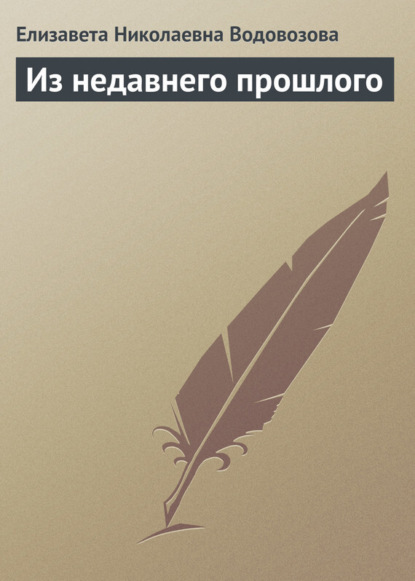По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Из недавнего прошлого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Извольте писать под мою диктовку.
И он начал диктовать по порядку, все, что было мною сказано, придавая местами иной характер моим словам и выражениям. Я положила перо со словами:
– Зачем вам трудиться диктовать, когда я сама могу написать?
– Вы думаете, у меня есть время с вами возиться? Вам сказано писать, и вы должны исполнять то, что вам приказано. Извольте сейчас же писать.
– Я не верю, что вам дано право так обращаться с кем бы то ни было. Во всяком случае, или не мешайте мне писать, или я немедленно уйду и спрошу у товарища прокурора господина Котляревского, допустимо ли здесь такое обращение, которое я встречаю от вас уже во второй раз.
– Да пусть госпожа Водовозова пишет, как она желает, – заметил второй жандарм, тут только подняв впервые голову от своей бумаги.
Когда я написала все, что требовалось, ротмистр взял бумагу и протянул ее своему соседу, который, прочитав, пробурчал:
– Кажется, все так было и устно изложено.
И я вышла из жандармского управления, уже не сомневаясь в том, что нажила себе в ротмистре П. злейшего врага.
Не дождавшись срока, назначенного мне Котляревским, я через два дня после свидания с ним, а именно 28 февраля, опять отправилась к нему с предварительно заготовленным письмом, в котором извинялась, что тревожу его раньше назначенного им времени, и объясняла, что тяжелое нравственное состояние неизвестности заставляет меня осведомиться о том, не успел ли он уже ознакомиться с делом моего сына.
Те, кто был в таком положении, в каком очутилась я, прекрасно знают, что самое ужасное в подобных случаях – оставаться без хлопот об арестованном близком человеке. С утра до вечера точно кто-то толкает тебя, точно кто-то нашептывает в уши: «Не стой на месте, ежедневно, ежечасно думай, разузнавай, нельзя ли что-нибудь сделать для облегчения участи». Эта мысль так назойливо преследует, что всякое другое дело просто валится из рук.
Я очень удивилась, когда служитель, относивший мое письмо, пригласил меня к Котляревскому: я думала, что он вышлет мне сказать, чтобы я пришла к нему через неделю, как уже было мне сказано.
– А ведь я еще не вполне ознакомился с делом, – сказал Котляревский, когда я вошла к нему. – Вы, видимо, сильно тревожитесь за судьбу вашего сына, и я уже теперь могу вас несколько успокоить: кара, вероятно, будет совсем не из тяжелых. Имейте только в виду, что я еще не успел ознакомиться со всем необходимым материалом и что решение дела зависит от усмотрения многих лиц. Если пожелаете узнать еще что-нибудь, зайдите ко мне через три-четыре дня. Во всяком случае, могу вас порадовать одним, – дело не затянется.
Уже прошел срок, назначенный мне Котляревским, а я все не являлась к нему. Только такое экстраординарное событие громадной важности, как второе первое марта, могло задержать меня: я знала, что все внимание жандармского управления и полиции сосредоточено теперь только на случившемся. У меня, однако, не хватало сил долго ждать, и я отправилась снова к Котляревскому.
– Теперь дело вашего сына затянется, – сказал он, махнув рукою, как бы говоря: «нам не до вас!»
– Но почему же?
– Да мало ли почему: будут разыскивать, не имели ли лица, арестованные за другие преступления, знакомства или каких-нибудь сношений с террористами, не принимали ли они косвенного или прямого участия в их заговоре. Да и кару ваш сын понесет потяжелее, чем тогда, если бы не случилось этого ужасающего преступления.
– Неужели кару за политические проступки налагают, не только соображаясь со степенью их тяжести, но и с событиями известного характера, хотя бы они совсем не касались арестованного?
– Непременно… Это сильно принимается в расчет! Такие события, как теперешнее, наводят обывателя на мысль, что господа революционеры несут слишком слабую ответственность за содеянное ими и что подобные печальные явления – результат слабости правительства.
– Неужели правда и то, что усиливают кару политического и за случайное знакомство с лицом, более его скомпрометированным? Ведь человек может быть знакомым с тем или другим, но находить своего приятеля неподходящим к революционной деятельности и ни слова не говорить с ним о своих планах и намерениях революционного характера.
– Извините, у нас этого никогда не бывает! Молодой человек, отдавшийся революционной деятельности, считает каждого своего знакомого подлецом, если тот не занимается тем же, чем и он, а себя ни к чему не годным, если он не сумел склонить каждого к такой же деятельности.
Недели через полторы после обыска, когда отобраны были формальные показания как от всех членов моей семьи, так и от служащих у меня в то время и служивших в моем доме много лет тому назад, мне разрешены были свидания с сыном. Я знала, при какой обстановке происходят эти свидания в доме предварительного заключения, мне однажды начертили даже план комнаты с клетками, но действительность превзошла составленное мною представление. Когда я подошла к железной клетке с двойною решеткою, в которую с другой стороны ввели моего сына, я была так ошеломлена и потрясена, что долго не могла выговорить ни слова. Трудно представить себе чувство матери, когда ей показывают родное детище, точно хищного зверя в железной клетке зоологического сада! Разница только в том, что там эта клетка стоит под открытым небом, а в клетке для арестованных настолько темно, что нельзя рассмотреть физиономию человека, стоящего в ней. Мне давали и «личные свидания»: тогда в одну из камер вводили арестованного и сажали его и меня за столик, у которого также садился тюремный надзиратель или жандармский унтер-офицер. Эти «личные свидания» почти не давали возможности беседовать с арестованным: если вы начинали говорить на иностранном языке, вас немедленно предупреждали, что это не дозволено; с тем же самым обращался к вам смотритель и тогда, когда он чего-нибудь не понимал в вашем разговоре. Да и в голову ничего не приходило при такой обстановке.
Некоторое время свидания шли совершенно правильно. Вдруг однажды, когда я только что вошла в дом предварительного заключения, один из надзирателей подошел ко мне и заявил, что я лишена свиданий, и быстро исчез. Я долго сидела на скамейке крошечного коридорчика перед дверью, за которой происходили свидания с заключенными, но смотритель не появлялся. Я была так ошеломлена этим известием, что решительно ничего не могла сообразить; наконец как-то машинально вышла на улицу и отправилась в жандармское управление. Без доклада вошла я к Котляревскому, который встал при моем появлении, и как-то машинально опустилась на стул. Я молчала, а он ходил по комнате, тоже не говоря ни слова. Наконец он налил стакан воды и поставил его передо мною. Я сделала глоток, но рука так дрожала, всю меня так трясло, что я поставила его обратно.
– За что мне запрещены свидания? – с трудом вытянула я наконец из своего горла.
Не останавливаясь и по-прежнему шагая по комнате, Котляревский проговорил:
– Вероятно, в наказание за то, что ваш сын не отвечал чистосердечно на вопросы, на которые он обязан отвечать.
– А, значит, только предатели могут видеться со своими матерями! – И тут я потеряла всякое сознание того, что я говорю, всякое самообладание и говорила, говорила, не переставая; сама себя я услышала только тогда, когда выкрикнула последнюю фразу: «И вы, человек образованный, в этой грязной яме!» Тут я несколько опомнилась, хотела встать со стула, но не могла и начала опять пить воду.
Котляревский, облокотившись на спинку пустого стула и наклонившись ко мне, проговорил резко и отчетливо, но не громко: «Как вы смеете в таком виде являться сюда? Берегитесь!» – и с шумом отодвинул свой стул, как бы приготовляясь сесть за стол. Я встала и пошла к двери, не прощаясь и не говоря ни слова.
Только ночью, лежа в постели и вспоминая все происшедшее за день, я ужаснулась при мысли, что, вероятно, наговорила Котляревскому такое, что повредит моему сыну, что теперь я лишаюсь единственного человека в жандармском управлении, который деликатно относился ко мне. Меня мучила и моя несправедливость относительно Котляревского: за его внимание я отплатила ему дерзостью. Я давала себе слово впредь молчать, когда что-нибудь будет меня сильно волновать, ужасалась своей невоздержанности вообще, хотя уже и тогда была в возрасте, смежном со старостью, но сумела выдрессировать себя в этом отношении лишь гораздо позже. Я решила не показываться более к Котляревскому на глаза, да в этом пока и не было нужды. Знакомые посоветовали мне пропустить еще одно свидание, а затем навести справки у начальника дома предварительного заключения, не получилось ли для меня дозволение снова ходить на свидания. Оказалось, что такое разрешение только что получено.
При каждом «личном свидании» я замечала, как пагубно отзывалась тюрьма на здоровье моего сына. Ввиду того что окончание его дела все затягивалось, я просила директора департамента полиции о том, чтобы мне отдали сына на поруки под денежный залог.
– Политическому преступнику не место в вашем доме, в котором собираются писатели и вообще люди неблагонадежные. Нам известно и то, что вам наносили визиты и только что выпущенные из дома предварительного заключения, – сказал мне директор.
Наступило лето, и я переехала с семейством на дачу. Я написала моей престарелой матери, чтобы она попыталась с своей стороны подать прошение с просьбою отдать ей внука на поруки, но она долго не откликалась на мое письмо, и я совершенно не понимала, почему не получаю от нее ответа. В одно из свиданий с сыном я вдруг заметила кровоподтеки на его висках. Это так меня встревожило, что я опять отправилась к директору департамента полиции, который, расспросив, где я теперь живу, к моему удивлению, сразу разрешил мне взять сына на дачу с условием, чтобы я внесла денежный залог, предупредив меня при этом, что, если к осени дело его все еще не будет окончено, он, то есть директор, никоим образом не дозволит ему жить со мною в Петербурге. Все же это быстрое согласие на исполнение моей вторичной просьбы, вопреки категорическому отказу в первый раз, вероятно, объясняется тем, что и тюремный врач заметил крайне болезненное состояние арестованного. Я внесла требуемый от меня залог и скоро после этого должна была за какой-то справкой снова явиться к директору, который объявил мне, что получил прошение от бабки моего сына.
– Теперь уже я отдал распоряжение о том, что ваш сын будет жить с вами на даче, но осенью вы должны отвезти его к вашей матери.
Так говоря, он просматривал какую-то бумагу, и мне показалось, что это и было прошение моей матери: он спрашивал меня о месте ее жительства, о том, с кем она живет, и при этом сверял с тем, что написано было в бумаге, которую он держал. Через недели две после этого я получила письмо от матери, которое носило явные следы перлюстрации, а потому и получилось гораздо позже, чем следовало. Причину своего долгого молчания моя мать объясняла своею болезнью. Она прислала мне и копию с своего прошения: в нем говорилось, что она живет в девяноста верстах от железной дороги, в глухой деревне Бухоново Смоленской губернии, в местности, в которой не существует ни фабрик, ни заводов. Она просила исполнить ее просьбу вследствие ее болезни, «надвигающегося конца ее жизни, полного одиночества, так как с нею никого нет, кроме психически больной дочери, а также ввиду заслуг, оказанных родине ее двумя родными братьями Иваном и Николаем Степановичами Гонецкими».
В продолжение всего лета на даче, несмотря на пребывание в ней моего сына, полиция совершенно не беспокоила нас. Осенью я отправилась в Смоленскую губернию и с крайним страхом оставила моего сына у матери, так как она жила с моей старшей сестрой, в то время душевнобольной. Меня очень тревожила мысль, как отразится ее болезнь на моем сыне, незадолго перед этим перенесшим тюремное заключение.
Очень скоро после моего возвращения меня посетили Давыдовы – мать и дочь. Когда мне сказали о их приезде, мне невольно пришло в голову, что с отъездом моего сына мой дом для Александры Аркадьевны оказывается неопасным. Кстати замечу, что хотя у ее дочери и был обыск, но совершенно поверхностный, и только в ее комнате; к допросу ее тоже привлекали, но ей совсем не пришлось поплатиться тюрьмой. Она нередко в присутствии матери рассказывала близким знакомым весьма неприятные вещи для самолюбия Александры Аркадьевны, но они не оскорбляли ее, так как все это ее дочь высказывала хотя и в иронически-фамильярном тоне, но чрезвычайно добродушно и мило. И на этот раз Лидия Карловна в лицах представляла ту сцену, которую ее мать, по ее словам, «закатила» мне тогда и как ее отец, в ожидании «трагического ужаса» для его семьи, мрачно ероша свои волосы, нервно бегал по комнате. Александра Аркадьевна то хохотала, то бросалась обнимать меня.
– Даю вам честное слово, – сказала Лидия Карловна, обращаясь ко мне, – что мама вполне сознательно стыдится теперь своего «гнусного поведения» и уже давно убедилась в том, что, если бы вы тогда уехали от нас, не переговорив со мной, я просидела бы в тюрьме несколько месяцев.
И обе они начали просить меня приезжать к ним, что, по их словам, им только и могло бы доказать, что я более не сержусь на них. Инстинкт, однако, подсказал мне, что до совершенного окончания «дела» моя нога не должна переступать порога их дома. И я под разными предлогами не показывалась у них, хотя обе они навещали меня от времени до времени. Моя предусмотрительность, как оказалось, имела основание.
По письмам, получаемым из деревни, я видела, что моя престарелая мать все более расхварывается. Наконец доктор, лечивший ее, написал мне, что она доживает свой последние дни и чтобы я торопилась приехать к ней, если желаю проститься с нею перед вечной разлукой. Это новое горе, свалившееся на мою голову, удручало меня вместе с мыслью о том, что-то будет с моим сыном после ее смерти? Он не мог жить в деревне не только потому, что отдан был на поруки своей бабушке, но и потому, что в доме после ее смерти могла остаться только больная сестра, психическая болезнь которой все усиливалась. Это удручавшее меня известие было получено мною как раз в приемный день директора департамента полиции, и я отправилась к нему. Когда я объяснила, в чем дело, он, вспыхнув от гнева, резко проговорил: «Вы с своим сыночком больше всех доставляете нам хлопот!» – и добавил, чтобы я вошла в его кабинет, когда будет окончен прием. Опять повторив с большими подробностями те же упреки за то, что я-де поставила его в затруднительное положение, он указал на то, что окружающие часто преувеличивают опасность болезни близких им людей. Я подала ему бывшее при мне письмо земского врача вполне официального характера и сказала, что раньше кончины моей матери я не уеду из деревни, – следовательно, не могу взять оттуда и моего сына. Это, вероятно, заставило г. Дурново поверить, что с моей стороны тут нет никакой мошеннической проделки, чтобы какими бы то ни было средствами взять сына из деревни; к тому же я представила для этого достаточно данных, по которым департамент полиции мог проверить справедливость моих слов, В конце концов директор департамента согласился на то, чтобы мой сын после возвращения из деревни остался жить со мною в Петербурге ввиду того, что его дело должно окончиться очень скоро.
Не прошло и нескольких дней после нашего приезда в Петербург, как А. А. Давыдова просила нашего общего знакомого передать мне, чтобы я не вздумала теперь посетить ее дом, так как Лиде это грозит опасностью. Я немедленно ответила ей письмом приблизительно в таком духе, что она имела бы некоторое право предупреждать меня, чтобы я удержалась от посещения ее семейства, если бы я, согласно многократным ее просьбам, хотя раз воспользовалась ее приглашением. Но так как я ни разу не была у нее после сцены, которую она мне устроила, то я принимаю переданные мне ее слова за крайнюю неделикатность с ее стороны, недобросовестность и дикую, рабскую трусость.
Неделю-другую спустя после этого ко мне приехал Николай Константинович Михайловский. Поговорив о моем путешествии и о моих делах, он перешел к «истории» с Давыдовой: она, по его словам, была сообщена ему не только Александрой Аркадьевной, но и ее дочерью, которая, в чем я нисколько не сомневалась, передавала ее с свойственным ей беспристрастием.
В своих отношениях к знакомым Николай Константинович, как истинный джентльмен, всегда стоял за то, чтобы люди порядочные крепко держались друг друга: то одному, то другому из поссорившихся он обыкновенно указывал на хорошую черту характера его противника и всегда старался объединять людей известного круга. Я не мало удивлялась, как этот заваленный редакционными делами человек, почти ежемесячно пишущий огромные статьи, мог урывать время, чтоб забежать к нескольким знакомым исключительно для того, чтобы уговорить их непременно явиться на какое-нибудь празднество в честь того или иного общественного деятеля, на похороны писателя и т. п. Конечно, в этих случаях дело шло обыкновенно о людях, являвшихся носителями тех общественных идеалов, которым он сам служил всю свою жизнь. Много горячего участия, внимания и сочувствия не только на словах, но и на деле проявлял он к каждому общественному деятелю, если ему приходилось с ним сталкиваться, пострадавшему от нашей общественной неурядицы. Но у него было не мало знакомых и в простой обывательской среде, много поклонников и поклонниц, которым он оказывал большое внимание. Однако относительно лиц этой последней категории он нередко разочаровывался, так как зачастую проявлял большую симпатию к людям, совсем не заслуживающим этого. Но до наступления разочарования Николай Константинович относился к некоторым из них до такой степени пристрастно, что, говоря о них, терял даже всякое чувство меры, точно влюбленный, и нужно заметить, что так было относительно и женщин и мужчин.
В ту пору, о которой я упоминаю, Николай Константинович, увлеченный красотою и умом Александры Аркадьевны, был возмущен моим письмом к ней, а еще более, как оказалось, моею фразою о том, что она, прожив всю свою жизнь среди людей, которые арестовывали других, теперь начала путаться среди тех, которых арестуют, а потому-де не умеет держаться с ними мало-мальски добропорядочно. Эти слова, видимо, показались Николаю Константиновичу очень оскорбительными для достоинства Александры Аркадьевны.
– С вашей стороны, – говорил он мне, – было довольно-таки жестоко пользоваться преимуществами своего положения. Александра Аркадьевна не могла самостоятельно выбирать своих знакомых: когда она вышла замуж, она была для этого слишком молода. Да и почему вы так смело утверждаете, что круг ее знакомых состоял из людей, которые арестуют? Я вовсе не хочу этим сказать, что все это были, поскольку мне известно, превосходные люди, но едва ли на всех можно взводить такое обвинение.
Я объяснила ему, что мои слова были вызваны сценой, которую она устроила мне, а мое резкое письмо – ее неделикатным предупреждением меня через общего знакомого, чтобы я не посещала ее, хотя я ни разу не была у нее, несмотря на многократные ее просьбы и посещения моего дома. Понятно, что на такой ее поступок я не могла посмотреть иначе, как на наглость, ничем не вызванную с моей стороны, и как на дикую трусость.
Николай Константинович настойчиво продолжал ее оправдывать.
– Я вполне признаю, – говорил он, – что трепет Александры Аркадьевны перед городовыми и обысками доходит у нее до комизма, что трусость вообще качество не особенно почтенное, но многие весьма образованные люди, а один мой знакомый, можно даже сказать «косая сажень в плечах», сознавались не мне одному в своей боязни мертвецов. Они знают, что покойник не схватит их за бороду, и в то же время ни за что не останутся в комнате, где лежит тело покойника. Нелепыми страхами страдают очень многие…
Его доводы в защиту Александры Аркадьевны меня совсем не убедили: я прекрасно знала, что они всегда бывают таковыми, когда ему приходится защищать своих любимцев. Однажды при мне ему кто-то рассказал о неблаговидном поступке одного его приятеля (к которому он питал в то время большую приязнь, но впоследствии совершенно разочаровался в нем), а Николай Константинович заметил: «Это совсем неправдоподобно: взгляните только сами на физиономию Кривенко, – ведь он точно с образа сорвался».
В начале 1888 года я узнала, что мой сын будет приговорен к пяти годам ссылки в Архангельскую губернию. Узнав из газет о времени приема министра юстиции Манассеина, я отправилась к нему. Оказалось, что видеть его, как и большинство других министров в то время, было совсем нетрудно: о днях их приемов печаталось в газетах и большинство министров было совершенно доступно публике.
В передней Манассеина сидел чиновник, который записывал фамилии просителей и кратко то, о чем они желали говорить с министром. Затем посетитель входил в приемную и садился подле просителя, пришедшего перед ним, чтобы не нарушать очереди. В точно определенный час в комнату вошел министр. Все встали, и он выслушивал просьбу каждого. Один из посетителей – чиновник – просил о том, чтобы его сына не отправляли по этапу, а дозволили ехать на собственный счет. При этом он подал докторское свидетельство, тут же прочитанное министром, в котором значилось, что сын просителя только что вынес тяжелую форму дифтерита и что путешествие по этапу может оказаться весьма вредным для его здоровья. Когда очередь дошла до меня, я стала просить министра об ослаблении наказания моему сыну, доказывая, что перевод Туна и составление примечаний к нему, при том условии, что эта книга не получила никакого распространения, не заслуживает такой тяжелой кары, какая ему назначена. Министр внимательно выслушал меня; по его замечаниям и сделанным мне вопросам я видела, что он с делом вполне знаком. Когда я кончила, он сказал мне: