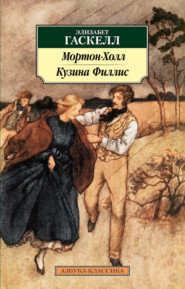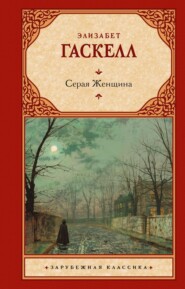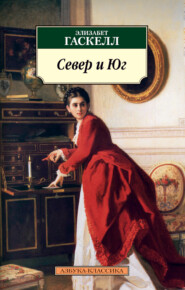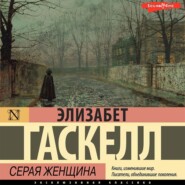По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Крэнфорд
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я пошла повидаться с мисс Поль на следующий день, что было для неё совершенным сюрпризом, потому что она не видалась с мисс Матильдой уже два дня.
– А теперь я должна идти с вами, душенька, я обещала дать ей знать каково Томасу Голбруку, и мне ужасно жаль сказать ей… что его домоправительница прислала мне известие, что ему не долго осталось жить. Бедный Томас! Этого путешествия в Париж он не мог выдержать. Домоправительница говорит, что с-тех-пор он почти совсем не обходил полей, а сидел все уткнув руки в колени в конторе, ничего не читал, а только все твердил: «какой удивительный город Париж!» Большую ответственность возьмет на себя Париж, если будет причиной смерти кузена Томаса, потому что лучшего человека не было на свете.
– А мисс Матильда знает о его болезни? спросила я – новый свет промелькнул у меня насчет причины её нездоровья.
– Разумеется, душенька! Разве она вам не сказала? Я уведомила ее, недели две назад или больше, когда в первый раз об этом услыхала. Как странно, что она вам не сказала!
«Вовсе нет», подумала я; но не сказала ничего. Я почти чувствовала себя виноватой, заглядывая слишком любопытно в это нежное сердце, и зачем мне было говорить о её тайнах, скрытых, как мисс Мэтти полагала, от целого света. Я провела мисс Поль в маленькую гостиную мисс Матильды, и потом оставила их одних; но я нисколько не удивилась, когда Марта пришла ко мне в спальню сказать, чтоб я шла обедать одна, потому что у барыни сильно разболелась голова. Мисс Мэтти пришла в гостиную к чаю, но это, очевидно, было для неё усилием. Как бы желая загладить некоторое чувство упрека, которое питала к своей покойной сестре, которое волновало ее целый день и в котором она теперь раскаивалась, она стала мне рассказывать, как добра и умна была в юности Дебора; как она умела решать, какие платья надо было надевать на все вечера (слабая, призрачная идея о веселых вечерах так давно прошедших, когда мисс Мэтти и мисс Поль были молоды) и как Дебора с их матерью завели благотворительное общество для бедных и учили девушек стряпать и шить; как Дебора однажды танцевала с лордом, и как она ездила к сэру Питеру Арлею и хотела преобразовать простой пасторский дом по планам Арлея Галля, где содержалось тридцать слуг; как она ухаживала за мисс Мэтти во время продолжительной болезни, о которой я никогда прежде не слыхала, но которую я теперь сообразила в уме, как следствие отказа на предложение мистера Голбрука. Так мы толковали тихо и спокойно о старых временах в длинный ноябрьский вечер.
На следующий день мисс Поль принесла нам весть, что мистер Голбрук умер. Мисс Мэтти выслушала ее безмолвно; впрочем, по вчерашним известиям только этого и надо было ожидать. Мисс Поль вызывала нас на выражение сожаления, спросив не грустно ли, что он скончался, и сказав:
– Как подумаешь об этом приятном июньском дне, когда он казался так здоров! И он мог бы прожить еще лет двенадцать, не поезжай он в этот нечестивый Париж, где у них всегда такая кутерьма!
Она остановилась, ожидая от нас каких-нибудь доказательств сожаления. Я видела, что мисс Мэтти не может говорить: с ней была такая нервическая дрожь; я, с своей стороны, сказала, что чувствовала действительно. Посидев несколько и думая, как я не сомневаюсь, что мисс Мэтти приняла известие очень спокойно, наша гостья простилась; но мисс Мэтти усиливалась удержать свои чувства. Она никогда не упоминала более о мистере Голбруке, хотя книга, подаренная им, лежала вместе с Библией на столике возле её постели; она не думала, что я слышала, как она просила крэнфордскую модистку сделать ей чепчики, похожие на те, которые носит её сиятельство мистрисс Джемисон; она не думала, что я обратила внимание на ответ модистки: но ведь она носит вдовьи чепчики, сударыня.
«О! я хочу сказать… только что-нибудь в этом роде; не вдовьи, разумеется, а несколько похожие на чепчики мистрисс Джемисон». Это усилие обуздать себя было началом трепетных движений головы и рук, которые я с-тех-пор видела постоянно у мисс Мэтти.
Вечером в тот день, когда мы услышали о смерти мистера Голбрука, мисс Матильда была очень молчалива и задумчива; после молитвы она призвала Марту и потом не решалась сказать, что хотела.
– Марта! сказала она наконец: – ты молода… и потом замолчала. Марта, чтоб напомнить ей о её недоконченной речи, сделала поклон и сказала:
– Да-с, точно так; двадцать два года с прошлого октября.
– А, может быть, Марта, ты когда-нибудь встретишь молодого человека, который тебе понравится и которому понравишься ты. Я сказала, чтоб у тебя не было поклонников; но если ты встретишь такого молодого человека и скажешь мне, а я найду, что он человек достойный, я не буду препятствовать, чтоб он приходил видеться с тобою раз в неделю. Сохрани Боже! сказала она тихо – чтоб я причинила скорбь юным сердцам.
Она говорила об этом как о весьма отдаленном случае, и несколько удивилась, когда Марта отпустила ей торопливый ответ:
– Вот сударыня Джим Гэрп, столяр, вырабатывает три с половиной шиллинга в день, и росту шесть футов один дюйм; жених хоть куда; если вы расспросите о нем завтра утром, всякий скажет, какой у него степенный нрав; он будет рад-радёхонек прийти завтра вечером – вот право слово.
Хотя мисс Мэтти была испугана, однако она покорилась судьбе и любви.
V. Старые письма
Я часто примечала, что почти каждый имеет свою особенную, лично-принадлежащую ему, экономию, заботливую привычку сберегать мелкие пенни в каком-нибудь особенном предмете, пенни, которых малейшая растрата неприятна ему более нежели трата шиллингов или фунтов, издержанных для какого-нибудь действительного мотовства. Один старый джентльмен знакомый мне, узнав с стоической кротостью о банкротстве одного коммерческого банка, в котором находилась часть его денег, мучил свое семейство целый день за то, что кто-то оторвал, а не отрезал исписанные листки вовсе ненужной счетной книги; разумеется, соответственные страницы на другом конце могли пригодиться; и эта небольшая, ненужная трата бумаги (его особенная экономия) рассердила его больше, чем потеря денег. Конверты страшно терзали его душу, когда появились в первый раз; он только и мог помириться с такой тратой его любимой бумаги, что терпеливо перевертывал на другую сторону все конверты, которые ему присылались, чтоб они таким образом пригодились опять. Даже теперь, хотя время изменило его, я вижу, как он бросает пристальные взгляды на дочерей, когда они напишут записки на целом листе вместо полулиста, не более трех строчек на одной странице. Я не могу не признаться, что также обладаю этой общечеловеческой слабостью. Снурочки составляют мою слабую сторону. Карманы мои наполнены небольшими моточками, подобранными везде, где ни попало и связанными вместе для употребления, никогда непредставляющегося. Мне делается серьёзно-досадно, если кто-нибудь обрезывает затянувшийся узел вместо того, чтоб терпеливо и добросовестно распутать его. Каким образом люди могут употреблять новоизобретенные резинковые снурочки – я не могу вообразить. Для меня резинковый снурочек драгоценное сокровище. У меня есть один уже не новый, поднятый мною на полу лет шесть назад. Я точно пробовала употреблять его; но у меня не достало сил, и я не могла решиться на такое мотовство.
Кусочки масла сердят других. Они не могут обращать внимания на разговор от досады, которую причиняет им привычка некоторых людей непременно брать больше масла, нежели им нужно. Не случалось ли вам видеть беспокойные взгляды (почти-месмерические), которые такие люди устремляют на масло? Они почувствовали бы облегчение, если б могли спрятать масло от глаз, всунув в свой собственный рот и проглотив; и действительно становятся счастливы, если та особа, на чьей тарелке оно лежит нетронутым, вдруг отрезывает кусок поджаренного хлеба (которого ей совсем не хочется) и съедает масло. Они думают, что это не расточительность.
Мисс Мэтти Дженкинс жалела свечей. Она придумывала множество причин, чтоб жечь их как можно меньше. В зимнее послеобеденное время она могла вязать два или три часа в потемках, или при свете камина; и когда я ее спрашивала: могу ли позвонить и велеть подать свечи, чтоб окончить мои нарукавники, она отвечала мне всегда «работайте без свеч». Свечи обыкновенно приносили с чаем, но зажигалась всегда только одна. Так как мы жили в постоянном ожидании гостей, которые могли прийти вечером (но которые, однако, никогда не приходили), то и придумано было некоторое обстоятельство, чтоб иметь свечи одинаковой вышины, всегда готовые быть зажженными, и показывать, будто мы всегда употребляем две. Свечи зажигались по очереди, и как бы мы ни работали, о чем бы мы ни говорили, глаза мисс Мэтти постоянно были устремлены на свечу, чтоб вдруг вскочить, затушить и зажечь другую: тогда они могли сравняться в продолжение вечера, прежде чем сделаются слишком неровны в вышине.
В один вечер, я помню, эта свечная экономия особенно мне надоела. Я очень устала от моего принуждения, особенно, когда мисс Мэтти заснула и мне не хотелось поправлять огонь, чтоб не разбудить её; я не была также в состоянии жариться на ковре перед камином и шить при его свете, как делала это обыкновению. Я думала, что мисс Мэтти снилась её молодость, потому что она сказала два или три слова во время своего беспокойного сна, которые относились к людям давно умершим. Когда Марта принесла зажженную свечку и чай, мисс Мэтти вдруг проснулась и вскочила, обводя странным, изумленным взглядом вокруг, как будто мы были не те, кого она надеялась видеть возле себя. На лице её мелькнула тень грустного выражения, когда она меня узнала; но тотчас же она сделала усилие мне улыбнуться по обыкновению. Во все время, как мы пили чай, она говорила о днях своего детства и юности. Может быть, это навело на нее желание пересмотреть старинные семейные письма и уничтожить такие, которым не следовало попасть в руки посторонних; она часто говорила и о необходимости сделать это, но всегда уклонялась с робким опасением чего-то мучительного. В этот вечер, однако, она встала после чая и пошла за ними в потемках; она хвалилась аккуратным порядком во всех своих комнатах и всегда беспокойно на меня взглядывала, когда я зажигала свечу, чтоб пойти зачем-нибудь в другую комнату. Когда она воротилась, по комнате распространился приятный запах; я часто примечала этот запах во всех вещах, принадлежавших её матери, а многие из писем были адресованы к ней, то были желтые связки любовных посланий, написанных за шестьдесят или семьдесят лет назад.
Мисс Мэтти со вздохом развязала пакет, но тотчас же заглушила этот вздох, как будто не следовало жалеть о полете времени, или даже о жизни. Мы сговорились пересматривать корреспонденцию каждая особенно, взяв по письму из той же самой связки и описывая его содержание друг другу прежде чем его уничтожим. До этого вечера я совсем не знала, как грустно читать старые письма, хотя не могу сказать почему. Письма были так счастливы, как только письма могут быть, по крайней мере, эти первые письма. В них было живое и сильное ощущение настоящего, казавшееся до того сильным и полным, как будто никогда не могло оно пройти, и как будто горячие, живые сердца, так выражавшиеся, никогда не могли умереть и не иметь более сношения с прекрасною землею. Я чувствовала бы себя менее грустной, я полагаю, ежели бы письма были более грустны. Я видела, как слезы тихо прокрадывались по глубоким морщинам мисс Мэтти, и очки её часто требовалось вытирать. Я надеялась, по крайней мере, что она зажжет другую свечку, потому что и мои глаза были несколько тусклы, и мне нужно было побольше света, чтоб видеть бледные, побелевшие чернила; но нет, даже сквозь слезы она видела и помнила свою маленькую экономию.
Первый разряд писем составляли две связки, сложенные вместе и надписанные рукою мисс Дженкинс: «Письма моего многоуважаемого отца и нежно любимой матери до их брака в июне 1774.». Я отгадала, что крэнфордскому пастору было около двадцати семи лет, когда он писал эти письма, а мисс Мэтти сказала мне, что матери её было семнадцать в то время как она вышла замуж. С моими понятиями о пасторе, навеянными портретом в столовой, принужденным и величественным в огромном, широком парике, в рясе, кафтане и воротничке, с рукою положенною на копию единственной изданной им проповеди, странно было читать эти письма. Они были исполнены горячего, страстного пыла, краткими простыми выражениями прямо и свежо-вырвавшимися из сердца; совсем непохожими на величественный латинизированный джонсоновский слог напечатанной проповеди, говоренной пред каким-то судьей в ассизное время. Письма его составляли любопытный контраст с письмами его невесты. Ей, казалось, несколько надоели его требования о выражениях любви, и она не могла понять, что он подразумевал, повторяя одно и то же таким различным образом; она совершенно понимала только свое собственное желание иметь белую шелковую материю, и шесть или семь писем были наполнены просьбою к жениху употребить свое влияние над её родителями (которые очевидно держали ее в большом повиновении) выпросить для неё ту или другую статью наряда и, более всего, белую шелковую материю. Он не заботился, как она одета; она всегда была для него довольно мила, как он старался ее уверить, когда она просила его выразить в своих ответах какой наряд он предпочитает, затем, чтоб она могла показать родителям то, что он говорит. Но наконец он, казалось, догадался, что она не согласится выйти замуж до тех-пор, пока не «получит приданого» по своему вкусу; тогда он послал к ней письмо, как видно, сопровождаемое целым ящиком нарядов, и в котором просил ее одеваться во все, что только она пожелает. Это было первое письмо надписанное слабою, нежною рукой: «От моего дорогого Джона.» Вскоре после этого они обвенчались, я так полагаю, по прекращению их переписки.
– Мы должны сжечь их, я думаю, сказала мисс Мэтти, посмотрев на меня с сомнением – никому они не будут нужны, когда меня не станет.
И одно за одним побросала она их в огонь, наблюдая, как каждое вспыхивало, погасало, опять загоралось слабым, белым, призрачным подобием в камине, прежде чем она предавала другое такой же участи. Теперь комната была довольно светла, но я, подобно мисс Мэтти, была погружена в рассматривание тлеющих писем, в которых вылился благородный жар мужского сердца.
Следующее письмо, точно также было надписано мисс Дженкинс: «Письмо благочестивого поздравления и увещания от моего почтенного деда к моей матери по случаю моего рождения. Также некоторые дельные замечания моей превосходной бабушки о желании содержать в тепле оконечности ребенка».
Первая половина точно была строгим и сильным изображением материнской ответственности и предостережением против зол, ожидающих крошечного двухдневного ребенка. Жена его не писала, говорил старик, он запретил ей, потому что она вывихнула лодыжку, что (говорил он) совсем не позволяет ей держать перо. Однако на конце страницы стояли буквы «Г. О.», (переверни) и на обороте было письмо к «моей любезной, любезнейшей Молли», умолявшее ее, когда она выйдет первый раз из комнаты зачем бы то ни было, пойти на верх, а не вниз, и обвертывать ноги ребенка фланелью, нагретой у огня, хотя это было летом, потому что малютки так деликатны.
Приятно было видеть из писем, довольно частых между молодою матерью и бабушкой, как девическое тщеславие искоренялось из её сердца любовью к ребенку. Белая шелковая материя опять явилась на сцену в письмах. В одном из неё собирались сделать платьице для крестин. Оно украшало ребенка, когда родители взяли его с собою провести дня два в Арлее Галле. Оно увеличивало прелести прелестнейшего ребенка, какой когда-либо был на свете. «Любезная матушка, как бы я желала, чтоб вы его увидели! Без всякого пристрастия мне кажется, что малютка будет совершенной красавицей!» Я подумала о мисс Дженкинс седой, сморщенной и поблекшей.
Тут был большой пропуск в письмах пастора. Жена его надписывала уже не так; уже не от «Моего любезнейшего Джона», а от «Моего уважаемого супруга». Письма были по случаю издания той самой проповеди, которая была изображена на портрете. Чтение перед «милордом судьей» и «издание по просьбе» были главным предметом, событием в жизни пастора. Ему необходимо было ехать в Лондон надзирать за печатанием. Скольких друзей посетил он, чтоб посоветоваться и решить, какую выбрать типографию для такого важного труда; наконец решило, что Дж. и Дж. Рипингтонам будет поручена такая лестная ответственность. Достойный пастор, казалось, настроился по этому случаю на высокий литературный тон, потому что он не мог написать письма жене, не вдавшись в латин. Я помню, что в конце одного из его писем стояло: «Я всегда буду держать в памяти добродетельные качества моей Молли, dum memor ipse mei, dum Spiritus regit artus», а взяв в соображение, что английский язык его корреспондентки иногда грешил против грамматики и часто против правописания, могло быть принято за доказательство, до какой степени он «идеализировал» свою Молли. Мисс Дженкинс обыкновенно говорила: «в нынешнее время много толкуют об идеализировании; Бог знает, что это значит». Однако ж такое настроение пастора ничего не значит в сравнении с внезапным припадком писать классические стихотворения, который скоро овладел им, и где его Молли являлась «Марией». Письмо, содержащее carmen, было надписано ею: «Еврейские стихотворения, присланные ко мне моим уважаемым супругом. Я думала, что получу письмо об убиении поросенка, но должна подождать. Зам. послать стихотворения сэру Питеру Арлею, по желанию моего супруга». А в постскриптуме его почерком было прибавлено, что ода явилась в «Gentleman's Magazine», декабрь, 1782.
Письма её к мужу так нежно ценимые им, как будто они были М. T. Ciceronis Epistolae, были гораздо удовлетворительнее для отсутствующего мужа и отца, нежели его письма к жене. Она говорила ему, как Дебора чисто шила каждый день и читала ей по книгам, которые он для неё выбрал; как она была очень прилежным, добрым ребенком; но делает вопросы, на которые мать не может ей отвечать: мать не хочет унизиться, сказав, что не знает, и принуждена мешать огонь или послать ребенка с каким-нибудь поручением. Мэтти была теперь любимицей матери и обещала (точно так как, сестра в эти лета) сделаться большой красавицей. Я прочла это вслух мисс Мэтти, которая улыбнулась и вздохнула при надежде, так нежно выраженной, что «маленькая Мэтти не будет тщеславной, если даже сделается красавицей».
– У меня были славные волосы, душенька, сказала мисс Матильда: – и не дурной рот.
И я видела потом, как она поправила свой чепчик и выпрямилась.
Но воротимся к письмам мистрисс Дженкинс. Она говорила мужу о бедных в их приходе; какие простые домашние лекарства давала она; какие средства и кушанья посылала, спрашивала наставления о коровах и поросятах и не всегда их получала, как я сказала уже прежде. Добрая старуха-бабушка умерла, когда родился мальчик – это было вскоре после издания проповеди; но от деда тут было другое увещательное письмо, еще сильнее, убедительнее прежних, так как теперь от западни света нужно было предохранить мальчика. Дед описывал все разнообразные грехи, в которые человек может впасть, и я удивлялась, как люди могут после этого умирать естественной смертью. Виселица, казалось, была окончанием жизни многих из знакомых деда; и я не удивилась тому, что жизнь его была «долиной слез».
Мне казалось странно, что я никогда не слыхала прежде об этом брате; но я заключила, что он верно умер в детстве, а то, иначе, сестры упомянули бы о нем.
Мало-помалу мы добрались до писем мисс Дженкинс. Мисс Мэтти было жаль сжечь их. Она говорила, что все другие письма были интересны только для тех, кто любил писавших; казалось, ей было бы больно, если б они попали в руки посторонних, не знавших её любезной матери, неоценивших, как она была добра, хотя не всегда совершенно выражалась новейшим слогом. Письма Деборы… другое дело: они были так превосходны! Каждому прочитать их было полезно. Давно уже мисс Мэтти читала мистрисс Шапон, но знала, что Дебора могла сказать то же самое также хорошо; а что касается до мистрисс Картер – все ужасно много думают о её письмах именно потому, что она написала Эпиктета; но мисс Мэтти была совершенно уверена, что Дебора никогда не употребила бы таких пошлых выражений.
Было ясно, что мисс Мэтти жаль сжечь эти письма. Она не хотела допустить, чтоб я небрежно перебрала их, или пробежала тихо и с пропусками. Она взяла их от меня и даже зажгла другую свечку, чтоб прочесть с приличной выразительностью, не спотыкаясь на важных словах. О! как мне хотелось фактов вместо размышлений, прежде чем эти письма будут окончены! Они длились два вечера, и я не стану отпираться, что в это время думала о многих других вещах; а все-таки я была на своем посту при конце каждого изречения.
Письма пастора, его жены и тещи все были изрядно-коротки и важны, писаны прямым почерком, очень сжатыми строчками. Иногда целое письмо заключалось на простом лоскутке бумажки. Бумага была очень желта, а чернила очень темны; некоторые из листов были (как мисс Мэтти дала мне заметить) старомодной почтовой бумагой со штемпелем, представляющим на углу скачущего во весь дух почтальона, трубящего в рожок. Письма мистрисс Дженкинс и её матери были запечатаны большой круглой красной облаткой; потому что это было прежде чем «Покровительство» мисс Эджворт изгнало оплатки из порядочного общества. Было очевидно из содержания того о чем говорилось, что письма, с адресами членов парламента были в большом употреблении и даже служили средством к платежу долгов нуждающихся членов парламента[8 - В прежнее время каждый член нижнего парламента имел право посылать на почту каждый день известное число писем бесплатно, и этим пользовались его знакомые, предоставляя ему писать адресы на конвертах. Прим. перев.]. Пастор запечатывал свои послания огромной гербовой печатью. Он надеялся, что так хорошо-запечатанные письма будут подрезаны, а не разорваны какой-нибудь беззаботною или нетерпеливою рукой. Письма мисс Дженкинс были позднейшего времени по форме и почерку. Она писала на квадратном листке, который мы теперь называем старомодным. Почерк её был удивительно рассчитан, чтоб наполнить листок, а потом с гордостью и восторгом начать перекрестные строчки. Бедную мисс Мэтти это приводило в грустное замешательство, потому что длинные слова накоплялись в объеме подобно снежным глыбам и к концу письма мисс Дженкинс обыкновенно становилась неудопонятной.
Я не могу в точности вспомнит времени, но думаю, что мисс Дженкинс написала особенно много писем в 1805 году, по случаю своего путешествия к каким-то друзьям близь Ньюкэстля на Тайне. Эти друзья были коротко-знакомы с начальником тамошнего гарнизона и слышали от него о всех приготовлениях, чтоб отразить вторжение Бонапарта, которое многие предполагали при устье Тайна. Мисс Дженкинс, как видно, была очень испугана, и первая часть её писем была часто писана хорошим, понятным английским языком, сообщавшим подробности о приготовлениях, делаемых в том семействе, у которого она гостила, против ужасного события: об узлах платьев, уложенных, чтоб все было наготове на случай бегства в Альстон Мур (дикое нагорное место между Нортумберлендом и Кумберландом); о сигнале, который должен быть подан для побега и об одновременном явлении под знамена волонтеров – сигнал должен был состоять (как мне помнится) в звоне колоколов особенным, зловещим образом. В один день, когда мисс Дженкинс с своими хозяевами была на обеде в Ньюкасле, этот предостерегательный сигнал был точно подан (поступок не весьма благоразумный, если только есть какая-нибудь правда в нравоучении, заключающемся в басне о Мальчике и Волке), и мисс Дженкинс, едва оправившаяся от страха, описала на следующий день ужасный испуг, суматоху и тревогу и потом, несколько оправившись прибавила: «Как пошлы, любезнейший батюшка, кажутся наши вчерашние опасения в настоящую минуту спокойным и прозорливым умам!» Здесь мисс Мэтти прервала чтение словами.
– Но, душенька, они совсем не были ни пошлы, ни ничтожны в то время. Я знаю, что сама я часто просыпалась несколько раз ночью, воображая, будто слышу топот французов, входящих в Крэнфорд. Многие поговаривали, что хотят спрятаться в солекопни: там говядина сохранилась бы прекрасно и только мы пострадали бы от жажды. Отец мой говорил целый ряд проповедей на этот случай; одни утром, о Давиде и Голиафе, чтоб побудить народ сражаться заступами или кирпичами, если б это было нужно; а другие вечером, в доказательство, что Наполеон был все равно, что Аполлион и Аббадона. Я помню, батюшка полагал, что его будут просить напечатать эти последние; но приход был, может быть, доволен и тем, что слышал их.
Питер Мармадук Арлей Дженкинс («бедный Питер!», так мисс Мэтти начала называть его), был в Шрюсбюрийской Школе в то время. Пастор принялся за перо и еще раз обратился к своей латыни, чтоб переписываться с этим мальчиком. Ясно, что письма мальчика были, что называется письмами напоказ. Они были наполнены превыспренними описаниями, дававшими отчет о его учении и умственных надеждах разного рода с изречениями из классиков; лишь время от времени животные побуждения вырывались такими выражениями, например, написанными с дрожащей торопливостью, после того, как письмо было осмотрено: «Милая матушка, пришлите мне пирожного и положите туда побольше лимонов». Милая матушка, вероятно, отвечала сынку только пирожным и сластями, потому что писем её тут не было, но за-то была целая коллекция пасторовых писем, на которого латынь в письмах сына действовала подобно трубе на старую военную лошадь. Я немного понимаю в латыни, конечно, и этот слог, служащий к украшению, не весьма полезен, как мне кажется, по крайней мере, судя по отрывкам, которые я припоминаю из писем пастора; один был такого рода: «этот город не находится на твоей ирландской ландкарте; но Bonus Bernardus non videl omnia, как говорят proverbia». Теперь становилось очень ясно, что «бедный Питер попадался во многие беды». Тут были письма высокопарного раскаяния к отцу в каком-нибудь нехорошем поступке, и между ними дурно-написанная, дурно-запечатанная, дурно-адресованная, запачканная записка: «Милая, милая, милая, милейшая матушка, я исправлюсь непременно, только пожалуйста не сердитесь на меня, я этого не стою, но я сделаюсь добрым, дорогая матушка».
Мисс Мэтти не могла говорить от слез, когда прочитала эту записку. Она подала мне ее в молчании, потом встала и отнесла в самые сокровенные ящики своей спальни, боясь, чтоб, как-нибудь случайно, не была она сожжена.
– Бедный Питер! сказала она: – он всегда попадался в беды; он был слишком легковерен. Завлекут его в дурное, а потом и поставят в тупик; но он был слишком большой охотник до проказ; никак не мог удержаться, чтоб не подшутить. Бедный Питер!
Часть вторая
I. Бедный Питер
Карьера бедного Питера развертывалась перед ним очень приятно, устроенная добрыми друзьями, но Bonus Bernardus non videt omnia тоже в этом начертании. Он должен был приобрести почести в Шрюсбюрийской Школе, увезти их с собою в Кембриджский Университет, а после его ожидало пасторское место – подарок крестного отца сэра Питера Арлея. Бедный Питер! доля его в жизни была весьма различна от того, чего надеялись и чего ожидали его друзья. Мисс Мэтти все мне рассказала и я думаю, что это было для неё большим облегчением.
Он был любимцем матери, которая хвалила до безумия всех своих детей, хотя, может быть, несколько страшилась высоких сведений Деборы. Дебора была любимицей отца, и когда он разочаровался в Питере, она сделалась его гордостью. Единственная почесть, привезенная Питером из Шрюсбюри, была репутация самого доброго мальчика на свете и школьного зачинщика в шалостях. Отец разочаровался, но решился поправить дело по-мужски. У него не было средств отдать Питера к особому учителю, но он мог учить его сам, и мисс Мэтти много мне говорила о страшных приготовлениях насчет словарей и лексиконов, сделанных в кабинете отца в то утро, когда Питер начал курс.
– Бедная матушка! сказала она. – Я помню, что она обыкновенно оставалась в зале так близко от кабинетной двери, чтоб уловить звуки батюшкиного голоса. Я могла угадать в минуту по её лицу, если все шло хорошо. И долго все шло хорошо.
– Что наконец пошло дурно? сказала я: – верно эта скучная латынь.
– Нет, не латынь. Питер был в большой милости у батюшки, потому что работал хорошо. Но ему вдруг вздумалось подшутить над Крэнфордцами и настроить разных проказ, а им это не понравилось; не понравилось никому. Он всегда надувал их; «надувал» не совсем приличное слово, душенька, и я надеюсь, вы не скажете вашему батюшке, что я его употребила; мне не хочется, чтоб он думал, будто я не разборчива в выражениях, проведя жизнь с такой женщиной, как Дебора. И наверно вы никогда не употребляете такого слова сами. Не знаю, как оно сорвалось у меня с языка, разве только потому, что я думаю о добром Питере, а он всегда так выражался. Он был преблагородным мальчиком во многих отношениях. Он походил на любезного капитана Броуна во всегдашней готовности помочь старику или ребенку, однако любил подшутить и наделать проказ; он думал, что старые крэнфордские дамы поверят всему. Тогда здесь жило много старых дам, и теперь, по большей части, мы все дамы, но мы не так стары, как те дамы, которые жили здесь, когда я была девочкой. Мне смешно, когда я подумаю о шалостях Питера.
– Мисс Дженкинс знала об этих шалостях? спросила я.