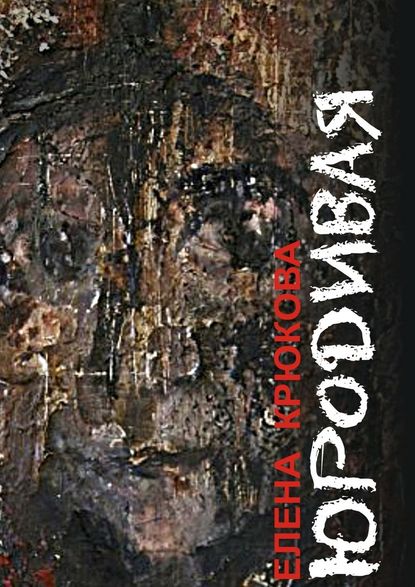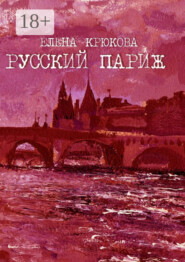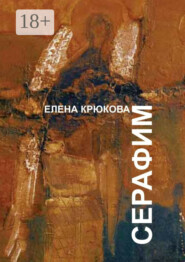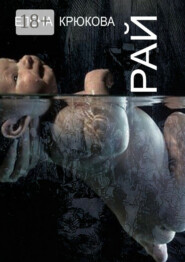По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Юродивая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
так очисти меня благоутробною милостью Твоею».
Покаянная молитва св. Ксении Юродивой
на Великом Повечерии
Глава вторая. Снег жжет босые пятки
«Господь мой, Возлюбленный мой,
благодарю Тебя всем сердцем
за счастливое супружество мое;
Ты благословил меня и мужа моего на союз,
Ты дал непорочно нам на ложе пребывать;
и за то, что Ты мужа моего
на небо к Себе взял —
низко кланяюсь Тебе и целую легкие ноги Твои».
Ирмос св. Ксении Юродивой Христа ради
(РИСУНОК КО ВТОРОЙ ГЛАВЕ: ВИНОГРАД – СИМВОЛ ЦЕРКОВНОГО БРАКА)
Она достоверно не помнит, когда сместились времена. Сместились – и все. Ее не спросили. Каждое время имеет своих ангелов-хранителей, которые реют над этим временем, пасут его и благословляют, и своих маленьких, противных демончиков, втыкающих во Время гвозди и пики. Ангельчики и демончики рассорились, передрались, и вышла штука совсем уж непонятная. Вот строили, строили древние народы до неба башню Вавилонскую, а она возьми да рухни и рассыпься. А языки? Все стало варево, тесто, снежный ком. Разве человеку под силу запомнить, заучить бездну языков? А времена? Это ж те же языки: то так говорят времена, то эдак, то молчат страшно. Было одно Время, а теперь их много. Весь секрет – в душе. Душу ученые даже расчленили на крохотулечные частички, обзывают эти частички по-всякому – и что? Все зря. Если и есть на Земле что неделимое, неразъемное, так это душа. О ней все люди во всех временах переспорились. До драки перегрызлись.
Не пора ли простить, поцеловать друг друга?!
Не пора. Не пора.
Стихира Ксении о первом пророчестве ея
Кран капает на кухне. Я перевязываю бинтом порезанную руку. Кровь рубиновой полосой просачивается сквозь бинт. Сколько мне лет? Я не знаю. Не могу сказать точно. Лета мои никто не записывал в пухлые казенные книги, не ставил штампы и печати на пропуска. Мои лета не умерли, потому что я знаю, как лечить Время. Потому что я Его люблю и поклоняюсь Ему; потому что Оно меня полюбило, а я овладела Им. Эх, смелая я! Не растерялась. Другие люди теряются. Другие люди – от и до Время размечают, под Его дудку танцуют, булавками Его, как бабочку, пришпиливают к своей хиленькой, смертненькой жизнешке. Я же сказала Ему: «Делай со мной что хочешь. Мни, жги меня, крути, истязай. Ставь к стенке. Я все равно Твоя, а ты – Мое. Мое Время. Моя бездонная бочка. Мой соглядатай. Моя колыбель. Мой любимый владыка: с жарким военным телом, с длинными ногами, знающий меня вдоль и поперек. Разве я могу Тебя отвергнуть?» И робко, нежно улыбаясь, наивно так, прикинулась дурочкой незнающей, слабенькой девчоночкой, и подступила к Нему. Ближе. Ближе. Еще ближе.
И Оно испугалось, обняло меня и вошло в меня.
И в любой Его дом, который Оно снимает в сутолоке веков, я смело захожу и поселяюсь там, раскладываю свои манатки, ем свой хлеб. Это так здорово – свободно есть свой хлеб везде и всегда, где хочешь! Быть владычицей Времени, быть Его женой. Да еще женою капризной, вывертливой: что где не по нраву – быстро шасть вон, только меня и видели!
Есть беда… одна беда. Все сбивается в перекати-поле, катится волглым, грязным снежным комом – на четыре стороны света: иной раз не на Север, не на Запад, а в тартарары, навонтараты. Мои волосы сбиваются в клубок, ветер больно сечет руки, ноги. Чрево выжигает огонь. Где я сейчас?.. Смогу ли я еще родить жизнь? Смогу ли я родить себя – в смерть? Может, я уже умерла? Почему я ничего не чувствую? Почему меня можно колоть иголками, булавками, ножами и копьями – и я ничего не почувствую? Значит ли это, что я мужественна и воинственна? Может, меня уже нет на свете, а есть только воспоминание обо мне? Я никогда не рассказывала другим о себе, не исповедовалась в церкви. Мне – исповедовались, мне – рассказывали. Я умею кормить с ложечки, умею перевязывать раны.
Господи, как болит рука! А я думала – пройдет, отпустит.
Серый, сизо-голубиный день осыпал пыльцу мокрого снега в стянутые сахарным ледком лужи. За ночь подморозило, все занесло порошей, земля походила на умытого младенца в колыбели. По желто-голубому, отчаянно-радостному флагу неба ходили вражеские тени брюхатых снегами туч. Продавцы бессмертников, сушеных букетов, нахохлясь и грея дыханием красные руки, сидели между торговок пирожками, и гул от уродливых железных коробок, напичканных пахучими газами, стоял в воздухе зимы, наводнял ее отравой, паучьи вползая в человечьи легкие. Круговерть колес и огней пугала. Надо было стать петухом или совой, чтоб успевать поворачивать голову за мельканием, сутолокой, веером гудков и наотмашь бьющих лучей. Крутился каменный жернов, выпуская людей из подземного мира, где в ноздри бил запах резины и составы мчались, мыча, как обезумевшие на бойне коровы. А лица людей все были живыми, все улыбались. Под землею, в сверканье радужного кафеля и кровавого, как мясной срез, мрамора на корточках сидел слепой баянист, играл песню «На сопках Маньчжурии», и прозрачные капли из пустых глазниц капали ему на баян, путались в седой щетине. Поодаль девушка плакала, отвернувшись к стене, царапая гладкий мрамор. Рядом с девушкой стояло и валялось множество тючков, узлов, свертков, баульчиков, и было непонятно и страшно, как же она понесет все это сама. «Баянист! – плакала она пьяно. – Сыграй еще, баянист, спой!.. Про погибшую жизнь мою!.. Про того, кто выгнал меня на мороз, про него!.. Куда я теперь пойду!.. Куда!..» И баянист послушно, вворачиваясь, вгрызаясь скрюченными, прокуренными пальцами в кнопочки баяна, хлестко и звонко играл, играл ей, плачущей, все, что знал – и «Амурские волны», и «Прощание славянки», и «Мой Лизочек так уж мал, так уж мал…» – а она билась лбом об узорчатый мрамор и выкрикивала: «Я на улице теперь!.. На улице!.. На улице!.. И нету добрых людей!.. Нету!.. Нету!..»
Обвести подземелье упрямыми глазами – и наверх, на свет. Вот она, на свету, на юру, а внизу зальделый ручей вьется, – посреди хлама и срама, в недрах людского духовитого варева, между резко-синим небом и насмерть забитой ударами веток и ветра беднягой-землей, – густо-малиновая, темно-багряная церковь с золотым Николой в нише, у ног которого лежат сухие цветы, кусок лимона, соленый помидор и три конфетки, бедняцких «подушечки», – а наверху звонарь старается, жарит, шпарит, сыплет, расстилает по небу блесткую скатерку небесных звуков!
Ты шла в толпе спокойно, тяжким шагом. На тебя все оглядывались. С твоих тощих плеч свисала, подобно мертвым крыльям, дубленка, драная собака, без пуговиц; платье, собственноручно пошитое из мешковины, чисто простиранное в щелочи, глухо застегивалось у горла. Волосы развевались по ветру. Хороши были твои волосы, ничего не скажешь – ты все шутила, ухмылялась: пока мужики по ниточке не повыдергивали. Густые, темно-русые, с ранней сединой. Их концы, обцелованные ветром, закручивались в кольца. Ты шла гордо и молча, глядя поверх толпы: все равно ты видела каждое людское лицо в отдельности внутри себя, – так, как огонь во печи видит хлеб. Люди не смотрели в твое лицо – они глядели на твои ноги. Глядели: кто вздрогнет, кто подхихикнет, кто постарее, вздохнет и перекрестится, кто закурит нервно. Кто смело крикнет: «Дура!» Кто поежится презрительно: «Пьяная». Ты будто не слышала этого. Ты шла и шла – просто, как в лес по грибы, как царица на царство. Тебе важно было дойти. Зимой всегда важно дойти. Вьюга, гололедица, ураган, а ты идешь, но и это еще не самое страшное. Зимой у людей лица румянятся, а сердца стынут жестко, как замки на морозе.
Вот и храм близко; теплая стена его, вишневая, кирпичная, маячит, качается; ты чувствуешь, как голодное тело твое горит под дубленкой, как большая свеча, – сейчас из головы вырвется пламя, и, может, его увидят слепые люди. Должно быть, они и глухие, – надо кричать как можно громче. Кричать?! Ну и глупа же ты, матушка! Они, не будь дураки, тут же кинутся, отыщут, позвонят, примчатся, – и явится, по мановению волшебной палочки, фургон с решеткой, как для зверей. И твое лицо будет мотаться в клетке белой птицей. Выпустите меня! А! как бы не так!.. Любишь кататься, дура, – люби и саночки возить!.. В мире все разложено по полочкам, все устроено лучше некуда: гвоздь пригнан к гвоздю, шестеренка – к шестеренке. Почему они все, балды, на ноги твои пялятся?! А ноги-то твои свободны. Свободны ступни, свободны щиколотки и голени, свободны горящие радостью пятки, свободен каждый малый зверюшка-пальчик. Босой человек – это целый мир. Босой – это вера и счастье: верую, что я нищ и честен, верую, что гол и наг, – перед Господом же стою, перед Ним и иду мой путь, может, он, путь-то, и на мою Голую Гору меня приведет, – это и будет счастье, а я и так счастлив уже – тем, что свободен! Ах, нельзя быть свободным от людей?! Ах, они, люди-людишки, кричат мне свои неписаные заповеди?! Так вот можно, а эдак нельзя – и мучься всю сужденную тебе жизнь, садись, окстясь, в золотую клетку, да и клетки-то бывают всякие, модные и немодные, и надобно помоднее, повиньетистее клетку-то для себя добыть, – авось, под старость лет, глядишь, и признают тебя, человече, другие человеки за своего. Гей! Вперед!
Ты – вот в чем все дело – шла босиком по морозу, по снегу. Было б с чего огород городить: ты всегда так ходила, и в людных местах и в безлюдных. И, живи ты в одном городе, народ бы привык к тебе. Народ бы даже, утомившись потешаться, стал держать тебя за достопримечательность: вон, вон она идет, наша дурочка, наша царевна в мешке, – пальцами бы на тебя иноземцам показывал и с иноземцев плату б за это немалую взимал. А ты долго на месте не сидишь. Ты летишь, летишь вместе с ветром. Где с ног тебя свалит – поползешь. Все города твои. Где ты живешь?.. А?.. Молчишь. На тебя таращатся. Ты – птица-зегзица. Лапки твои легкие, птица, мороз не берет. Печатай на снегу узоры! – пускай за тобой следом идут ротозеи, носом шмыгают, жвачку мятную жуют и по складам читают: «КОЛЬ СЛАВЕН НАШ ГОСПОДЬ В СИОНЕ».
Тебя дергали за платье. Коловращенье толпы: гудеж, скрипеж, словно бы кто-то пищит на дудках, однако какие дудки в руках?!.. – в руках сумки, портфелишки, авоськи, черепаховые ридикюльчики. Пусти! Р-раз – резко – рванула подол из крючьев-когтей: мальчики, мальчики, вы же хорошие мальчики, – «вот тебе, тетка!..» – подножка, ты носом летишь в снег, встаешь моментально, быстрей разгиба пружины. Что же вы какие все рожи?! Зачем вам со мной воевать?.. Ты всегда, приходя на новое место (приснись жених невесте!..), веришь, что вот здесь-то люди будут добрые; ну, не все, так кто-нибудь; ну не целиком добрые, а капельку подобрее, чем в том граде-волкодаве, откуда она сюда прибрела. Солнце бьет наотмашь; крепка его железная рукавица. Тебе хочется откусить кусочек золотого лука там, вверху. Вокруг тебя немедленно образуется кольцо из зевак. И, гляди, они по-настоящему зевают! – обглядывают тебя и зевают, и лузгают семечки, и двигают челюстями неистовую жвачку, и гремят матюгами, – а если на Руси раньше молились, а теперь плюются подлыми, с вывертом, ругачками, то черное облако сгущается над ней, копя страх и возмездие, – гундосят похабные песни, мутно и печально смеются над тобой, а радостно и ярко смеяться они не умеют, что ли?.. Ну, час твой пришел. Вот ты на новой земле; вот тебе надо Слово сказать. Ибо без Слова явленного народ пуст, как кувшин, надетый на плетень. Визг машинешки!.. – крутанулась перед ногами. Не за тобой ли?.. Из дверцы выплыла богатая мамаша, высыпались ее дети-утята, три хорошеньких утеночка в шапках с помпонами. Утята запищали: мама, мама, смотри-ка, здесь кино снимают!.. здесь тетю голую на снегу снимают!.. давай посмотрим!.. ну давай!.. ноги у нее красные, как гусиные лапы!.. а ей много денежек за съемки дадут, да, мама, да?..
Ты набрала в грудь воздуху, подняла руки и обернула их ладонями к толпе. Горячий невидимый шар возник между твоими растопыренными ладонями и толпой. Ты изо всех сил удерживала этот шар, чтобы он не покатился – ни на тебя, ни на них. И он, шар, слушался тебя, колыхался. Воздух стал раскаляться, и из-под твоих голых пяток по снегу с косогора, где грелась в лучах церковка, побежали два ручья. Кто-то свистнул пронзительно. Плевки и ругань стихли. Народ все прибывал; людское кольцо разрослось в небольшую толпичку, затем – в многоголовую сходку, и вскоре весь косогор перед церковью был усеян кучно шатающимся, гомонящим народом. Народ! – эх, ух, ах, вжик, ножик, ни слова доброго, только ругань без предела. Ты задержала на миг дыхание и послушала, как заледенелые почки березы стучат друг об дружку. Тебе пришел срок говорить, и язык твой пересох, а губы слиплись.
– Любимые! – высоко крикнула ты, и крик хлестнул по лицу всю толпу.
– Сколько тебе за театру-то заплатили?! – взмахнул из дальних рядов ответный визг, противный.
Не слушай. Только не слушай. Уши твои залеплены воском. Огонь над твоей головой. Дальше давай. Говори дальше. Ну!
– Любимые, я много ходила по свету. Я пыталась увидать, куда мы все идем. Потому что меня спрашивали: куда мы все идем? Ты блаженная, говорили мне, и скалились в смехе, и спрашивали: раз ты блаженная, ты скажи нам, куда мы все идем? Может, тебе сон какой приснился про наше будущее? Да, был сон, помню. Одна волна холода, потом другая. И вот уже крыши все под снегом, и подо льдом – океаны. И ни кораблей, ни людей, ни детей: саван. Но… – ты остановилась и сглотнула, преодолевая простудный хрип, – когда я рассказывала людям этот сон, они гневались на меня, гнали меня прочь, пытались избить. Смеялись и говорили: эх, эх, дура ты! гляди, как мы хорошо живем! Как мы чудно стали жить! Все-то у нас есть, и колбаски копчененькие, и мясцо в фольге, и соленые орешки, и кексы под названием: киви, миви, – хлеба вдоволь, жвачки детям вдоволь, со всего запреты сняты: с грудей, с животов, с иных телесных дырок и выпуклостей, – хочешь ешь то, хочешь это, хочешь в храм ходи, хоть весь лоб разбей, хочешь банки грабь, только черные очки купи и хорошее оружие, а то и танк хороший – если ты сейчас богат, ты все можешь купить: это ли не счастье, дурочка?.. – и также все продать, что тебе негоже. Пошла прочь! – кричали мне. Не мути воду! У нас теперь есть все, и мы счастливы!
Помолчи. Помолчи. Пусть они услышат свист ветра.
– «Вы – счастливы? – спрашивала я их. – Тогда почему же вы пристаете ко мне, дуре, чтобы я вам ответ на вопрос дала: что с нами будет, куда мы все идем? Разве вам недостаточно сегодняшнего дня и копчененьких сосисочек?..» – Ты опять передохнула. Тебе было тяжело громко говорить, обнимать голосом большое пространство; ты почти кричала, и от напряжения лопались связки, да еще ветер, невесть откуда взявшийся, гудел и заглушал тебя. – Да, отвечали мне они, да, сосисочек недостаточно. Мы же умные люди, мы же мыслящие люди, мы думаем о будущем своих детей, своих внуков и правнуков! Что-то висит в воздухе, какая-то опасность.
Под ветром скрипела старая береза, росшая близ паперти; Солнце лило желтые сливки на чахлые и нарумяненные лица, высвечивало рыболовные крючки и блесны серег в ушах баб и девок, и лучи снопами отражались от широко распахнувших объятья крестов.
– Хорошо! Я вам скажу здесь и сейчас, где опасность, где… – ты закинула лицо к небу, – где смерть. Смерть настоящая, какой умирают все люди, не есть зло. Настоящая смерть, по старости, по пройденному пути, есть рождение. Я была за порогом, и я знаю это. Вы меня видите – я умерла, и я восстала. Бог судил мне еще пожить, зато я крепко запомнила все, что было там, за порогом. Настоящая смерть – не смерть, а жизнь. А зло – в злой смерти. Есть два вида злой смерти: либо пустота, либо геенна. Пустота – это когда при жизни твоей все вокруг мертвеет и застывает. Тебя ничего не радует, кроме еды, твоих сосисочек. Но и они вскоре перестают тебя радовать. Ты еще находишь малюсенькое наслаждение в соединении тел: а почему оно теперь такое малюсенькое, крохотулечное?.. ведь недавно еще все горело, гремело, бугрилось вулканами!.. – ты бегаешь по свиданиям, ты вползаешь и падаешь во все новые и новые постели, но это не спасает, и в конце концов тебе становится нехорошо и гадко и от того, что ты уже никак не можешь назвать любовью, даже твой наболтанный наглостью язык не повернется. И внутри начинает расти пустота. В ней тонет все, что бы ты ни подумал, на что бы ты ни взглянул, что бы ни почувствовал. И тебе становится все равно. Пустота растет, а все внутри умирает. И когда все внутри заполнит одна пустота…
Ты молчала.
– Когда умрет душа! – крикнула ты. – Умрет навек и никогда не воскреснет! Когда молить Бога о воскрешении уже нельзя будет, ибо молить будет нечем, и воскрешать будет – нечего! Вот тогда вы оглянетесь вокруг. Руками всплеснете! Завизжите от отчаянья! Глухое место, пустое – душа. Заросшее чертополохом, заваленное гнилью всяческой. И вы его таким словом называете – ду-ша?!.. Вот оно, Мертвое Поле! Ваше – Поле! Ваша – жатва! А вы про Бога себе толкуете! В церковь ходите! А вы давно уже разучились отличать, где Бог, где Дьявол – вам все едино, ибо все едино и все равно мертвой душе!
Толпа качалась и колыхалась, слоилась черными бревнами, двигала дремучими головами, а в сердцевине шевелящейся пчелиной сутеми стояла ты, как бы висела в воздухе – худой стручок, вылущенная шишечка на колючей ветке века, – и, терпеливо снося насмешки и плевки, обращала себя в Слово, потому что знала доподлинно, земляным знанием и звездным нюхом: Слово пронзит копьем века, и упадет под ним тот, кто слаб и хил, и смело встретит его грудью воин. Были ли воины в толпе вокруг тебя, в плюющей и рыгающей своре, грызущей шоколадки в цветной фольге? Были, конечно же, были; иначе не кидала бы ты вдаль свое остроконечное Слово, и не улыбались бы в животах у матери грядущие дети, видя летящее над собой твое золотое копье.
Ветер гнул и мотал ветви березы, и далеко в ветвях, под самой медвяной, сладкой синевою неба качалось пустое гнездо, рискуя вот-вот оборваться, упасть. Люди тесней и ближе придвигались к тебе. И ты, окруженная ими, взятая в плен, прижалась спиной к церковной стене, раскинула руки и крикнула:
– Попробуйте троньте меня! Троньте – и церковь обрушится, задавит вас!
Смешок снежком ударил в лицо, метко пущенный. И ты сломалась внутри, согнулась, села у стены, уткнула патлатую голову в ладони и заплакала.
Кондак Ксении о возлюбленном муже ея
Я жила тогда в пустой церкви, где не было ни икон, ни фресок, в мастерской художника Юхана. Тогда я не знала, что Юхан станет моим мужем: он пустил меня пожить милости ради, нашел меня на мосту ночью, я задумчиво глядела на черную маслянистую воду и плакала, хотела туда прыгнуть, наверно. Устала я тогда очень, устала. Не хотела жить. А вода была черная, нежная. Как шаль матери… Елизаветы, я этой шалью ее в гробу накрывала. И вдруг меня за локоть кто-то сзади – цап! Смотрю: мужик. Жилистый, сильный. Весь зарос бородою, одни глаза светят. «Это что ты собралась делать, а?» – грозно спрашивает. «Топиться», – просто и печально я отвечаю. «Ну так, хорошенькое дельце», – трясет меня за плечи, и к себе притискивает, и щеки мне холодными руками растирает, чтобы очнулась я, значит. И я внезапно увидела все сразу: чернь воды, желтые масляные пятна фонарей, искристый гранит парапета, летуче-мышье крыло призрачного моста, чужое бородатое лицо, свое лицо, как морду больного суслика, – весь красивый ночной мир, живой мир увидела я и разрыдалась. А он утирал мне жесткими ладонями мокрое блюдо лица и гудел над ухом: «Ну, Юхан я, Юхан, я северный человек, ты меня можешь не пугаться, ты просто человек, я просто человек, пойдем ко мне – вот гляди, перекрещусь, тебя не обижу и пальцем не трону». И перекрестился – как-то не по-нашему, а слева направо, и не троеперстием, а всею ладонью. И я с ним пошла.
Он жил и работал в маленькой церкви, разграбленной и опустошенной и отданной ему властями под мастерскую, ибо Юхан был художник, – а я не знала, что это такое – художник, и, когда на меня со стен ринулись, упали, покатились краски, бездна красок, волны и водопады, когда закричало красное, запело гордую песню синее, ударили в меня солнечные стрелы осени и лица и тела нагих красивых женщин, – я ахнула, присела на корточки, замотала головой и закричала: «Я ослепла, я ослепла!» А Юхан засмеялся, поднял меня с полу и говорит: «Дурашка, это же мои картины. Садись. Я тебе все покажу». И я села прямо на пол, на холодные каменные плиты бывшей церкви, и он стал мне выкладывать на полу свои работы, и я гладила их кончиками пальцев и смеялась от счастья. Он клал передо мною на древние камни и портрет старой матери, и обнаженную женщину перед зеркалом с жемчужной ниткой на гладкой лебединой шее и с глазами коровы, питающей тельца сосцами, и корабль, стиснутый льдами, военный сторожевик в снегах и льдах Севера, – и сзади на холсте было написано: «Остров Колгуев», – и собак, много собак в упряжке, а в санях сидит раскосый человек с лицом, как медная тарелка, и над его головою горит гигантский веер разноцветных – синих, золотых – сполохов! Я спрашиваю, задыхаясь: «Юхан, а это… что», – и указываю пальцем дрожащим на эти огни над головой каюра. Юхан как засмеется! Как засмеется, загрохочет будущий муж мой! «Это, дурачочек, – сказал он и обнял меня за плечи крепко-крепко, – Северное Сияние! Это огни такие на небе ходят! Они только на Севере видны. Может, и у нас есть, только глаза наши ослабли, и мы их уже не видим. А там небо ближе, воздух чище, людей меньше, звезды рядом, – вот и видно их. Нравится?..» – «Лучше всех эта картина!» – выдохнула я, склонилась и дотронулась губами до мазков, изображающих Северное Сияние. И, как только я это сделала, – так все во внутренностях пустой церкви переменилось, во тьме забегали искры, во впадинах и нишах, там, где были когда-то иконы, появились темно-золотые лики, и тихая музыка раздалась в вышине. Юхан сжал меня за плечо сильнее и шепнул: «Не бойся. Это призраки. Они часто приходят по ночам. Они тоскуют по своей церкви. Иной раз их так много, я и работать не могу. Сначала было страшно. Потом – привык. Они добрые, не обижают меня. И тебя тоже не обидят. Ты скажи им что-нибудь!»
Прямо над нами, в темной каменной нише, светилось нежно-золотым светом мужское лицо. Я различила: морщинистый лоб, лысину, пух золотых волос над ушами, крупный нос, склад ласковых, скорбно сжатых губ. Человек держал в вытянутой ладони подобие детского игрушечного города. По золотым морщинам его щек текли невидимые слезы. «Святой Николай, – прошептал мне в ухо Юхан. – Святитель Николай, чудотворец, Никола Угодник. Помолись ему. Он может сделать чудо». – «Он… уже сделал чудо», – шепнула я в ответ. Юхан понял, склонился и поцеловал меня. Не так, как женщин целуют. Как детей, на сон грядущий: крепко, в щеку, горячо и вкусно. Ведь он не спросил меня даже, откуда я, кто я! За воровку не принял!
Так я осталась жить у мужа моего, Юхана. Да, мужа, ведь Николай Чудотворец в ту же ночь и повенчал нас, со стены пустой сошел к нам, два венца над нашими головами держал, два колечка нам дал, – только шум поднялся вокруг нас, когда он нам колечки протянул, и голос я услыхала: «Будете друг с другом вместе в любви, в браке Предвечном, не торопитесь. Это еще не ваша ночь. Ксении надо очиститься от многая скверны, от тягости, давящей непомерно на сердце. А когда она легкая станет, легче птичьего крыла, чистая и звонкая, – тогда берите и вкушайте друг друга. А нынче погодите. Погодите. Не трожьте плоть вашу. Дух ваш еще не готов к брачному пиру». И колечки упали на пол и покатились, а Юхан взял меня на руки и понес к своему нищенскому ложу – сундуку, на который были набросаны рогожки, негрунтованные холсты, старый спальный мешок и траченная молью шкура белого медведя. И я, когда он меня на шкуру опустил, вспомнила эту картину! Его картину! Он в тот вечер передо мной ее и выложил: льды, льды и льды, снова льды, черное небо, алая, как нож в крови, полоса заката полярного. Большая льдина, и медведица на ней лежит убитая, рана в боку, глаза ее уже закатились, когти заиндевели, а рядом с ней, у бока, сочащегося кровью, теплого, еще не застывшего, – медвежонок! Поднял морду, скулит! Плачет по мамке! Белый, маленький, бедный! И холод, холод, и полярная ночь. И где эти люди, кто выстрелили в него? За картиной?.. И я поняла, где. Это с а м Юхан выстрелил. Это с а м Юхан плакал, сжав ствол винтовки, по убитой им медведице. Голодный, холодный моряк. Война. Медведица – еда. А ее сынок? Живой голос медвежонка разрезал меня надвое. «Эта вот шкура… ее?..» – вышептала я осторожно, и губы мои задрожали. «Ее,» – помолчав, кивнул Юхан, будущий муж мой.
«Ты свободная», – сказал он мне, когда я, под пристальным взглядом его, начала стаскивать с себя свое мешочное, дурацкое платье. «Ты – свободная. Тебе все трын-трава. Ты – настоящая. Все другие вокруг поддельные, а ты вся настоящая. И ты должна оставаться такой. Иначе… гибель придет всему нашему миру, вот что. И поэтому… – он отвел рукой мою руку, потянувшуюся сдернуть последнюю, нательную рубашонку, – поэтому не спеши передо мной. Я сам медленный. Мне не нужно твое тело. Мне нужна твоя душа. И не вся – она свободная! – а только та ее часть, которой нужен я и моя душа. Спи». И он поцеловал меня в лоб. И ушел спать куда-то в уголок. А среди ночи, полной золотых призраков, не выдержал – подошел к сундуку, где я лежала, скрючившись, встал на колени передо мной, положил голову мне на колени, как пес, и долго так стоял, не шелохнувшись. Но я видела, что ему хорошо и счастливо, и боялась потревожить его.
Так стала я жить у Юхана в мастерской. Я варила ему всякую еду из чего Бог пошлет. Собирала в столовых остатки блинчиков, оладий, а когда он спросил однажды, в шутку: «Почему сама блинов не напечешь мне никогда?» – раздобыла муки и яиц и такие блины напекла!.. жалко, не было к ним икры, как у купцов раньше. Он сказал: «Твое тело должно быть звенящим, радоваться Солнцу и ветру!» – и я стала ходить в ночной рубашке и летом и зимой. В сильные морозы накидывала прямо на рубаху шубейку и так ходила. И правда, тело начинало звенеть и розоветь, ноги наливались светом, и мне было так легко, будто меня сначала приговорили к смерти, а потом помиловали, и вот я иду и на весь мир пою. Юхан сам стирал мою ночнушку – грубыми, коряжистыми руками, напоминали мне эти руки корни приморской сосны у северного моря, где мы жили с матерью, с Елизаветой. Он стирал мою рубаху в тазу и пел при этом старые тюремные песни: «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно!..» Однажды я попыталась спросить о его жизни. Нежно так спросила, тихо. Он сказал что-то тихое, невнятное: о женщине, родившей ему двоих детей и сошедшей с ума, о разных других женщинах, мучивших его, танцевавших перед ним нагишом в табачной ночи, бросавшихся перед ним на пол ничком и целовавшим его ноги, – не оставляй н а с, Юхан! мы оставляем т е б я, Юхан!.. – и передо мной стала плясать и выкобениваться вся эта вереница Юхановых женщин, как столбы бешеных огней, я зажмурилась, отогнала видение и улыбнулась Юхану: прости, что я спросила тебя об этом, я не со зла, я от чистого сердца, я их всех люблю, несуразных и жалких женщин твоих. И Юхан улыбнулся мне ответно и сказал: да ты что, Ксения, это я у тебя должен прощения просить, что у меня такая богатая женщинами жизнь была, но я и их всех тоже простил давно, – а ты?.. У тебя богатая мужчинами жизнь была?.. «Богатая», – сказала я и заплакала. И опять он передо мной на коленях стоял и страдал: дурень, осел, где голова моя была, вот на свою беду спросил.
Покаянная молитва св. Ксении Юродивой
на Великом Повечерии
Глава вторая. Снег жжет босые пятки
«Господь мой, Возлюбленный мой,
благодарю Тебя всем сердцем
за счастливое супружество мое;
Ты благословил меня и мужа моего на союз,
Ты дал непорочно нам на ложе пребывать;
и за то, что Ты мужа моего
на небо к Себе взял —
низко кланяюсь Тебе и целую легкие ноги Твои».
Ирмос св. Ксении Юродивой Христа ради
(РИСУНОК КО ВТОРОЙ ГЛАВЕ: ВИНОГРАД – СИМВОЛ ЦЕРКОВНОГО БРАКА)
Она достоверно не помнит, когда сместились времена. Сместились – и все. Ее не спросили. Каждое время имеет своих ангелов-хранителей, которые реют над этим временем, пасут его и благословляют, и своих маленьких, противных демончиков, втыкающих во Время гвозди и пики. Ангельчики и демончики рассорились, передрались, и вышла штука совсем уж непонятная. Вот строили, строили древние народы до неба башню Вавилонскую, а она возьми да рухни и рассыпься. А языки? Все стало варево, тесто, снежный ком. Разве человеку под силу запомнить, заучить бездну языков? А времена? Это ж те же языки: то так говорят времена, то эдак, то молчат страшно. Было одно Время, а теперь их много. Весь секрет – в душе. Душу ученые даже расчленили на крохотулечные частички, обзывают эти частички по-всякому – и что? Все зря. Если и есть на Земле что неделимое, неразъемное, так это душа. О ней все люди во всех временах переспорились. До драки перегрызлись.
Не пора ли простить, поцеловать друг друга?!
Не пора. Не пора.
Стихира Ксении о первом пророчестве ея
Кран капает на кухне. Я перевязываю бинтом порезанную руку. Кровь рубиновой полосой просачивается сквозь бинт. Сколько мне лет? Я не знаю. Не могу сказать точно. Лета мои никто не записывал в пухлые казенные книги, не ставил штампы и печати на пропуска. Мои лета не умерли, потому что я знаю, как лечить Время. Потому что я Его люблю и поклоняюсь Ему; потому что Оно меня полюбило, а я овладела Им. Эх, смелая я! Не растерялась. Другие люди теряются. Другие люди – от и до Время размечают, под Его дудку танцуют, булавками Его, как бабочку, пришпиливают к своей хиленькой, смертненькой жизнешке. Я же сказала Ему: «Делай со мной что хочешь. Мни, жги меня, крути, истязай. Ставь к стенке. Я все равно Твоя, а ты – Мое. Мое Время. Моя бездонная бочка. Мой соглядатай. Моя колыбель. Мой любимый владыка: с жарким военным телом, с длинными ногами, знающий меня вдоль и поперек. Разве я могу Тебя отвергнуть?» И робко, нежно улыбаясь, наивно так, прикинулась дурочкой незнающей, слабенькой девчоночкой, и подступила к Нему. Ближе. Ближе. Еще ближе.
И Оно испугалось, обняло меня и вошло в меня.
И в любой Его дом, который Оно снимает в сутолоке веков, я смело захожу и поселяюсь там, раскладываю свои манатки, ем свой хлеб. Это так здорово – свободно есть свой хлеб везде и всегда, где хочешь! Быть владычицей Времени, быть Его женой. Да еще женою капризной, вывертливой: что где не по нраву – быстро шасть вон, только меня и видели!
Есть беда… одна беда. Все сбивается в перекати-поле, катится волглым, грязным снежным комом – на четыре стороны света: иной раз не на Север, не на Запад, а в тартарары, навонтараты. Мои волосы сбиваются в клубок, ветер больно сечет руки, ноги. Чрево выжигает огонь. Где я сейчас?.. Смогу ли я еще родить жизнь? Смогу ли я родить себя – в смерть? Может, я уже умерла? Почему я ничего не чувствую? Почему меня можно колоть иголками, булавками, ножами и копьями – и я ничего не почувствую? Значит ли это, что я мужественна и воинственна? Может, меня уже нет на свете, а есть только воспоминание обо мне? Я никогда не рассказывала другим о себе, не исповедовалась в церкви. Мне – исповедовались, мне – рассказывали. Я умею кормить с ложечки, умею перевязывать раны.
Господи, как болит рука! А я думала – пройдет, отпустит.
Серый, сизо-голубиный день осыпал пыльцу мокрого снега в стянутые сахарным ледком лужи. За ночь подморозило, все занесло порошей, земля походила на умытого младенца в колыбели. По желто-голубому, отчаянно-радостному флагу неба ходили вражеские тени брюхатых снегами туч. Продавцы бессмертников, сушеных букетов, нахохлясь и грея дыханием красные руки, сидели между торговок пирожками, и гул от уродливых железных коробок, напичканных пахучими газами, стоял в воздухе зимы, наводнял ее отравой, паучьи вползая в человечьи легкие. Круговерть колес и огней пугала. Надо было стать петухом или совой, чтоб успевать поворачивать голову за мельканием, сутолокой, веером гудков и наотмашь бьющих лучей. Крутился каменный жернов, выпуская людей из подземного мира, где в ноздри бил запах резины и составы мчались, мыча, как обезумевшие на бойне коровы. А лица людей все были живыми, все улыбались. Под землею, в сверканье радужного кафеля и кровавого, как мясной срез, мрамора на корточках сидел слепой баянист, играл песню «На сопках Маньчжурии», и прозрачные капли из пустых глазниц капали ему на баян, путались в седой щетине. Поодаль девушка плакала, отвернувшись к стене, царапая гладкий мрамор. Рядом с девушкой стояло и валялось множество тючков, узлов, свертков, баульчиков, и было непонятно и страшно, как же она понесет все это сама. «Баянист! – плакала она пьяно. – Сыграй еще, баянист, спой!.. Про погибшую жизнь мою!.. Про того, кто выгнал меня на мороз, про него!.. Куда я теперь пойду!.. Куда!..» И баянист послушно, вворачиваясь, вгрызаясь скрюченными, прокуренными пальцами в кнопочки баяна, хлестко и звонко играл, играл ей, плачущей, все, что знал – и «Амурские волны», и «Прощание славянки», и «Мой Лизочек так уж мал, так уж мал…» – а она билась лбом об узорчатый мрамор и выкрикивала: «Я на улице теперь!.. На улице!.. На улице!.. И нету добрых людей!.. Нету!.. Нету!..»
Обвести подземелье упрямыми глазами – и наверх, на свет. Вот она, на свету, на юру, а внизу зальделый ручей вьется, – посреди хлама и срама, в недрах людского духовитого варева, между резко-синим небом и насмерть забитой ударами веток и ветра беднягой-землей, – густо-малиновая, темно-багряная церковь с золотым Николой в нише, у ног которого лежат сухие цветы, кусок лимона, соленый помидор и три конфетки, бедняцких «подушечки», – а наверху звонарь старается, жарит, шпарит, сыплет, расстилает по небу блесткую скатерку небесных звуков!
Ты шла в толпе спокойно, тяжким шагом. На тебя все оглядывались. С твоих тощих плеч свисала, подобно мертвым крыльям, дубленка, драная собака, без пуговиц; платье, собственноручно пошитое из мешковины, чисто простиранное в щелочи, глухо застегивалось у горла. Волосы развевались по ветру. Хороши были твои волосы, ничего не скажешь – ты все шутила, ухмылялась: пока мужики по ниточке не повыдергивали. Густые, темно-русые, с ранней сединой. Их концы, обцелованные ветром, закручивались в кольца. Ты шла гордо и молча, глядя поверх толпы: все равно ты видела каждое людское лицо в отдельности внутри себя, – так, как огонь во печи видит хлеб. Люди не смотрели в твое лицо – они глядели на твои ноги. Глядели: кто вздрогнет, кто подхихикнет, кто постарее, вздохнет и перекрестится, кто закурит нервно. Кто смело крикнет: «Дура!» Кто поежится презрительно: «Пьяная». Ты будто не слышала этого. Ты шла и шла – просто, как в лес по грибы, как царица на царство. Тебе важно было дойти. Зимой всегда важно дойти. Вьюга, гололедица, ураган, а ты идешь, но и это еще не самое страшное. Зимой у людей лица румянятся, а сердца стынут жестко, как замки на морозе.
Вот и храм близко; теплая стена его, вишневая, кирпичная, маячит, качается; ты чувствуешь, как голодное тело твое горит под дубленкой, как большая свеча, – сейчас из головы вырвется пламя, и, может, его увидят слепые люди. Должно быть, они и глухие, – надо кричать как можно громче. Кричать?! Ну и глупа же ты, матушка! Они, не будь дураки, тут же кинутся, отыщут, позвонят, примчатся, – и явится, по мановению волшебной палочки, фургон с решеткой, как для зверей. И твое лицо будет мотаться в клетке белой птицей. Выпустите меня! А! как бы не так!.. Любишь кататься, дура, – люби и саночки возить!.. В мире все разложено по полочкам, все устроено лучше некуда: гвоздь пригнан к гвоздю, шестеренка – к шестеренке. Почему они все, балды, на ноги твои пялятся?! А ноги-то твои свободны. Свободны ступни, свободны щиколотки и голени, свободны горящие радостью пятки, свободен каждый малый зверюшка-пальчик. Босой человек – это целый мир. Босой – это вера и счастье: верую, что я нищ и честен, верую, что гол и наг, – перед Господом же стою, перед Ним и иду мой путь, может, он, путь-то, и на мою Голую Гору меня приведет, – это и будет счастье, а я и так счастлив уже – тем, что свободен! Ах, нельзя быть свободным от людей?! Ах, они, люди-людишки, кричат мне свои неписаные заповеди?! Так вот можно, а эдак нельзя – и мучься всю сужденную тебе жизнь, садись, окстясь, в золотую клетку, да и клетки-то бывают всякие, модные и немодные, и надобно помоднее, повиньетистее клетку-то для себя добыть, – авось, под старость лет, глядишь, и признают тебя, человече, другие человеки за своего. Гей! Вперед!
Ты – вот в чем все дело – шла босиком по морозу, по снегу. Было б с чего огород городить: ты всегда так ходила, и в людных местах и в безлюдных. И, живи ты в одном городе, народ бы привык к тебе. Народ бы даже, утомившись потешаться, стал держать тебя за достопримечательность: вон, вон она идет, наша дурочка, наша царевна в мешке, – пальцами бы на тебя иноземцам показывал и с иноземцев плату б за это немалую взимал. А ты долго на месте не сидишь. Ты летишь, летишь вместе с ветром. Где с ног тебя свалит – поползешь. Все города твои. Где ты живешь?.. А?.. Молчишь. На тебя таращатся. Ты – птица-зегзица. Лапки твои легкие, птица, мороз не берет. Печатай на снегу узоры! – пускай за тобой следом идут ротозеи, носом шмыгают, жвачку мятную жуют и по складам читают: «КОЛЬ СЛАВЕН НАШ ГОСПОДЬ В СИОНЕ».
Тебя дергали за платье. Коловращенье толпы: гудеж, скрипеж, словно бы кто-то пищит на дудках, однако какие дудки в руках?!.. – в руках сумки, портфелишки, авоськи, черепаховые ридикюльчики. Пусти! Р-раз – резко – рванула подол из крючьев-когтей: мальчики, мальчики, вы же хорошие мальчики, – «вот тебе, тетка!..» – подножка, ты носом летишь в снег, встаешь моментально, быстрей разгиба пружины. Что же вы какие все рожи?! Зачем вам со мной воевать?.. Ты всегда, приходя на новое место (приснись жених невесте!..), веришь, что вот здесь-то люди будут добрые; ну, не все, так кто-нибудь; ну не целиком добрые, а капельку подобрее, чем в том граде-волкодаве, откуда она сюда прибрела. Солнце бьет наотмашь; крепка его железная рукавица. Тебе хочется откусить кусочек золотого лука там, вверху. Вокруг тебя немедленно образуется кольцо из зевак. И, гляди, они по-настоящему зевают! – обглядывают тебя и зевают, и лузгают семечки, и двигают челюстями неистовую жвачку, и гремят матюгами, – а если на Руси раньше молились, а теперь плюются подлыми, с вывертом, ругачками, то черное облако сгущается над ней, копя страх и возмездие, – гундосят похабные песни, мутно и печально смеются над тобой, а радостно и ярко смеяться они не умеют, что ли?.. Ну, час твой пришел. Вот ты на новой земле; вот тебе надо Слово сказать. Ибо без Слова явленного народ пуст, как кувшин, надетый на плетень. Визг машинешки!.. – крутанулась перед ногами. Не за тобой ли?.. Из дверцы выплыла богатая мамаша, высыпались ее дети-утята, три хорошеньких утеночка в шапках с помпонами. Утята запищали: мама, мама, смотри-ка, здесь кино снимают!.. здесь тетю голую на снегу снимают!.. давай посмотрим!.. ну давай!.. ноги у нее красные, как гусиные лапы!.. а ей много денежек за съемки дадут, да, мама, да?..
Ты набрала в грудь воздуху, подняла руки и обернула их ладонями к толпе. Горячий невидимый шар возник между твоими растопыренными ладонями и толпой. Ты изо всех сил удерживала этот шар, чтобы он не покатился – ни на тебя, ни на них. И он, шар, слушался тебя, колыхался. Воздух стал раскаляться, и из-под твоих голых пяток по снегу с косогора, где грелась в лучах церковка, побежали два ручья. Кто-то свистнул пронзительно. Плевки и ругань стихли. Народ все прибывал; людское кольцо разрослось в небольшую толпичку, затем – в многоголовую сходку, и вскоре весь косогор перед церковью был усеян кучно шатающимся, гомонящим народом. Народ! – эх, ух, ах, вжик, ножик, ни слова доброго, только ругань без предела. Ты задержала на миг дыхание и послушала, как заледенелые почки березы стучат друг об дружку. Тебе пришел срок говорить, и язык твой пересох, а губы слиплись.
– Любимые! – высоко крикнула ты, и крик хлестнул по лицу всю толпу.
– Сколько тебе за театру-то заплатили?! – взмахнул из дальних рядов ответный визг, противный.
Не слушай. Только не слушай. Уши твои залеплены воском. Огонь над твоей головой. Дальше давай. Говори дальше. Ну!
– Любимые, я много ходила по свету. Я пыталась увидать, куда мы все идем. Потому что меня спрашивали: куда мы все идем? Ты блаженная, говорили мне, и скалились в смехе, и спрашивали: раз ты блаженная, ты скажи нам, куда мы все идем? Может, тебе сон какой приснился про наше будущее? Да, был сон, помню. Одна волна холода, потом другая. И вот уже крыши все под снегом, и подо льдом – океаны. И ни кораблей, ни людей, ни детей: саван. Но… – ты остановилась и сглотнула, преодолевая простудный хрип, – когда я рассказывала людям этот сон, они гневались на меня, гнали меня прочь, пытались избить. Смеялись и говорили: эх, эх, дура ты! гляди, как мы хорошо живем! Как мы чудно стали жить! Все-то у нас есть, и колбаски копчененькие, и мясцо в фольге, и соленые орешки, и кексы под названием: киви, миви, – хлеба вдоволь, жвачки детям вдоволь, со всего запреты сняты: с грудей, с животов, с иных телесных дырок и выпуклостей, – хочешь ешь то, хочешь это, хочешь в храм ходи, хоть весь лоб разбей, хочешь банки грабь, только черные очки купи и хорошее оружие, а то и танк хороший – если ты сейчас богат, ты все можешь купить: это ли не счастье, дурочка?.. – и также все продать, что тебе негоже. Пошла прочь! – кричали мне. Не мути воду! У нас теперь есть все, и мы счастливы!
Помолчи. Помолчи. Пусть они услышат свист ветра.
– «Вы – счастливы? – спрашивала я их. – Тогда почему же вы пристаете ко мне, дуре, чтобы я вам ответ на вопрос дала: что с нами будет, куда мы все идем? Разве вам недостаточно сегодняшнего дня и копчененьких сосисочек?..» – Ты опять передохнула. Тебе было тяжело громко говорить, обнимать голосом большое пространство; ты почти кричала, и от напряжения лопались связки, да еще ветер, невесть откуда взявшийся, гудел и заглушал тебя. – Да, отвечали мне они, да, сосисочек недостаточно. Мы же умные люди, мы же мыслящие люди, мы думаем о будущем своих детей, своих внуков и правнуков! Что-то висит в воздухе, какая-то опасность.
Под ветром скрипела старая береза, росшая близ паперти; Солнце лило желтые сливки на чахлые и нарумяненные лица, высвечивало рыболовные крючки и блесны серег в ушах баб и девок, и лучи снопами отражались от широко распахнувших объятья крестов.
– Хорошо! Я вам скажу здесь и сейчас, где опасность, где… – ты закинула лицо к небу, – где смерть. Смерть настоящая, какой умирают все люди, не есть зло. Настоящая смерть, по старости, по пройденному пути, есть рождение. Я была за порогом, и я знаю это. Вы меня видите – я умерла, и я восстала. Бог судил мне еще пожить, зато я крепко запомнила все, что было там, за порогом. Настоящая смерть – не смерть, а жизнь. А зло – в злой смерти. Есть два вида злой смерти: либо пустота, либо геенна. Пустота – это когда при жизни твоей все вокруг мертвеет и застывает. Тебя ничего не радует, кроме еды, твоих сосисочек. Но и они вскоре перестают тебя радовать. Ты еще находишь малюсенькое наслаждение в соединении тел: а почему оно теперь такое малюсенькое, крохотулечное?.. ведь недавно еще все горело, гремело, бугрилось вулканами!.. – ты бегаешь по свиданиям, ты вползаешь и падаешь во все новые и новые постели, но это не спасает, и в конце концов тебе становится нехорошо и гадко и от того, что ты уже никак не можешь назвать любовью, даже твой наболтанный наглостью язык не повернется. И внутри начинает расти пустота. В ней тонет все, что бы ты ни подумал, на что бы ты ни взглянул, что бы ни почувствовал. И тебе становится все равно. Пустота растет, а все внутри умирает. И когда все внутри заполнит одна пустота…
Ты молчала.
– Когда умрет душа! – крикнула ты. – Умрет навек и никогда не воскреснет! Когда молить Бога о воскрешении уже нельзя будет, ибо молить будет нечем, и воскрешать будет – нечего! Вот тогда вы оглянетесь вокруг. Руками всплеснете! Завизжите от отчаянья! Глухое место, пустое – душа. Заросшее чертополохом, заваленное гнилью всяческой. И вы его таким словом называете – ду-ша?!.. Вот оно, Мертвое Поле! Ваше – Поле! Ваша – жатва! А вы про Бога себе толкуете! В церковь ходите! А вы давно уже разучились отличать, где Бог, где Дьявол – вам все едино, ибо все едино и все равно мертвой душе!
Толпа качалась и колыхалась, слоилась черными бревнами, двигала дремучими головами, а в сердцевине шевелящейся пчелиной сутеми стояла ты, как бы висела в воздухе – худой стручок, вылущенная шишечка на колючей ветке века, – и, терпеливо снося насмешки и плевки, обращала себя в Слово, потому что знала доподлинно, земляным знанием и звездным нюхом: Слово пронзит копьем века, и упадет под ним тот, кто слаб и хил, и смело встретит его грудью воин. Были ли воины в толпе вокруг тебя, в плюющей и рыгающей своре, грызущей шоколадки в цветной фольге? Были, конечно же, были; иначе не кидала бы ты вдаль свое остроконечное Слово, и не улыбались бы в животах у матери грядущие дети, видя летящее над собой твое золотое копье.
Ветер гнул и мотал ветви березы, и далеко в ветвях, под самой медвяной, сладкой синевою неба качалось пустое гнездо, рискуя вот-вот оборваться, упасть. Люди тесней и ближе придвигались к тебе. И ты, окруженная ими, взятая в плен, прижалась спиной к церковной стене, раскинула руки и крикнула:
– Попробуйте троньте меня! Троньте – и церковь обрушится, задавит вас!
Смешок снежком ударил в лицо, метко пущенный. И ты сломалась внутри, согнулась, села у стены, уткнула патлатую голову в ладони и заплакала.
Кондак Ксении о возлюбленном муже ея
Я жила тогда в пустой церкви, где не было ни икон, ни фресок, в мастерской художника Юхана. Тогда я не знала, что Юхан станет моим мужем: он пустил меня пожить милости ради, нашел меня на мосту ночью, я задумчиво глядела на черную маслянистую воду и плакала, хотела туда прыгнуть, наверно. Устала я тогда очень, устала. Не хотела жить. А вода была черная, нежная. Как шаль матери… Елизаветы, я этой шалью ее в гробу накрывала. И вдруг меня за локоть кто-то сзади – цап! Смотрю: мужик. Жилистый, сильный. Весь зарос бородою, одни глаза светят. «Это что ты собралась делать, а?» – грозно спрашивает. «Топиться», – просто и печально я отвечаю. «Ну так, хорошенькое дельце», – трясет меня за плечи, и к себе притискивает, и щеки мне холодными руками растирает, чтобы очнулась я, значит. И я внезапно увидела все сразу: чернь воды, желтые масляные пятна фонарей, искристый гранит парапета, летуче-мышье крыло призрачного моста, чужое бородатое лицо, свое лицо, как морду больного суслика, – весь красивый ночной мир, живой мир увидела я и разрыдалась. А он утирал мне жесткими ладонями мокрое блюдо лица и гудел над ухом: «Ну, Юхан я, Юхан, я северный человек, ты меня можешь не пугаться, ты просто человек, я просто человек, пойдем ко мне – вот гляди, перекрещусь, тебя не обижу и пальцем не трону». И перекрестился – как-то не по-нашему, а слева направо, и не троеперстием, а всею ладонью. И я с ним пошла.
Он жил и работал в маленькой церкви, разграбленной и опустошенной и отданной ему властями под мастерскую, ибо Юхан был художник, – а я не знала, что это такое – художник, и, когда на меня со стен ринулись, упали, покатились краски, бездна красок, волны и водопады, когда закричало красное, запело гордую песню синее, ударили в меня солнечные стрелы осени и лица и тела нагих красивых женщин, – я ахнула, присела на корточки, замотала головой и закричала: «Я ослепла, я ослепла!» А Юхан засмеялся, поднял меня с полу и говорит: «Дурашка, это же мои картины. Садись. Я тебе все покажу». И я села прямо на пол, на холодные каменные плиты бывшей церкви, и он стал мне выкладывать на полу свои работы, и я гладила их кончиками пальцев и смеялась от счастья. Он клал передо мною на древние камни и портрет старой матери, и обнаженную женщину перед зеркалом с жемчужной ниткой на гладкой лебединой шее и с глазами коровы, питающей тельца сосцами, и корабль, стиснутый льдами, военный сторожевик в снегах и льдах Севера, – и сзади на холсте было написано: «Остров Колгуев», – и собак, много собак в упряжке, а в санях сидит раскосый человек с лицом, как медная тарелка, и над его головою горит гигантский веер разноцветных – синих, золотых – сполохов! Я спрашиваю, задыхаясь: «Юхан, а это… что», – и указываю пальцем дрожащим на эти огни над головой каюра. Юхан как засмеется! Как засмеется, загрохочет будущий муж мой! «Это, дурачочек, – сказал он и обнял меня за плечи крепко-крепко, – Северное Сияние! Это огни такие на небе ходят! Они только на Севере видны. Может, и у нас есть, только глаза наши ослабли, и мы их уже не видим. А там небо ближе, воздух чище, людей меньше, звезды рядом, – вот и видно их. Нравится?..» – «Лучше всех эта картина!» – выдохнула я, склонилась и дотронулась губами до мазков, изображающих Северное Сияние. И, как только я это сделала, – так все во внутренностях пустой церкви переменилось, во тьме забегали искры, во впадинах и нишах, там, где были когда-то иконы, появились темно-золотые лики, и тихая музыка раздалась в вышине. Юхан сжал меня за плечо сильнее и шепнул: «Не бойся. Это призраки. Они часто приходят по ночам. Они тоскуют по своей церкви. Иной раз их так много, я и работать не могу. Сначала было страшно. Потом – привык. Они добрые, не обижают меня. И тебя тоже не обидят. Ты скажи им что-нибудь!»
Прямо над нами, в темной каменной нише, светилось нежно-золотым светом мужское лицо. Я различила: морщинистый лоб, лысину, пух золотых волос над ушами, крупный нос, склад ласковых, скорбно сжатых губ. Человек держал в вытянутой ладони подобие детского игрушечного города. По золотым морщинам его щек текли невидимые слезы. «Святой Николай, – прошептал мне в ухо Юхан. – Святитель Николай, чудотворец, Никола Угодник. Помолись ему. Он может сделать чудо». – «Он… уже сделал чудо», – шепнула я в ответ. Юхан понял, склонился и поцеловал меня. Не так, как женщин целуют. Как детей, на сон грядущий: крепко, в щеку, горячо и вкусно. Ведь он не спросил меня даже, откуда я, кто я! За воровку не принял!
Так я осталась жить у мужа моего, Юхана. Да, мужа, ведь Николай Чудотворец в ту же ночь и повенчал нас, со стены пустой сошел к нам, два венца над нашими головами держал, два колечка нам дал, – только шум поднялся вокруг нас, когда он нам колечки протянул, и голос я услыхала: «Будете друг с другом вместе в любви, в браке Предвечном, не торопитесь. Это еще не ваша ночь. Ксении надо очиститься от многая скверны, от тягости, давящей непомерно на сердце. А когда она легкая станет, легче птичьего крыла, чистая и звонкая, – тогда берите и вкушайте друг друга. А нынче погодите. Погодите. Не трожьте плоть вашу. Дух ваш еще не готов к брачному пиру». И колечки упали на пол и покатились, а Юхан взял меня на руки и понес к своему нищенскому ложу – сундуку, на который были набросаны рогожки, негрунтованные холсты, старый спальный мешок и траченная молью шкура белого медведя. И я, когда он меня на шкуру опустил, вспомнила эту картину! Его картину! Он в тот вечер передо мной ее и выложил: льды, льды и льды, снова льды, черное небо, алая, как нож в крови, полоса заката полярного. Большая льдина, и медведица на ней лежит убитая, рана в боку, глаза ее уже закатились, когти заиндевели, а рядом с ней, у бока, сочащегося кровью, теплого, еще не застывшего, – медвежонок! Поднял морду, скулит! Плачет по мамке! Белый, маленький, бедный! И холод, холод, и полярная ночь. И где эти люди, кто выстрелили в него? За картиной?.. И я поняла, где. Это с а м Юхан выстрелил. Это с а м Юхан плакал, сжав ствол винтовки, по убитой им медведице. Голодный, холодный моряк. Война. Медведица – еда. А ее сынок? Живой голос медвежонка разрезал меня надвое. «Эта вот шкура… ее?..» – вышептала я осторожно, и губы мои задрожали. «Ее,» – помолчав, кивнул Юхан, будущий муж мой.
«Ты свободная», – сказал он мне, когда я, под пристальным взглядом его, начала стаскивать с себя свое мешочное, дурацкое платье. «Ты – свободная. Тебе все трын-трава. Ты – настоящая. Все другие вокруг поддельные, а ты вся настоящая. И ты должна оставаться такой. Иначе… гибель придет всему нашему миру, вот что. И поэтому… – он отвел рукой мою руку, потянувшуюся сдернуть последнюю, нательную рубашонку, – поэтому не спеши передо мной. Я сам медленный. Мне не нужно твое тело. Мне нужна твоя душа. И не вся – она свободная! – а только та ее часть, которой нужен я и моя душа. Спи». И он поцеловал меня в лоб. И ушел спать куда-то в уголок. А среди ночи, полной золотых призраков, не выдержал – подошел к сундуку, где я лежала, скрючившись, встал на колени передо мной, положил голову мне на колени, как пес, и долго так стоял, не шелохнувшись. Но я видела, что ему хорошо и счастливо, и боялась потревожить его.
Так стала я жить у Юхана в мастерской. Я варила ему всякую еду из чего Бог пошлет. Собирала в столовых остатки блинчиков, оладий, а когда он спросил однажды, в шутку: «Почему сама блинов не напечешь мне никогда?» – раздобыла муки и яиц и такие блины напекла!.. жалко, не было к ним икры, как у купцов раньше. Он сказал: «Твое тело должно быть звенящим, радоваться Солнцу и ветру!» – и я стала ходить в ночной рубашке и летом и зимой. В сильные морозы накидывала прямо на рубаху шубейку и так ходила. И правда, тело начинало звенеть и розоветь, ноги наливались светом, и мне было так легко, будто меня сначала приговорили к смерти, а потом помиловали, и вот я иду и на весь мир пою. Юхан сам стирал мою ночнушку – грубыми, коряжистыми руками, напоминали мне эти руки корни приморской сосны у северного моря, где мы жили с матерью, с Елизаветой. Он стирал мою рубаху в тазу и пел при этом старые тюремные песни: «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно!..» Однажды я попыталась спросить о его жизни. Нежно так спросила, тихо. Он сказал что-то тихое, невнятное: о женщине, родившей ему двоих детей и сошедшей с ума, о разных других женщинах, мучивших его, танцевавших перед ним нагишом в табачной ночи, бросавшихся перед ним на пол ничком и целовавшим его ноги, – не оставляй н а с, Юхан! мы оставляем т е б я, Юхан!.. – и передо мной стала плясать и выкобениваться вся эта вереница Юхановых женщин, как столбы бешеных огней, я зажмурилась, отогнала видение и улыбнулась Юхану: прости, что я спросила тебя об этом, я не со зла, я от чистого сердца, я их всех люблю, несуразных и жалких женщин твоих. И Юхан улыбнулся мне ответно и сказал: да ты что, Ксения, это я у тебя должен прощения просить, что у меня такая богатая женщинами жизнь была, но я и их всех тоже простил давно, – а ты?.. У тебя богатая мужчинами жизнь была?.. «Богатая», – сказала я и заплакала. И опять он передо мной на коленях стоял и страдал: дурень, осел, где голова моя была, вот на свою беду спросил.