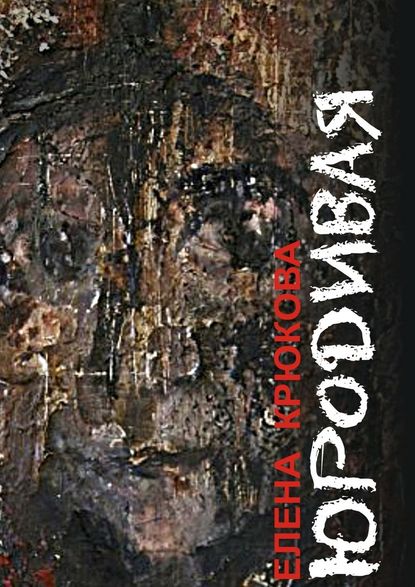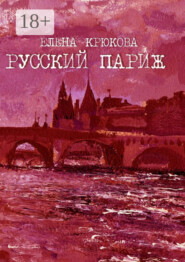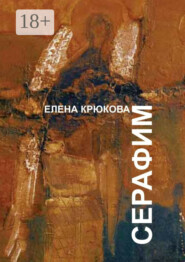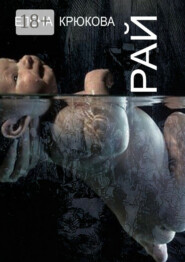По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Юродивая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Часы стали отсчитывать мое время.
Мое время.
Время.
Беременная Елизавета была похожа на сугроб. Ей все труднее становилось мыть полы, нагибаться, отжимать тряпку, орудовать шваброй. В солнечные теплые дни она уходила на берег чистого прозрачного озера, гигантского и всевидящего, как глаз Космоса, сидела там молча, пряла грубую, с засохшими осами, мухами, опилками, сеном, крестьянскую шерсть на ручной маленькой прялке-крестовине, иногда пела нежные песни ни о чем. О том, что вот озеро, она сидит на его берегу и глядит в его воду, а там плавают жирно-желтые рыбки голомянки, и сквозь них видно водоросли и камни, такие они прозрачные; о том, что пьяная она от синего воздуха и от снежных облаков, от медленного и важного хода времени; о том, что дитя медленно, как время, ворочается в ней. Голос ее то резко, чайкой, летел над озером, то ниспадал до шепота.
И так прошел земной срок.
Ей наступило время родить. Она металась по улице. Зима опять вдувала ей круглые твердые жемчуга в космы, торчащие из-под дырявой шали. Раскосая дворничиха на минуту прекратила колоть чугунным ломом древний лед, пошарила в кармане фуфайки и протянула ей надкусанное яблоко. Это был знак любви. Она откусила от яблока и схватилась за живот. Это были настоящие схватки, а она страшилась идти в больницу, потому что знала – у нее нет ни конфет, ни водки, ни разноцветных бумажек, от вида которых люди или живут, или умирают.
И она села в снег и громко, жалуясь всему небу, закричала:
– А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а!
Люди обтекали ее, кричащую, черной рекой. Никто не подходил к ней. Хоть бы кто наклонился, уцепил за плечо, засмотрел в лицо. Или дернул за руку, поволок, выругался. Она никому не была нужна.
– Я Елизавета! – закричала она. – И мне так больно, больно! Спасите меня кто-нибудь! Мне холодно в снегу!
Лица людей были безучастны, выписаны тонкой беличьей кистью мороза. Они двигались, как форели в ручье. Сквозь толщу холода просвечивали глаза, зубы меж губ – в улыбке или гримасе отвращения. Мальчик с коньком в одной руке, с лаптем – в другой, пронзительно свистнул и заорал:
– Спятила! Спятила! Дурочка! Дурочка!
Перед глазами Елизаветы стали расцветать, разрастаясь, веселые красные маки, и она вздохнула и повалилась на бок в сугроб, на обочину. До ее слуха все смутнее и глуше доносились визги и скрежеты машин, цоканье бесстрастных каблуков по льду, людское оканье и хихиканья. Она быстро, с улыбкой проваливалась в густой и тяжкий багряный полумрак, где перламутровой раковиной светила изнанка ее живота, где переплетенья красных живых водорослей с натугой рвались и вспыхивали, разрываясь, и каждый перевитый разорванный лист вопил красным ртом. Сочленения расходились, скрипя и плача, и все парчовые ткани, развышитые алым и розовым серебром, безжалостно вспарывались диким ножом в виде длинной сельди. Она в и д е л а Того, кто держал нож, но только почему Он был внутри нее?!
А это что, Боже?! Своды пещер расселись и подались в стороны рачьими клешнями, Белые Воды хлынули и затопили грязные снега, башенные сугробы, сапоги и валенки жестоких людей – они ничего не желали знать о Ксении, но Ксения шла водой, Великой Рекой, смывающей все на пути! «Ксения, Ксения,» – шептала мать сухими льдистыми губами. Белые Воды сменились Алыми – кровь хлынула из всех расщелин и оврагов вымершей, отвоевавшей земли, освобождая ее и насыщая. И сквозь скрещенные пламенем кости и хруст хрящевых сучьев пошла, пошла, пошла по Великой Реке прямо к замерзшему северному устью таран-рыба, меч о руках и ногах, мясо времени надвое разрезающий – на дикое, внятное, родное до боли Прошлое и позабытое, высохшее, чужое Будущее, непонятное и страшное, как пустая раковина! Рыба рыла носом и теменем плотный студень затянутого красной ряской морского заберега, ибо Река уже вышла из устья, и Простор дышит лютым холодом в затылок и надбровья! Рыба била хвостом, плавниками, грудью по плывущим мимо красным льдинам с жестокими зазубринами подталых закраин! Вперед – это закон. Море. Простор. Страшное, пустое небо, где золотым ослепительным коршуном висит Солнце. И воздух – жабры раскрываются, и вдоль всего тела страдной плетью – слепая боль: ей завязали глаза и уши, оставили открытым и свободным только рот – глотку, что может во всю мочь кричать – безостановочно и безысходно.
– А-а-а-а-а!
Крик не удержался за створами плотно сомкнутых, потом внезапно раздувшихся жабр, и Рыба, ударив хвостом, понесла человечий пронзительный крик, неистовый вопль в седую сутемь Простора морских снегов без берегов.
Здравствуй на множество лет, дитя мое рожоное, как долго я тебя ждала, как мало я тебя носила, как я буду тебя сначала любить и кормить на этом свете, пестовать и вынянчивать, потом – ненавидеть: за то, что ешь и пьешь не так, за хахалей-охальников, за болезни: устала горло тряпкой обвязывать – сама вяжи! устала медом с ложки кормить – сама лучше съем да облизнусь!.. – за то, что громко говоришь, сапоги быстро изнашиваешь, а новых на свои деньги не покупаешь, – устану я от тебя и возненавижу вконец, и прокляну, и плюну сперва тебе вослед, а затем и в лицо твое бесстыжее, срамное, с моим сильно схожее, и утрешься ты и захохочешь, и увижу я белые зубы твои и смеющийся нагло рот у самых своих, подернутых пеленою ненависти, глаз, – и подниму я на тебя руку, а ты на меня нож поднимешь, рыбацкий, длинный, коим чешую скребут от хвоста к голове, – и снова крик мир потрясет! Но лучше-то для меня, чтоб этого не было никогда, потому что это будет неизбежно, потому что все мы, люди, наделены с избытком даром ненависти. Ангелы во плоти есть среди нас, есть. И, беря тебя на руки свои дрожащие, ребеночек мой рожденный, изможденный, я помолюсь о двух вещах. О том, чтобы ты была Ангелом. И о том, чтобы меня Бог быстро прибрал: чтобы я позора своей ненависти ни в битых зеркалах, ни на дочкином лице никогда не увидела.
Иди ко мне на ручки… дай схвачу тебя, дай!.. Скользкая ты, Рыбка, не ухватишь… рвешься наружу. Холодно там! Мороз! Колокольцы льда звенят. Отрежь им хрустальные ниточки. На грудь мою… на. Куда вырываешься?! Щас шлепка дам! Смирно лежи… смирно. Цепляй сосок: молоко метели в нем, сахар злой пурги.
Дочь ты мне или кто?!
Дочь! Так и есть!
Ешь! Кормись! Все когда-нибудь слягут, устав идти, и вьюга заметет их. И меня тоже. И тебя. Я мать, твоя еда и жизнь. И еще никто на свете не выжил без меня, а умирает – все меня одну зовет.
Кто обрезал и завязал ей пуповину? Мороз? Рядом взвизгнули колеса, притормозив. За льдом звякнувшей дверцы – сытые румяные женские щечки, намазанные губки, духи, серьги: возвращается домой со свадьбы, с простой человеческой свадьбы, где царили бутерброды с красной икрой – а может, это была облепиха! – и грубо, кусками, накромсанный омуль, и айсберги сине-запотелых водочных графинов, крики радости и море слез, и вот гости, навеселившись, едут домой – утонуть в теплых перинах, разомлеть, все забыть. Растерянный мальчишка стоял перед закинувшейся Елизаветой: навзничь лежала она возле разметанного сугроба, на животе у нее, на порванных юбках, копошился голый младенец, ярко-красный, как заморское вино. Мать ловила его невидящими руками. Пальцы ее крючились на морозе. Она бормотала:
– Ксения… Ксения!.
Парнишка озирался затравленно. Румяная молодуха вмиг выскочила из бензинной повозки, ринулась к Елизавете – и заблажила на весь свет, прямо в поднебесье:
– Люди добрые, да что ж вы творите! Сволочи! Тут баба на снегу девчонку родила! А вы! Эх вы, люди! Людишки вы, вот кто! Людоеды!
Обернулась на мальчонку:
– Что встал, как жердь?! Помогай!
Мальчишка схватил на руки младенца, молодуха подхватила под мышки Елизавету, они вчетвером поволоклись к раззявленной утробе машины, где барахтались, ворохались бессильные, пьяные мужские тела. По изъеденному сажей снегу за Елизаветой тянулся красный след. И, пока молодуха тащила ее к машине, из-под стрехи слетел голубь и клюнул ком красного снега.
Мужчины вывалились из машины на ледяную дорогу, ругаясь, стали заталкивать Елизавету внутрь, в шкуры и пахучие кожи сидений. Мальчишка протянул жалобно младенца. «Возьмите, возьмите!.. А я-то с ней-то куда!..» – забормотал, носом зашмыгал. Розовощекая молодуха рванулась к нему, соболья шуба ее распахнулась, в мочках синими копьями сверкнули алмазы.
– Давай!.. Давай сюда скорей, нескладуха!..
Парнишка протянул новорожденную. Молодуха живо скинула шубу и крепко закутала орущую девчонку в соболий мех, подбитый белым атласом.
– Грейся, грейся… согревайся, дуреныш… – зашептала подвыпившая красавица в алмазах, прижала к себе маленькую и заплакала. Зашмыгал сильнее мальчишка. Елизавета стонала во мраке машины, мужики ругались, кричали розовощекой: «Езжай!» Она нагнулась, нырнула во мрак, бросила руки в перстнях на руль.
– Вот она на улице родила! – Обернула прекрасное, залитое слезами лицо к первому матерщиннику, закусила малиновую губу, – а я… вечно высохший бобыл, бастыл. Вечно на чужих свадьбах гуляю, чужие крестины сбрызгиваю… Через край уже! Пролилось! – Колеса резко крутанули на льду. – У этой бродяжки счастье, а я?!
Машина мчалась вперед. Тьма стремительно заглатывала белые, в инее, деревья на обочинах.
Так появилась на свет Божий Ксения, дочка зимнего царя. Елизавета оказалась великолепной матерью. Она шила девочке распашонки из списанных больничных халатов, мастерила игрушки из ореховой скорлупы и еловых и кедровых шишек, а однажды украла на рынке у торговки мехами Любы большой кусок медвежьей шкуры с еще не высохшей мездрой, выделала сама и сварганила доченьке шубу на морозы – как у взрослой: с оторочкой, с воротником шалью, даже с муфточкою. Вместо кровати у Ксении была огромная корзина, сплетенная из добела ободранного краснотала, вместо коляски – крохотные санки-розвальни, найденные Елизаветой на городской свалке и самодельно расписанные масляными красками в духе старинной кошевки. Она сидела в расписной кошевке краснощекая, улыбалась во все личико беззубым ртом! Зубки появлялись, как чесночинки: один, другой, третий. Елизавета крепко ухватывала веревку от розвальней и бегала туда-сюда по наледям, по утоптанным тропинкам, катая дочь, смеясь во все горло. Ксения тоже хохотала, как от щекотки, требовала: «Еще!..» А то забиралась мать с нею на гору и пускала санки вниз, с отвесного страшного косогора – к реке, в синь и ругань ворон, и снопы лучей ударяли вверх, в Ксеньины глаза, из каждой застылой снежинки косогора, со дна оврага. Зальделая река подставляла бело-молочный жесткий живот целующему ее Солнцу, и лицо Ксении вспыхивало, озаряясь сумасшедшим весельем, когда санки летели навстречу реке. Ветер налетал или буерак подворачивался под полоз, Ксению вышвыривало лицом в снег, и ей казалось, что она упала на ежа! «Матушка, матушка! – вопила Ксения торжествующе. – Я наелась снежного сахара!» Чистые просторы слепили зрачки, а вдали, за перекрестьем рек, чадили скелетные трубы заводов, внутри которых, в чанах и автоклавах, варились, глухо булькая, жизнь и смерть.
Ксения знала многое. Она зхала, что под грязно-исполосованным льдом есть играющий изумруд воды; что летом в глинистых обрывах над рекой роют норки ласточки-береговушки; что из перламутровых раковин перловиц, в изобилии находимых на отмелях-залысинах, можно делать для красоты замечательные бусы или серьги, такие тяжелые, что уши могут отвалиться; что елку в Новый год надо ставить не в крестовину, а в банку с песком, а песок поливать усердно, тогда елка пустит нежные иголочки и смолистые шишечки, похожие на почки; что сойки едят мясо, как дикие кошки, а синицы клюют кусочек сала, если им привязать его к дереву ниткой; что, когда гадаешь, надо класть кольцо в стеклянное блюдо, а под блюдо насыпать пепел, а по обеим сторонам зеркала ставить свечи, и тогда можно увидать на дне блюда, в кольце, лицо того мужчины, что возьмет тебя замуж; что звезда Сириус – живая, а звезда Марс – холодная и мертвая, но когда-то тоже была живая; и еще знала Ксения о том, что душа человека – это бабочка, и она вылетает на свободу, когда куколка человеческого тела скукоживается и трескается, умирая.
Чернь вечера. За окном – багряная, мятная марь. Медовый, золотой цвет лампы в чуланчике льется сладким ручьем, растекается по мышиным, утлым углам. Колченогий стол Елизавета прикрыла от стыда штопанным вдоль-поперек одеялом – им в больнице никто не хотел более укрываться, потому что под этим одеялом умер человек. А они с Ксенией на одеяле ели и пили, Елизавета вязала, вертела Ксении игрушки, раскладывала шитье – старые халаты, хирургические фартуки начинали жить по-новому в испачканных, чутких, нервно-сухих пальцах. Ксения ворочается в корзине; вздыхает. Мать подходит, садится у изголовья на табурет, нежно глядит в лицо своей спящей. Разметалась, и ручонки в стороны, и живот – круглый абрикос. Тельце, кровушка. Жизнь. Что ждет? Маятник, оживший в ночь Ксеньиного зачатия, стучит: деревянные костяшки руки Времени, лязг лошадиных подков, ночи суровые, Конь Блед. Дитя спит. Ей что. Закричит – мать тут же картошки даст столовую ложку, еще теплая, в бидоне, укрытом тряпками. Осторожно и скорбно, как кисею или батист, берет Елизавета кончиками пальцев шершавое дочкино одеяло, натягивает ей до ушей. Холодно. Во все щели дует. О проклятый мороз! О, благословенный мороз… Довелось родиться в этой земле – так терпи. Елизавета на цыпочках возвращается к столу, грузно опускается на стул и смотрит, смотрит дочери в лицо, как бы прощаясь. Тяжелая ткань штор пахнет пылью. В углу сидит серебряная мышь, вежливо глядит бурмистринками глаз на мать и дочь, на золото-багряную икону в углу, на набор побитых шприцев Жанэ на покосившихся полках, на кованый сундук, где санитаркины тряпки и тапки лежат. Мышь сидит прямо на матово мерцающей плашке топора без топорища, умывает мордочку когтистой лапкой. А на стекле мороз лепит тела, кресты, стрелы, кольца, звезды и иные знаменья.
Ярко-алое полотно падает, сползает вниз со стола. Что это? Флаг, с коим на смерть идут? Полотнище? Плащаница скорбная? Тряпица легкомысленная для вышивки девичьей? А может, Елизавета нарукавники шьет для ночных надзирательных отрядов? Перевивается, льется кровавая, богатая ткань, мягко посверкивают тяжелые складки: должно быть, древняя это ткань, пунцовый рытый бархат… а издали не видать, возможно, это слепящий дамасский атлас, в который заворачивались, возлегая на ложе, пышные развратные красавицы Вавилона в ночь его падения, отмечая резким цветом казни и умерщвления свою великую – в веках – судьбу. Елизавета берет ткань в руки, и та нежно скользит меж ее вздутых, в присохших чагах мозолей, пальцев. Вот из такой ткани – дочери подвенечное платье сшить!..
Мороз полыхнул по коже. Венчальное? Цветом гуще крови?! Ох, с ума она сорвалась, не иначе. Закрыла тяжелые полукружья век. Под веками, биясь и мерцая, началась своя, странная и немыслимая, жизнь. Сражались воины. Летели стрелы. Пересыхали моря, и гибла рыба, бешено, напролом, идя из горловины устья – на вихревой алый нерест. Заточенные в темницах королевы шили золотом по холстинным грубым гобеленам. Жена зажиточного купца – Елизавета не припомнила, как ее звали, хотя глаза ее она узнала немедленно, – приготовлялась купаться в бассейне, сидя на мраморном краю и весело окуная ноги в изумрудную холодень, а пацан-арапчонок лез с полотенцем, промакивал ей желтые, слоновой кости, плечи, пока жена купца, держа пергамент мокрыми руками, читала письмо, присланное ей – любовное письмо. Боевые слоны переходили вброд шумную, белее молока, реку в горах, и старые, с жидкими бороденками, картографы коленопреклоненно рассыпали перед султанами карты с переустройством мира. Черные девушки танцевали перед усатыми, в кружевах, пиратами на липкой от крови палубе корабля, а во льдах, чуть смещалась ось подглазного видения, малорослые люди в меховых сапогах, стоя в лодке в рост, гарпунами убивали молодого кита, и молились, и просили у кита прощенья. Земля медленно поворачивалась, пока Елизаветины глаза были закрыты, а красная ткань дрожала в ее худых узловатых руках. Такое зреть ей было впервые, и она затаила дыхание, выпрямилась, словно бы слушая пение сверчка или далекую музыку. Ксения тихонечко поворочалась в корзине и почмокала. Мать, не размыкая век, вслепую нашарила рукою корзинку, погладила потный лобик. Крутись! Крутись, Земля-матушка! Лицо зареванное Солнцу подставляй, небу многозвездному! В черноте – Дьявол есть ли?! Звездная чернота – живая, добрая. А дом Зла? Христос-Бог учил, что Диавол – среди нас, что тело наше, кости наши и череп, разума вместилище, – это его дом. И в чистоте надо дом свой держать, не в запустении, чтоб не поселялся в нем ужас кромешный.
Елизавета, сонно, слепо покачиваясь, следила за сменой бесконечных земных картин. Жизнь, жизнь, огромная, как ветер, и народы перемещаются по лику Земли, перетекают из сухопутного кувшина – в морской, перелетают, возвращаются, умирают, сгорают заживо в пожарищах набегов, и огонь воздымает рыжие кулаки к небу. Так вот какая ты, земная жизнь. Ты – тесто, и гигантские руки грубо месят тебя, швыряют об стол древних материков, кидают в солевой раствор гибельных приливов, втыкают в тебя изюмины разгульных торжеств и горькие маслины гениев. Когти гончих собак царапают тебя, в зубы убитых волков ты сама суковатую палку втыкаешь. Ух, какая ты, жизнь! Ты – чудо; ты – заклинание у костра. А костер – вот он: алая ткань, кою в руках мну, держу, ногтями разрываю. Слежу внимательно: где же в череде жизней – она, Ксеньина? Дочь моя живет уж на свете белом. Ее вороны любят, она им хлебец крошит малюсенькими пальчиками; и собаки окрестные ее присмотрели – так и увиваются за ней, носами тычут, лапы на плечи кладут. А она собакам кулачки в пасть слюнявую кладет и смеется, и на голубой снег с ними вместе садится, и за шею обнимает, и целует их в парные, шерстяные пахучие морды, и собаки по снегу бьют хвостами от радости, как палками. Вот какая у меня Ксенья-то, – а, жизнь! Ты погляди на нее только! И как собаки те начнут ее катать носами да лапами по сугробам – визгу аж до крыши! А люди мимо плывут. Таращатся. Вздергивают плечьми: «Вот век пошел. Сумасшедшие дети в сугробах с собаками катаются. Собачья дочь. А мать, верно, – шалава из шалав!» Ну же, ну, вертись, волглый, снежный шар. Авось… и Ксенью увижу. Вот. Вот сейчас. Дрожу. Еще поворот. Еще… ну!..
Сон Елизаветы. Кондак летописца во славу Ксении
…и вот, увидал я на площади, забитой до самых крыш сутулых домов людьми, машинами, смертоносными орудиями, дымами и огнями, среди танковых пушек, груд мусора, баррикад, кричащих офицеров и солдат, среди круговращенья народа – а уж огонь полыхал, взвивался до небесной черноты! – женщину в рубище. Она стояла в кольце костров, подъяв худые руки. Одета была в мешок с прорезью для горла – так помстилось мне, – лохмы подола волоклись по грязи, тлели, окунаясь в угли костров. Народ гудел и плакал вокруг нее. Люди наскакивали друг на друга грудью, схватывались врукопашную. Ругань, стоны стояли в прогорклом, чадном воздухе. На морозе застывали адские розы дымов, вися в серебряном дегте черной небесной чаши. Крики рвали ледяной воздух: «Царя!.. Царя хотим!.. Хватит ужасов, мук!.. Довольно!.. Сыты уж!.. И кровью напились, и смертями наелись!.. Кто не с нами – пусть погибнет!.. Нет уж давно воскресенья, есть лишь смерть одна!.. Режь… руби… наказуй – возмездие пришло, за всю боль, за все страданье, русским человеком выпитое!.. Думали – захлебнемся?!.. Накось! Выкуси!.. Все – обман… не хотим больше обмана!.. А если правды в мире нет – останется лишь кровь, она-то правдивей всех!.. Царя! Царя дайте нам!.. Он нас спасет – он всегда на Руси был!.. Нам к его ногам – припасть… мы его – возвеличим!.. до неба подымем!.. Царя!.. Царя!.. От греха, ото лжи, от гибели – Царя хотим!..»
И среди таких криков раздавались иные, утробные:
«Ишь, отребье… чернь, псы… ублюдки… рожна горячего вам, а не Царя… против свободы пошли?! Против изобильных плодов, что на вас вывалили, потопив вас же, шакалов, в роскоши?! Против ИСТОРИИ МИРА?! Зажрались!.. Только гадить в фарфоровые вазы умеете! Лишь кнут, лишь окрик и пытку понимаете!.. Волчья кровь… народ!.. – не народ, а быдло!.. Задушим!.. В крови потопим вас!.. Это мы – народ!.. Мы!.. И мы будем владеть вами!.. Мы спляшем на ваших сожженных костях!..»
Я слышал сие глумление, я ужасался и дрожал. Плотней запахнувшись в непрочное, незимнее одеянье свое, я поближе подошел к жене, стоящей посреди смрада, воплей и горя, посреди моря людского плывшей босиком на железном сугробе. Да, босиком, – я когда взгляд перевел на ее лодыжки нежные, на ступни босые, прямо к угольному льду прижавшиеся, – так и захолонуло сердце мое, и я прослезился. Взмахи великих огней вырвали из тьмы ее лицо. Оно было страшно и прекрасно. Торчащие, худые скулы, космы вдоль щек, огромные, широко распахнутые глаза с бездоньем зрачков, оранжево горящие щеки, разрезы темных морщин вокруг рта. И нежность, несказуемую словами, я узрел в том лике женском. Подбрел я еще ближе и молвил: «Милая, да святится имя твое, неизвестное мне! Ушла бы ты отсюда! Того и гляди, убьют тебя здесь, сожгут в кострище – косточек не соберешь. Ты – женщина: для чего тебе быть в сердцевине мужской свары?!» Она глянула на меня строго. Наклонила ко мне гордую голову, лохматая прядь коснулась щеки моей, и вздрогнул я, как от ожога. И так сказала мне: «Муж разумный, погляди повнимательней, кто сражается здесь, кто убивает друг друга». И верно: глянул я – а вокруг и женщины друг дружке в косы вцепляются, лица ногтями царапают, и пацаны клубками катаются, одежу друг на дружке в клочья дерут, лбы и затылки разбивают о мерзлые камни! И старики поседелые, усохшие наподобье хлебной горбушки, железо и камни во врагов своих целят! Добро бы лишь камни – цепь непрерывных выстрелов под смолью небес раздается. Огонь, огонь из дул автоматных, из дедовых ружей, из бандитских обрезов.
И женщина та, зажимая худою рукою обгорелое платье на груди, пыталась усмирить смуту, вразумить противоборствующие стороны.
Поднимая руки высоко, так кричала она, стоя в бешенстве огней: «Братья, братья!.. Одумайтесь!.. Что деете вы, что же вы творите!.. Закон вам не писан, но вслушайтесь в себя, ощутите – в каждом из вас бьется живое сердце! А вы убиваете его, ваше сердце, в ближних своих – ведь в мальчишке с мертвым голубем у пояса – сердце ваше! И в распатланной, седой матери, плюющей в окровавленную священничью рясу, – сердце ваше! И в парне, зажавшем складной нож в кулаке, и в мужике, поливающем огнем из проклятой железяки, – сердце ваше! Так не убивайте себя, люди! Знайте: Бог судил вам погибель иную. Не берите на себя Боговы дела. Перестаньте жечь костры! Не стреляйте – обнимите друг друга! Поцелуйте друг друга!»
И внезапно голос ее среди выстрелов, сполохов и галдежа пресекся, и шепнула она, – а я видел, я-то близко стоял, как по испачканным сажею скулам ее две серебряных слезки скатились:
«… полюбите друг друга…»
Куда там! Услышал ли ее кто!