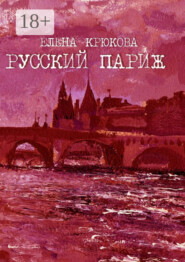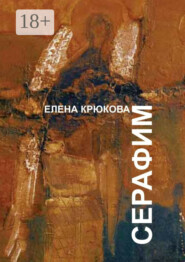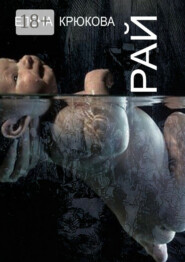По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пистолет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ждали, пока мясо замочится, и уже бутылку открыли. Одну. Другую. Огурчиками закусывали. Опьянели.
И все стало – море по колено.
До вечера досидели как-то незаметно! Сунулся в холодильник. О, шашлычок готов! Из кастрюли мясо вывалили в пакет, взяли шампуры, побрели, обнимая друг друга за плечи, уже шаткими ногами – на Откос.
Эх ты, ребята, а в березах-то уже золотые прядки! Осень.
Но мы – не осень! Мы-то еще не умираем! Мы-ы-ы-ы-ы…
Солнце пекло! Лето еще текло нам на головы! Разожгли костер. Мясо на шампуры насадили. Подождали, пока угли задымятся. Жарили…
Еще бутылку вскрыли… Еще одну!
Помидорки с собой…
Дали курились сизой, синей дымкой, как угли у нас под ногами. Время горело. Воздух пах мясом. Вечер глотали, как водку. Небо было уксусное на вкус. Жизнь, это была моя жизнь!
Белый налил мне еще полстакана. Я уже не стоял на ногах, все падал куда-то вправо. Схватил стакан и засмеялся. Утер рот рукой.
Поднял стакан, водка выплеснулась мне на грязные берцы, и сказал:
«Я завтра куплю то, что хотел всю жизнь».
И мои – меня поняли. Загоготали, по спине стали хлопать. Я выпил и сел на корточки осторожно. Меня тошнило, но все равно было хорошо.
А Гришка уже спал под кустом. Храпел вовсю. Его накрыли от холода «косухой», а голову – от солнца – газетой «Друг народа».
Опять с дружками пить пошли. Как надоело это пьянство!
Все пьют. Ну ладно бы мы, взрослые. Старые уже. Нам водка – слону дробина в левое ухо. И то спивается кое-кто. А эти? Юные? Алкоголики ведь уже! Руки, пальцы у них дрожат!
Лечиться насильно. Разве кто будет лечиться насильно?
Это надо самому от водки отказаться. А как? Как?
Ведь для них водка, пиво, дешевое красное вино – такой символ их юности. Их – взрослости. Без водки они вроде бы как дети, а с водкой – ну нет, уже мужики.
Мужики, юнцы-дураки-безбородые…
Вытерла пианино от пыли. Вытерла стол, где компьютер. Вытерла гитары Оськины, по стенам на гвоздях висящие.
И тут нога под диваном за что-то такое задела. Твердое. Холодное.
Стальное.
Я наклонилась и вытащила из-под дивана пистолет.
Я долго стоял в магазине. Глядел на них.
Они были черные; серо-перламутровые; густо-дегтярные; коричневые; блестящие, будто лаковые; с курками длинными; с короткими курками; со стволами толстыми; с коротенькими аккуратными стволами, будто их обрубили, как породистому псу хвост.
Такие разные. На ощупь – на вес – такие тяжелые.
Прекрасная, важная тяжесть.
Тяжесть – мужества. Тяжесть – смерти.
Я вдруг понял: это все не игра. Я сейчас куплю его – и я уже буду другой.
Какой? Ну, другой. Иной совсем.
Это как шагнуть: из детства – в пропасть.
И полететь, и заорать, и ждать, когда тебя ангелы спасут и вознесут к пухлым облакам – или разбиться, шмякнуться в лепешку.
Я держал в руках смерть. Свою? Чужую?
Почему меня продавец не спрашивает, есть ли у меня лицензия на ношение оружия?
«У вас есть лицензия на оружие?» – спросил продавец, молодой парень, такой же, как я. Даже на меня чем-то похож.
Я помотал головой. Непонятно так помотал. Вроде бы, есть, а вроде бы и нет.
«Покажи», – сказал парень мне уже на «ты».
И я это «ты» подхватил.
«Ты знаешь, продай мне его, а?» – сказал я тихо.
И наклонился к нему поближе, и постарался заглянуть ему в глаза.
«Не могу, – так же тихо, чтобы другие у прилавка не слышали, сказал мне он. – Но я тебе помогу. Вот тебе адресок один. – Наклонился. Накарябал что-то ручкой на листочке. – Вот. – Протянул. И еще раз повторил: – Вот».
Телефона там не было, только адрес.
Я сразу же пошел по нему. И быстро нашел.
Старый дом, в старом городе. Дверь с улицы закрыта. Я пошел во двор. Толкнул другую дверь. Она открылась. Лестница вела вверх. Я стал подниматься. Черт, дом вроде маленький, а лестница эта почему-то все не кончалась. Или это я так волновался? И ноги ватные? И мысли бились: настоящий, настоящий. Наконец-то.
Еще одна дверь. Постучал. Вышел маленький, как гриб, мужичонка. Щеки щетиной заросли, как пень серым кудрявым мхом. Он не удивился. Я молча прошел. Мужичонка не меня снизу вверх смотрел. Ждал.
«Макаров» у вас куплю?»
Мужичонка наклонил голову. Я увидел его лысый затылок.
«А сколько у тебя с собой?» – сказал он хрипло, не глядя на меня, глядя в пол.
Я тоже посмотрел на пол, увидел под ногами обшарпанные половицы, не крашенные сто лет.