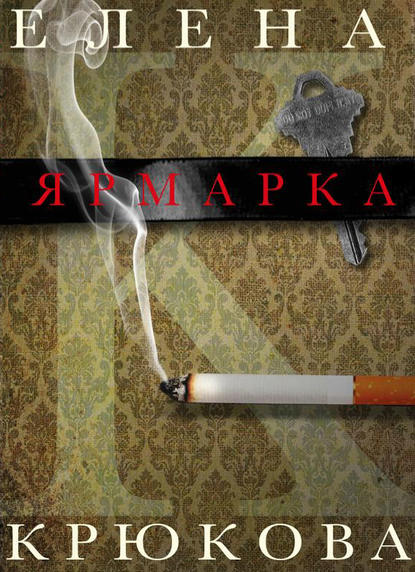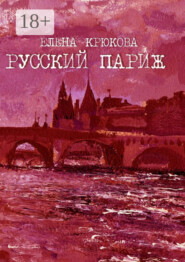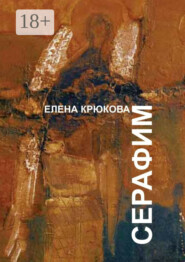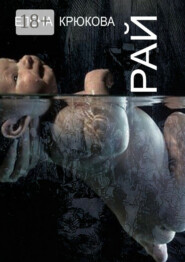По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ярмарка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Машка-а-а-а-а-а! – Вопль вырывается из усатого, бородатого рта, будто из сердцевины старого пня, заросшего мхом и выеденного гнилью времени. – Рваная рубашка-а-а-а-а…
– Тише, тише, Федор… – Она уже в медвежьих лапах, и лапы ее мнут, тискают, вертят; лапы сходят с ума от радости, лапы радуются ей, как празднику. – Тише, солнце мое… Я, я…
Тот, кто обнял ее, отстраняет ее от себя, отпускает ее.
Только его глаза не отпускают ее. Глаза ходят по ней, бродят, ощупывают ее, обласкивают, гладят, тормошат, ерошат; глаза вливаются в ее глаза, как вливается сладкое вино, крепкая, белая водка. Да, светлые. У него тоже светлые глаза, думает она, тоже. Как… у того…
– Машулька!.. Надолго?..
Он берет у нее из рук сумки. Заглядывает в них, как ребенок: что там мамка принесла? Ага-а-а-а! Что-то такое хорошенькое принесла…
– На вечерок, Федя.
– Может, останешься?.. – Она слышит его медленное, хриплое, табачное дыхание. – На ночь?..
– Нет, Федя. Завтра мне на участок.
– А пошел он, этот твой участок, в жо…
– Федя!
– Ах, пардон, жо-о-о-олтые сапожки…
Мария смотрит, как он вынимает из сумки бутылку, за ней сверток, и еще один.
– Ух ты, Машка моя!.. Чего-то прикупила, вкуснятины… что здесь? Ух-х-х-х, колбаска! Давненько я колбаски не…
– Режь! Рюмочки давай! Устала я. Там еще сыр! Хлеба не купила, не было.
Мария сбросила пальто, стоя стащила сапоги, кинула их в угол; спугнула сапогами спящего серого кота. Кот вскочил, дико мяукнул; вылетел в открытую форточку. Высоко над землей открытую. Федор и кот ютились в подвале, почти целиком утонувшем в земле – окна висели, светясь, над головой.
«Как в тюрьме», – подумала Мария.
– Щас. Порежу. Сядь, ну садись же…
Она села на корявый, будто горбатый, маленький стульчик на кривых ножках, чуть не упала с него и засмеялась.
Федор уже резал колбасу на заваленном окурками, немытыми тарелками и чашками, пустыми банками, спичками, рваными бумагами, высохшими тюбиками, уставленном старыми настольными лампами и обгорелыми свечными огрызками, заляпанном грязью и пролитой едой столе. На столе, как на холсте, жизнь грязью написала великую картину, под названием: «Одиночество». А может, это был не стол, а старый верблюд, с головы до ног увешанный побрякушками мертвого, утраченного времени. Живой был этот стол, и он устал быть грязным и несчастным. Он ждал Марию. Одна Мария, одна на свете, его мыла, терла, отчищала, обихаживала, украшала чистой посудой – и свечи на нем зажигала.
Она зажигала всегда свечи, потому что Федор очень любил свечи.
И Федор, ожидая ее, и когда она являлась, тоже, творя ей праздник, свечи зажигал.
Он думал – она любит горящие свечи; а она думала – он любит огонь.
А может, это огонь любил их обоих.
– Некогда восседать. – Она поднялась с горбатого стульчика. – Надо помыть посуду.
Она отправилась в маленькую подсобку, где Федор держал дрова. Там же лежали тазы, в которых он время от времени мылся. Сырая мочалка, висящая на гвозде, пахла стиральным мылом. Поленница бесплатных, мусорных дров, украденных на свалках, помойках и стройках, за нынешние морозы потощала. Черная страшная раковина приняла у Марии из рук гору посуды. Улыбаясь, Мария оттирала тряпкой и губкой еду, плесень, наросты, потеки, слезы, блевотину, пепел и прах.
Оттерла. Под струей ледяной воды сполоснула. В комнату внесла.
– Ах, не помыла рюмки…
Федор, смеясь, сделал вид, что смачно плюнул в рюмку, и протер ее полой выпачканной в масляной краске рубахи.
– Нет проблем!
Он уже открывал водку. Зубами.
– Федя, ну что ты, последний зуб сломаешь…
Он беззвучно хохотал, как безумный.
– Уже сломал…
Водку разлил. Оба взяли в руки ртутный, перламутровый блеск.
– Ледяная…
Он высоко поднял рюмку. Посмотрел в нее на просвет, как в алмаз ограненный.
– Выпьем за то, Машка, чтобы меня отсюда не выгнали!
Оба выпили, сразу опрокинули рюмки, Федор быстро цапнул с тарелки и поднес ко рту Марии кусок колбасы. Она взяла у него из рук колбасу зубами, как ручной зверь.
– Кто тебя выгонит? – спросила она с набитым ртом.
Он быстро, ловко снова налил обе рюмки доверху.
Они оба стояли перед столом, так и не сели. Как на вокзале в буфете. Будто поезд через полчаса.
– Город, – коротко сказал. – Мастерские отнимают. Я ведь тут… на птичьих правах. Я тут… вместо Вити Балясина. Витька в деревню уехал. Давно. Лет двенадцать назад. И мне свою халупу оставил. Спас меня. Иначе я бы… в сугробе… – Он махнул рукой. Зажмурился. Головой помотал, как блохастый кот. – Я не знаю, что с Витькой, может, помер давно. Ну и… я тут как мышь сижу. Никого не трогаю. Вот тебя… все время жду. Картинки свои… малюю. Никому… не нужные…
– Мне нужные, мне! – крикнула Мария отчаянно и обняла его за шею.
Шея у Федора была горячая и крепкая, как бревно. Могучая.
А вот зубов во рту уже мало было.
Он смотрел на Марию, как на икону. Как на свеженаписанную картину.
– Ты моя милая, – сказал он тихо. Руки его легли на ее лопатки. Беззубый рот солнечно, пусто улыбался. – Ты моя ясная. Так я для тебя и пишу. Мне уже никто не нужен. Ничто. Ни выставки, ни продажи… Мои картины… Разве они – для рынка?
Он смотрел в лицо Марии, и она глядела в его лицо.
Их глаза нежно целовались, а губы улыбались, смеялись беззвучно.