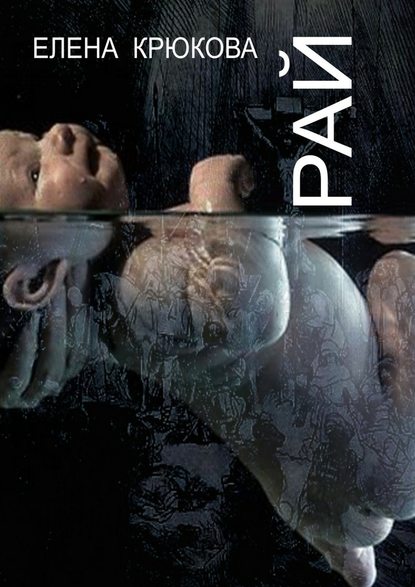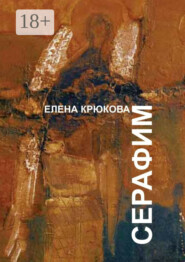По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рай
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И вдруг ей губы обожгла боль. Она отпрянула. Отодвинула игрушку от себя. Из потертого бархата высовывалась острая швейная игла. Возможно, белку уже использовали, как держатель для иголок. А может, бабушка по нечаянности воткнула иглу, штопая внуку носочки, да так про нее и забыла.
По губам Руди, по подбородку текла кровь. Она вытерла ее тыльной стороной ладони. Осторожно вынула иглу из белки. Воткнула в край ковра.
Игла пронзила белочкино сердце. И вот иглу вытащили. Теперь в сердце у милой игрушки рана. Она еще чувствует. Она еще живет. А Руди?
Женщина улыбнулась уже спокойнее, встряхнула белку и поцеловала ее в пуговичный нос. Выронила из рук на пол. Нагнулась, опять подняла.
– Белка, – сказала женщина игрушке, – ты не отпускаешь меня. Позволь мне переночевать у тебя в домике! Я тебя не стесню.
Она взяла белку на руки, укачивая, как сонного ребенка, и, кажется, напевала ей колыбельную.
– Мы с тобой… вдвоем… очень весело… живем…
Так, с белкой на руках, она побрела по комнатам. Сначала не глядела по сторонам. Глядела под ноги.
Потом стала обводить глазами все, что вставало вокруг.
Глобус. Ажурная мантилья на спинке кресла. Карта мира на стене. Старинный подсвечник на три свечи, а за ним – семисвечник, и огарок воткнут в центр. Свиной обгорелый хвост фитиля. Книжный шкаф. Разбитые стекла. Книги вывалились, и вместе с книгами ноты, и ноты открыты, странные, длинные как простыня, и сиеной жженой оттиснуто на пожелтелой, как кожа старика, истонченной бумаге: «JOHANN SEBASTIAN BACH. ORGELWERKE». Черные муравьи нот расползались по нотоносцам, карабкались по скрипичным и басовым ключам, вылезали вон, за страницу, позли на паркет, на мусор, на пепел.
Руди присела на корточки. Крепко держа белку, вглядывалась в ноты. Когда-то ее учили музыке. В другой жизни. А потом она умерла.
Она глядела, ноты ползли и плыли, вползали в пустые зрачки, и постепенно, такт за тактом, она начинала слышать внутри, под сердцем и под черепом одновременно, шевеление густых и нежных звуков. Тонко щебетали птицы. Ныла и плакала флейта. Басом пел старый печальный фагот, плелась вязь забытых вьюг и канувших во тьму метелей. Лилии снега расцветали и гасли. Мать укутывала ребенка в серую козью шаль. Руди глубоко и прерывисто вздохнула, как после рыданий. Держала белку одной рукой, а другой гладила звучащую желтую старую простыню. Надо было перевернуть страницу, а она не могла.
И музыка угасла сама собой.
Женщина разогнула колени. Шла дальше по разбомбленному дому. Вещи обступали ее. Гладильная доска, обшитая льняными полосками, и громоздкий утюг на ней. Из-под утюга до полу свешивается рубашка. Мужская, чисто выстиранная рубаха в клетку. Еще не выветрился фиалковый запах отдушки. За стеклами буфета сервиз. Небогатый, фаянсовый, со щербатыми тарелками и треснувшими чашками. Люди, кто жил здесь, любили застолья и не жалели посуду.
Одна из чашек на столе. Сбоку написано неумелой, самодельной кистью, масляной краской: «HAPPY ВIRTHDAY TO YOU». Руди взяла чашку. Потыкала ею в морду белке.
– Пей, пей, дитя мое, чай горячий.
Колода карт. Бутылка вина. О, да тут их много. Целые и початые. Штук пять. Нет, шесть. Хорошее красное вино; судя по этикеткам, французское и аргентинское.
Женщина протянула руку. Бутылка сама скользнула в нее. Она пила долго, запрокинув голову. Оторвала горлышко от губ с растерянной, сладкой усмешкой.
– Если есть выпивка, то есть и закуска.
Ноги сами выбирали дорогу. Перешагивали через кирпичную крошку и обнаженные трубы. Кухня, и полотенца на гвоздях, и распахнут шкаф, как взрезанный хирургом беззащитный живот. Руди хлопала дверцами шкафов, вслепую вела ладонью по полкам. Ничего. Ни пакета. Ни коробки. Ни мешка с крупой. Ни банки. Ни старого подсолнечного масла в немытой бутыли.
– Вино есть, а жратвы нет. Плохо дело, белка. Мне нечем тебя покормить.
Вела, вела глазами вверх и вбок.
– Как ты уснешь голодная? Ведь не уснешь же.
Наткнулась глазами на подоконник.
Под подоконником тоже шкаф. Он закрыт. Намертво? А может, это тайный подземный ход?
– Белочка, ты хочешь сказку? Я расскажу тебе сказку.
Женщина рванула ручку на себя.
И прямо ей на босые ноги вывалились коробки и банки, кульки и свертки, о которых она несбыточно мечтала.
– О, вот это да…
Она посадила белку на подоконник.
– Сиди, зверек! Поглядим на богатство!
Села на пол и стала подгребать к себе то, что продлевало ей жизнь.
Никому не нужную жизнь, и ей не нужную тоже; но при виде еды у нее потекли слюнки, и улыбка радости и благодарности покривила голодный рот, и, подмигнув белке, она выкрикнула:
– Сейчас! Быстро все откроем! Нет проблем!
Консервный нож сам упал в руки с края стола. Белка пристально, холодно глядела, как дрожащая от жадности, голода и счастья женщина втыкает нож в серебристую жесть и кромсает ее, режет, вспарывает, как брюхо толстокожей акулы.
Она глядела, как женщина, выковыривая из банки пальцами рыбье мясо в томатной подливке, жадно, давясь, ест, запихивая в рот все новые и новые куски, блаженно жмурясь, урча и постанывая, шумно выдыхая, и опять запускает пальцы в красный соус, и облизывает их, плача и смеясь, и рыба падает у нее из рук на пол, пачкая ей завернутые до колен джинсы и брезентовую куртку, и валится на голую лодыжку, и падает возле босой ступни, и женщина, ахнув жалостливо, нагибается, поднимает уроненный на паркет красный кусок и отправляет в рот, и жует, и снова щурится, как от солнца.
А вокруг ночь, и звезды на небе, в проеме разбитого взрывом потолка.
Белка терпеливо глядела, как женщина ест. Она дождалась, пока Руди наестся вдоволь.
Женщина поставила пустую банку на подоконник. Обрезала жестью палец. Слизнула кровь.
– Ох, я нечаянно. Воды нет, белка? Запьем вином.
Поднялась, шатаясь.
– А тебя-то я не накормила! Ах, какая плохая мамочка…
Открыла еще одну банку. Кровь текла по запястьям, по наклейке: «ЗОЛОТАЯ КУКУРУЗА». И кукурузу ела пальцами, мурлыкая; и брала зерна, и совала в бархатный ротик белки, насыщая ее, угощая, приговаривая:
– Ешь ты, ешь, на том свете-то не дадут, а здесь нам повезло.
Желтый старый бархат пачкался кукурузным соком. Руди щедро натолкала кукурузных зерен в картонную корзинку, рядом с тряпичными орехами.
– А где же твое спасибо? Ах, уже сказала?!
Погладила белку между ушей. Подергала за хвост. Сунула под куртку, за пазуху. Прошла в ту комнату, где она пила вино. Вина нигде не было. Ни там, ни сям.
– Что за черт! Не приснилось же! Я даже опьянела!
Ни одной бутылки. Ни полной; ни початой.
Мороз пробежал по коже. А может, это ледяной ветер дунул в руины.