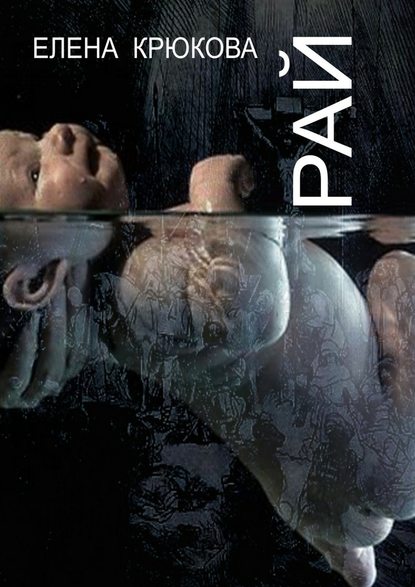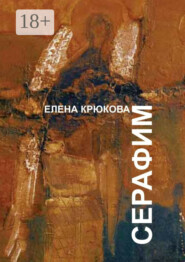По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рай
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это когда концом иглы дотронутся, а ты кричишь. Когда лезвием разрежут мышцы, кожу, красноту живого тела – а ты плачешь.
Зародыша еще никто не пришивал к телу матери иглой боли. Он, лежа в гибких красных ладонях плаценты, не знал, что такое боль. Он не знал, когда у него отпал хвост; а может, не отпал, а отломился, а может, не отломился, а превратился. Во что? В две скрюченные ножки?
Значит, надо проститься с червем. Все есть постоянное и немедленное превращенье. Зародыш превращался ежеминутно и ежесекундно. Каждый миг становился другим. Иным.
Он себя не помнил прежнего. И мать не помнила.
Мать даже не знала, что он уже живет в ней.
Про зародыша все знали околоплодные воды.
Вода. Океан. Почему мы так хотим туда вернуться?
Потому что мы все вышли из довременного океана – из прозрачного пузыря, в котором мы плавали и плескались, стенки которого трогали кончиками слабых, как ростки ириса, пальцев; вынырнули из воды, питавшей нас и поившей.
Воды, в которых плыл зародыш внутри гибко и капризно меняющего форму пузыря, позволяли ему кувыркаться и вертеться – он все равно был крепко привязан перевитой веревкой пуповины к матке, не удрать, не вырваться. Воды плескались беззвучно, слоились, перекатывались, наклоняя малютку в разные стороны. Он переворачивался, светясь боками, головкой, ростками рук – так вспыхивает и светится плавающая морская звезда внутри елочного прозрачного шара. Для бога он был игрушкой, но для матери все было серьезно и важно: ее мозг не знал о нем, а матка знала все – матка, жаркая печь, дышала и хранила, оберегала и грела.
Матка знала – до рождения мира под животом бога качались и плыли околоплодные воды.
Как приятно, вольно двигаться в воде! Ты еще зародыш или уже плод?
Ты уже вырастил себе ножки и ручки, и на них уже шевелятся маленькие смешные пальчики. Еще не можешь ими хватать. Да и хватать-то в утробе нечего. Она так богата пустотой, твоя утроба. Твой прозрачный, полный, пустой дом, наполненный прозрачной соленой, сытной жидкостью. Пальчики, резвые пальчики! Это потом, о, потом вы станете ласкать и царапать, давать пощечины и лепить снежки. Вы станете шить и пришивать – дыры требуют заплат, а рваные раны – тугих швов. Но сейчас вы беспомощно шевелитесь в прозрачной воде, пальчики. Не пальчики, а плавники.
Можно взглянуть в его лицо. Оно прекрасно. Это уже не безглазая голова червя. Глаза, что торчали по бокам круглой тяжелой слепой головы, медленно, неуклонно сближаются. Где веки? Их еще нет. Крошечное личико, громадные глаза: лицу трудно нести на своей тонкой и легкой тарелке такие огромные плоды. Между глаз выступ. Это нос, и зародыш им уже дышит. Он дышит всем телом: вода вместо воздуха, и живая вода входит в каждую пору, в каждую клетку, втекает в глаза, забивает ноздри, укутывает в сонное соленое одеяло. Что ты там скорчил рожу? Что говорит твое лицо?
Оно кричит: я уже не червяк!
Оно смеется: ты же видишь, я уже могу улыбаться!
Это еще не улыбка. Это ее попытка.
Плод так веселится.
Его сердце бьется часто и горячо, нельзя различить удары.
Сквозь невесомый шелк полуулыбки просвечивают зернышки зубов. Губы, вы еще не появились! Вы еще только растете! Это рот, что будут так страстно целовать, искать в темноте спальни. К нему будут приближать ухо, чтобы расслышать последнюю просьбу. Когда-нибудь, плод, ты станешь человеком на смертном одре. Бейся, сердечко! Тебе назначено так часто и отчаянно биться. Ты живешь в Мире Ином. Плывешь под водой, и дышишь жабрами, и дрожит сердце, как цветок на ветру. Но ты ребенок! Ты не игрушка! Тебя нельзя сломать, а потом починить! Ты уже перестаешь быть зародышем. Ты превращаешься в плод. Висишь на ветке пуповины и зреешь; и вот уже нет червя, он уполз навсегда, а когда это случилось, никто не заметил.
А может, ты игрушка. В тебя играет жизнь.
В тебя играет равнодушное время, бесстрастно и бесконечно улыбаясь.
В тебя играет смерть, поднимая тебя на ночных руках, внимательно рассматривая: мальчик ты или девочка? Тебе это все равно, а смерти не все равно: кем ты будешь лежать в последней деревянной, обитой ярким атласом, жесткой постели; в черном платье с кружевами или в строгом смокинге, в белом снежном саване или в смешном стареньком штопаном пиджачке. Что такое пол? У червя нет пола; он есть лишь у человека.
Вот они, очертания твоего страдания, если ты женщина.
Рисунок твоего счастья, если ты мужчина.
Раздвинешь ты ноги для горя или вытянешь струной для наслаждения – неизвестно.
У плода, похожего на скрюченный стручок, ровно в середине стручка образовалась выпуклость. Через несколько дней она станет выступом, внутри которого будет жить слишком много жизней. Мужчина несет в своем длинном сосуде миры; выплескивая сперму, он дарит женщине потерянные времена.
Плод радовался тому, что он становится мужчиной. Точно так же он был бы счастлив, если бы коготь бога процарапал внизу его живота женскую жалкую щель; бесполый червь обратился в мальчика, и мальчик торжествовал, чувствуя волю и власть.
Напрячь первые мускулы. Ощутить резкую, хлесткую боль по ходу первых нервов. Обернуть под струящейся, голубой, серебристой, небесной водой едва рожденное лицо – плоский нос раздувает ноздри, под закрытыми веками сонно, грозно ворочаются огромные белки, ямки ушей чернеют, готовясь к приходу слуха. И только рот скорбно молчит, сжимаясь в ниточку, немея, соглашаясь, заклиная.
Белка
Как налетел самолет, женщина не помнила.
Ей казалось: гул был всегда.
Гул ввинчивался в уши, поднимался изнутри, из-под сердца, из поджатого от голода живота. Сотрясал мышцы, выламывал кости.
Она искала глазами, где бы спрятаться. Самолет шел на бреющем полете, совсем рядом мерцало серое гладкое брюхо. Брюхо чиркнуло над ней, воздух разорвался с оглушительным свистом. На миг Руди перестала слышать.
Поняла: поздно.
Поздно искать убежище.
На землю падать, прикрывая голову руками, поздно.
Она осталась стоять. Стоя встречать смерть.
Она про нее не думала – некогда было. И картины жизни не промелькнули у нее перед глазами. Не возникло и не исчезло ничего; великая, почти счастливая пустота раскрылась внутри нее. Она стала полым сосудом, и вакуум под ребрами не заполнялся ни серым клубящимся дымом ужаса, ни хрустальным спокойствием последней молитвы.
Ни отчаяния. Ни терпения. Ни созерцания. Ничего.
Перед разрывом снаряда она стала ничем, и вокруг нее мерцало ничто.
Взрывная волна свалила ее с ног. Она упала и ощутила боль. Ползти прочь не было сил. Лежала, протянув руки вперед, и пальцы бессознательно скребли землю, и под ногти набивался песок вперемешку с черноземом.
Последняя воля толкнула ее вперед. Она подняла голову. Темя ощутило сопротивление горячего воздуха – среди лютого предснежного холода поздней осени.
«Осень, и тебе жить поздно. Ты сейчас умрешь, осень».
Руди мучительно, долго переворачивалась на бок. Разлепляла глаза, засыпанные землей.
Земля была всюду – над ней и под ней. Она сама стала землей. Может быть, она была уже в земле, она не знала.
Гул не кончался. Гудела земля. Гудело ее раскаленное ядро. Руди захотелось туда, в глубину, где нельзя смотреть и видеть, – в укрытие, под защиту, в слепоту, в тепло. Она напрягла мышцы ног и поползла, отталкиваясь босыми пальцами от круглого разъятого бока земли.
Чуть не свалилась в пропасть.
Пропасть? Где? Какая?
Она лежала на краю огромной воронки, вырытой взрывом. Одна половина ее тела уже катилась, скатывалась в черную, сыро и терпко пахнущую земляную бездну; другая пальцами, ногтями, локтями цеплялась за край бытия, но неумолимо наклонялась земляная равнодушная ладонь, стряхивая ее, бесполезную козявку, с себя – внутрь себя, во чрево, в раскрытый черный рот.
Она тоже раскрыла рот, как галчонок, желающий громко пискнуть в уютном гнезде – а уже летела, вылетала вон из гнезда, валилась наземь, валилась внутрь, в черный зев, и он ждал, готовясь и радуясь: вот сейчас ее вберет, поглотит, впитает, упокоит.