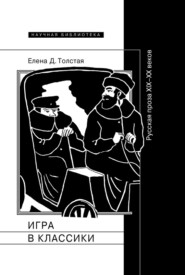По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Безгрешное сладострастие речи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рассказ о пьесе, которую сочинил в конце концов для героини повести Эйссен, полностью подкрепляет гипотезу о Булгакове как его прототипе: создавалось «Птичье королевство» в 1926–1927 годах, а описывает 1924 год, то есть идет по живым следам скандалов вокруг булгаковских «Дней Турбиных»:
«Настал день чтения новой пьесы.
На этих чтениях актеры супили брови, актрисы дрожали ресницами и все смотрели на директора, который „знал“. К третьему акту обреченной пьесы он опускал правую бровь, и навстречу ей ползла кривая улыбка <…> Кое-кто выходил, недослушав, а автор с холодным от страха животом, заикаясь, сосал свой чай, как губку с уксусом распинаемый» (с. 50).
Кто может сказать, зачем бы тут Бромлей опять упоминать «губку с уксусом» и «распинаемого»?
Бромлей подчеркивает уникальность того, кого героиня называет «мой автор», в атмосфере, царившей в театре конца 1920-х: «Мой автор <…> приносил бесстрашие слепца в наш раскаленный страстными опасениями, продажный воздух. Он не видел лжи своими огромными чужими глазами» (там же).
И тогда актерам начинает нравиться пьеса: «Талантливая сущность прокаженных актерских душ почувствовала величие; прекрасное желание восхищаться пробудилось в бедных сердцах» (там же). Этот конфликт страха и неистребимого стремления к правде даже в изуродованных душах актеров Бромлей суммирует так: «Позорные битвы! Наши позорные битвы во имя прекрасного!» (там же).
На параллелизм творчества Булгакова и Бромлей можно взглянуть и шире: у Бромлей налицо повесть о послереволюционном примирении и прощении России высшими силами – это «Из записок последнего бога» (ср. «Белая гвардия»); есть и своя биологическая фантастика о революционной современности – это «Потомок Гаргантюа» (ср. «Собачье сердце»); есть даже сочинение о художнике и святоше – это «Приключения благочестивой девицы Наннетты Румпельфельд»; есть у нее и мистическо-фарсовая мениппея, роман о Сатане – это «Мария в аду», где Сатана вместе с Богом вынужден поддержать основу бытия – различие добра и зла. При полном отсутствии внешнего сходства с романом о Сатане Булгакова в этой повести Бромлей поражает глубинное сходство как концепции – неотменимость основного морального закона доказывается силами зла, – так и жанра, переплетающего теологию с эксцентрикой.
Театр небожителей. Прецедент «Птичьего королевства» Бромлей следует учитывать для булгаковского «Театрального романа»: так, например, культ отчетливо опознаваемого МХТ, который здесь, на фоне общего морального распада, выглядит театром полубогов:
«Есть Новый театр на Театральной; там живут прекрасные люди, и туда никого не принимают. Чистый театр, величавый, там гнездятся орлы; там люди друг другу священны. Это огненный дом. Там нет ни лакеев, ни предателей, ни продажных, ни разовых женщин, ни красных занавесок в закулисных коридорах, похожих на коридоры домов свиданий, ни проезжих молодцов из актерской сволочи, растерявших талант и пристойность в притонах, похожих на театр импровизаций, в театрах, похожих на притон <…> они там торжественно дышат воздухом нашего времени и называют его горным. <…> Мы ходим плакать на их спектакли» (с. 26).
Однако, как и Булгакову в «Театральном романе», никакой пиетет не мешает Бромлей тут же переключиться в саркастический регистр:
«…Они носят головы на своих плечах с величайшей осторожностью. Они работают неслыханное количество часов в сутки, и единственное, что их переутомляет, – это их вежливость. Ибо они вежливы даже в трамвае, даже на премьерах чужих театров. Они отглажены до последней складки, их носовые платки ослепительны. Постоянное усилие никого не презирать и со всеми здороваться влияет несколько на их цвет лица. Но они никогда не умирают несвоевременно. Один из них, говорят, даже играл ответственную роль после своей смерти и умер официально только под занавес третьего спектакля, когда успех был обеспечен и подготовлен дублер» (с. 27).
Пассаж о мемориальном кабинете легендарного основателя у Бромлей в «Птичьем королевстве» сопоставим с музейной серией фотографий Аристарха Платоновича в «Театральном романе»:
«Есть и у нас святилище и древность. Там желтые в крапинках обои, голые лампочки висят на шнурах перед двумя неряшливыми окнами; на ламбрекенах пожелтевшие облака гардин старого образца, кроваво-желтый крашеный пол облуплен под столом древнего ореха. Сыплется лавр древних венков: кабинет первого директора, беспримерной славы благородного отца, умершего в году 1873-м» (с. 11).
Характеристики, восхищенно-ироничные и гиперболически-экспрессивные – например, в следующем фрагменте – также могут быть плодотворны в плане сопоставлений с булгаковским материалом:
«Был торжественный случай в театре. Раут, празднование. <…>
Качая плечами, с ледяными неглядящими лицами прошла шеренга роковых женщин; парчовые кресла скользнули им навстречу, и они опустились в кресла с египетским движением спин, держа прямую позу разбуженной змеи. <…>
Актеры все, как один, озирались с конским аллюром в праздничной надменности. <…> Сам Станиславский пронес над черным половодьем толпы свою голову укротителя зверинца, подобную белой хоругви. <…>» (с. 33).
Театр-варьете или мхатовский капустник? В описании эстрадных номеров на этом театральном празднике сгущаются мотивы, возможно, прототипические для булгаковских театральных описаний:
«Началась программа приветствий. Открылись большие стеклянные двери, и двинулось шествие – и все улыбнулись ему согласной улыбкой. Великолепное четвероногое, гривастый верблюд, составленный из двух человек, шел впереди, обутый в английские ботинки; за ним – поздравительный кортеж, и все это от Нового театра, того театра, который так многим мешает мирно спать; мне – первой.
Верблюд стал, содрогая<сь> выгнутой шеей, его вела пернатая кудлатка. Верблюд качнулся, ударило „дзын“, и пищалка пропела нечто убедительно обиженное, как верблюжья душа. Хохот. Кудлатка металлически вскрикнула. Верблюд верблюжьим гнусавым басом, танцуя, запел: он пел следующее:
Среди долины Умбри – я
Вдали от здешних стен,
Цветут – цветочек Скумбри – я,
И птичка стре – пантен!
Верблюд качался и вихлял боками, востроносая кудлатая душка летала, вскрикивая, и раскидывала ручки.
Маленький, ярко белокурый, с озорной и кроткой мордочкой гениальный Богомолов, побледнев от серьезности, сказал несколько слов о родословной верблюда. Хохотали и плакали, хохоча. Он уронил слезу, извинился и, кланяясь, вынул ослепительный платок. Аплодисменты» (с. 33–34).
Приходится также предположить интертекстуальную связь между следующей сценой и явлением профессора белой и черной магии в «Мастере и Маргарите» – при том что «маг» у Бромлей изображен пародийный:
«Потом из верблюжьего живота вынули эстраду, и на ней, торча фалдами фрака и выгнув правую ногу, подобно коню, роющему землю, воздвигнулся „Джон Личардсон настоящий“. Он вздыбил черный ус под наморщенным носом и потер руки. Глаз, яркий и круглый, вращался угрожающе и вдохновенно.
„Проездом чересь – то есть скрозь этот город, – сказал Личардсон и резко смолк, пережидая смех. – Я, профессор черной и белой магии, Джон Личардсон настоящий, даю гастроль! Почтеннейшая публика и интеллигенты!“
С вопросительным восторгом черным кустом торчали брови, торчали детские верящие глаза.
Не от райской ли чистоты сердца родится этот блаженный вздор?» (с. 34–35).
Здесь точно изображен эстрадный номер «Гастроль Джона Личардсона настоящего», созданный актером МХАТа Владимиром Поповым. Он же – В. А. Попов-Транио (впоследствии ставший известным киноактером) – вспоминал:
«Этот номер кабаретного характера, заимствованный из рассказа Тэффи „Проворство рук“, был эскизно намечен в 2-минутном представлении на новогоднем вечере в 1915 г. До сего времени я не потерял интереса к этому образу. С каждым годом номер этот расширялся, образ Личардсона определялся, и я сроднился с ним настолько, что для меня он уже не является вымыслом. Я верю в существование Джона и ясно вижу его в разных похождениях. Люблю его и безжалостно смеюсь над ним без конца. Смеюсь над этим трогательным неудачником, с его наивным жульничеством и чудесом и чудесами…»[138 - Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928. С. 103–104.]
Номер этот не годился для широкой публики, которая не понимала пародий и негодовала, норовя мага прогнать. Бытовал он на праздниках «для своих» и был прекрасно известен среди театральной и околотеатральной публики. И драматизированность прозы Бромлей, и ее реалистический мимесис, усиленный авангардистскими приемами выразительности, и даже тематические и мотивные блоки находятся на той же линии, что и работа Булгакова.
Приметы нового времени. Повесть Бромлей о театре писалась на десять лет раньше, чем неоконченный роман Булгакова, в атмосфере несравненно большей открытости: она несоизмеримо откровеннее, и прямому авторскому слову отведена в ней почетная роль. Впрочем, наиболее острые темы Бромлей решает метонимически, через значимые детали. Вот как рассказывается о сдвигах в системе актерских амплуа в связи с советизацией театра к середине 1920-х:
«Актерские амплуа в эти годы перекосились. <…> Например: искали мускулистого героя с маленькой моложавой головой. Не было таких. В результате заказали мускулатуру, и ее носил актер на орущие роли. В сезоне 1924 г. он сыграл 253 спектакля» (с. 8).
Надо понимать, что главным протагонистом новых пьес стал мощный микроцефал – как полагалось выглядеть положительному герою из народа, представителю массы, голос которого – глас народа (отсюда «на орущие роли»), который вначале может заблуждаться, но в конце концов попадает под чуткое руководство партийных товарищей. Поскольку нужного физического сложения среди актеров не наблюдалось, приходилось прибегнуть к накладной мускулатуре.
«Неврастеники перешли на амплуа „ответственных“, умирающих на посту. На этих спрос был меньше. Комики не вылезали из крахмального белья. Спрос на резонеров увеличился вдевятеро, они стали неизбежны в народных сценах. Вообще резонеры играли все. Любовникам не осталось другого применения, как бессловесно носить фрак и воздерживаться от всего прочего. Да и в мое время уже от всей этой пламенной породы оставалась всего лишь пара огрызков. С 1917 года если они и появлялись на сцене, то лишь по причине тяжелого ранения и обычно не далее третьего акта умирали под покровом знамен или проклятий» (с. 8–9).
Понятно, что наиболее распространенным типом героя в дореволюционном театре был герой мыслящий и сомневающийся, то есть неврастеник. Из повести Бромлей мы узнаем, что это амплуа сохранилось только для «ответственных, умирающих на посту». То есть это крупные партийцы и военные, принимающие трудные решения (только так можно было оправдать такое проклятое наследие прошлого, как неврастения, то есть внутреннее несогласие с самим собой), а потому гибнущие от инфарктов на общем фоне переутомления.
Почему комики в новых пьесах не вылезают из крахмального белья? Видимо, они играют богатых, а богатые должны выглядеть идиотами.
Почему спрос на резонеров увеличился вдевятеро? Потому что уровень пьес сознательно понижался, шло запланированное оглупление публики, все объяснялось, причем на самом примитивном уровне.
Почему любовников почти не осталось? Потому что носители мужского начала – самостоятельные, независимые, добивающиеся своего герои – казались несовременными теперь, когда личная жизнь стала не важна по сравнению с политической злобой дня. Поэтому такие персонажи должны были молчать, в сюжете им делать нечего, кроме как гибнуть.
Реставрация. В «Птичьем королевстве» отразились стремительные духовные перемены, суммируемые как моральная деградация театра. Революционный театр Вахтангова ушел в воспоминания. Налицо реставрация допотопной рутины, утрата духовного активизма, характерного для Серебряного века и первых пореволюционных лет. Автор описывает некий обобщенно-московский театр, где все само неудержимо сворачивает на старый лад – к театральным нравам и обычаям, принятым не только до революции, но и до реформы Станиславского:
«Это Ноев ковчег, торжественно всплывший после потопа. Добротное все для всех. Но старая Москва сидит в его углах, и запах дореформенных сигар никогда не покинет красного штофа наших портьер» (с. 11).
Революция – потоп, который живописал Маяковский в принудительно насаждавшейся во всех театрах «Мистерии-буфф», – схлынула, но в середине 1920-х выяснялось, что уцелел не тот великий русский театр, который создавали Станиславский, Немирович, Сулержицкий, на рубеже веков, а театр предыдущей эпохи, традиционный театр старой Москвы – «добротное все для всех». Это тот театр, в котором разрешено было курить: отсюда фраза о запахе дореформенных сигар. Запрет на курение в театре был одним из элементов театральной реформы Станиславского – Немировича-Данченко, вместе с требованием снимать пальто («Театр начинается с вешалки») и запретом входить в зал и выходить из него во время спектакля.
Вечность театра и его опасности. Но есть и внутренние, заданные извечно законы театральной экзистенции: театр всегда одинаков, он нужен и поэтому вечен:
«Видали вы этот паноптикум, это лихое сборище извечно падших героев? Этих птичьих королей, эту несменяемую династию орлов и кур? <…> Это мы. Мир, круглый и душный, как воздух внутри летающего шара, мир, взлетающий над всеми потопами, и который не будет забыт ни одним Ноем, ибо мы хлеб для людей» (с. 7).
Автор идет нетореными путями, угадывая неоткрытые пока истины о театральном инстинкте и о терапевтической природе игры: зачем приходят люди в театр?
«Вот эта маленькая хочет быть ангелом! Кто сделает ее ангелом, наконец, кто зашьет ей небесные ризы серебром сбывшихся надежд? <…> Другая хочет быть голой в уличной витрине – и сцена должна ей дать эту радость, хотя бы ценою крови. Все, что заковано в сердце и теле запретом, законом, все натуральное и недолжное, все чрезмерное хочет рождаться на сцене чудовищно, великолепно, хочет ценою всего в мире осуществиться, выкричать душу, выхохатывать всеми струнами тела, до сотрясения печени, до вывиха челюстей, хочет убить, наконец! – убивать хочет каждый. – И потеть, плакать, молиться, показываться, мстить» (с. 24–25).
Людям необходима возможность отождествиться с актерами и прожить несколько часов чужой жизнью, испытать необычайные эмоции. Но кто такие актеры, которые дают им эту возможность? Выясняется, что «птичье королевство» опасно для жизни: оно полно предателей, сплетников, недоброжелателей, шпионов:
«Вот наши театральные коридоры. Человек с испуганными белыми глазами извивается по коридорам, как ласковый червь. Он греет руки у отдушины, откуда мчится теплый ветер нагретых труб, греет, чтобы хватать людей за руки теплыми руками. Он ловит всех проходящих и смотрит им в глаза. В глазах его страх и жажда любви. Он сплетник, талантлив, ему дают мало ролей. Ибо успех его опасен: этот червь, получивши успех, перестает извиваться. Утконосая его голова становится недвижной главой василиска. Он может стать первым и тогда пожрет всех в отместку за страх и жажду, которые жгут его сердце.<…> Как везде есть роковая женщина, называемая Дюма-фис. Она гибка. <…> Есть рыжий сатана, прищуренный, веселый, с зеленым шарфом на шее. Умеет, братски обняв, короткой, кроткой речью рвануть за сердце так, чтобы до крови, больней чего нельзя. И после весел. После – дружба» (с. 13).
В театре есть и доносчик. Это человек, постоянно читающий газету в коридорах, в самых разных и неожиданных местах, и при этом слушающий обрывки разговоров щекой – его так и зовут «Щека».
«Настал день чтения новой пьесы.
На этих чтениях актеры супили брови, актрисы дрожали ресницами и все смотрели на директора, который „знал“. К третьему акту обреченной пьесы он опускал правую бровь, и навстречу ей ползла кривая улыбка <…> Кое-кто выходил, недослушав, а автор с холодным от страха животом, заикаясь, сосал свой чай, как губку с уксусом распинаемый» (с. 50).
Кто может сказать, зачем бы тут Бромлей опять упоминать «губку с уксусом» и «распинаемого»?
Бромлей подчеркивает уникальность того, кого героиня называет «мой автор», в атмосфере, царившей в театре конца 1920-х: «Мой автор <…> приносил бесстрашие слепца в наш раскаленный страстными опасениями, продажный воздух. Он не видел лжи своими огромными чужими глазами» (там же).
И тогда актерам начинает нравиться пьеса: «Талантливая сущность прокаженных актерских душ почувствовала величие; прекрасное желание восхищаться пробудилось в бедных сердцах» (там же). Этот конфликт страха и неистребимого стремления к правде даже в изуродованных душах актеров Бромлей суммирует так: «Позорные битвы! Наши позорные битвы во имя прекрасного!» (там же).
На параллелизм творчества Булгакова и Бромлей можно взглянуть и шире: у Бромлей налицо повесть о послереволюционном примирении и прощении России высшими силами – это «Из записок последнего бога» (ср. «Белая гвардия»); есть и своя биологическая фантастика о революционной современности – это «Потомок Гаргантюа» (ср. «Собачье сердце»); есть даже сочинение о художнике и святоше – это «Приключения благочестивой девицы Наннетты Румпельфельд»; есть у нее и мистическо-фарсовая мениппея, роман о Сатане – это «Мария в аду», где Сатана вместе с Богом вынужден поддержать основу бытия – различие добра и зла. При полном отсутствии внешнего сходства с романом о Сатане Булгакова в этой повести Бромлей поражает глубинное сходство как концепции – неотменимость основного морального закона доказывается силами зла, – так и жанра, переплетающего теологию с эксцентрикой.
Театр небожителей. Прецедент «Птичьего королевства» Бромлей следует учитывать для булгаковского «Театрального романа»: так, например, культ отчетливо опознаваемого МХТ, который здесь, на фоне общего морального распада, выглядит театром полубогов:
«Есть Новый театр на Театральной; там живут прекрасные люди, и туда никого не принимают. Чистый театр, величавый, там гнездятся орлы; там люди друг другу священны. Это огненный дом. Там нет ни лакеев, ни предателей, ни продажных, ни разовых женщин, ни красных занавесок в закулисных коридорах, похожих на коридоры домов свиданий, ни проезжих молодцов из актерской сволочи, растерявших талант и пристойность в притонах, похожих на театр импровизаций, в театрах, похожих на притон <…> они там торжественно дышат воздухом нашего времени и называют его горным. <…> Мы ходим плакать на их спектакли» (с. 26).
Однако, как и Булгакову в «Театральном романе», никакой пиетет не мешает Бромлей тут же переключиться в саркастический регистр:
«…Они носят головы на своих плечах с величайшей осторожностью. Они работают неслыханное количество часов в сутки, и единственное, что их переутомляет, – это их вежливость. Ибо они вежливы даже в трамвае, даже на премьерах чужих театров. Они отглажены до последней складки, их носовые платки ослепительны. Постоянное усилие никого не презирать и со всеми здороваться влияет несколько на их цвет лица. Но они никогда не умирают несвоевременно. Один из них, говорят, даже играл ответственную роль после своей смерти и умер официально только под занавес третьего спектакля, когда успех был обеспечен и подготовлен дублер» (с. 27).
Пассаж о мемориальном кабинете легендарного основателя у Бромлей в «Птичьем королевстве» сопоставим с музейной серией фотографий Аристарха Платоновича в «Театральном романе»:
«Есть и у нас святилище и древность. Там желтые в крапинках обои, голые лампочки висят на шнурах перед двумя неряшливыми окнами; на ламбрекенах пожелтевшие облака гардин старого образца, кроваво-желтый крашеный пол облуплен под столом древнего ореха. Сыплется лавр древних венков: кабинет первого директора, беспримерной славы благородного отца, умершего в году 1873-м» (с. 11).
Характеристики, восхищенно-ироничные и гиперболически-экспрессивные – например, в следующем фрагменте – также могут быть плодотворны в плане сопоставлений с булгаковским материалом:
«Был торжественный случай в театре. Раут, празднование. <…>
Качая плечами, с ледяными неглядящими лицами прошла шеренга роковых женщин; парчовые кресла скользнули им навстречу, и они опустились в кресла с египетским движением спин, держа прямую позу разбуженной змеи. <…>
Актеры все, как один, озирались с конским аллюром в праздничной надменности. <…> Сам Станиславский пронес над черным половодьем толпы свою голову укротителя зверинца, подобную белой хоругви. <…>» (с. 33).
Театр-варьете или мхатовский капустник? В описании эстрадных номеров на этом театральном празднике сгущаются мотивы, возможно, прототипические для булгаковских театральных описаний:
«Началась программа приветствий. Открылись большие стеклянные двери, и двинулось шествие – и все улыбнулись ему согласной улыбкой. Великолепное четвероногое, гривастый верблюд, составленный из двух человек, шел впереди, обутый в английские ботинки; за ним – поздравительный кортеж, и все это от Нового театра, того театра, который так многим мешает мирно спать; мне – первой.
Верблюд стал, содрогая<сь> выгнутой шеей, его вела пернатая кудлатка. Верблюд качнулся, ударило „дзын“, и пищалка пропела нечто убедительно обиженное, как верблюжья душа. Хохот. Кудлатка металлически вскрикнула. Верблюд верблюжьим гнусавым басом, танцуя, запел: он пел следующее:
Среди долины Умбри – я
Вдали от здешних стен,
Цветут – цветочек Скумбри – я,
И птичка стре – пантен!
Верблюд качался и вихлял боками, востроносая кудлатая душка летала, вскрикивая, и раскидывала ручки.
Маленький, ярко белокурый, с озорной и кроткой мордочкой гениальный Богомолов, побледнев от серьезности, сказал несколько слов о родословной верблюда. Хохотали и плакали, хохоча. Он уронил слезу, извинился и, кланяясь, вынул ослепительный платок. Аплодисменты» (с. 33–34).
Приходится также предположить интертекстуальную связь между следующей сценой и явлением профессора белой и черной магии в «Мастере и Маргарите» – при том что «маг» у Бромлей изображен пародийный:
«Потом из верблюжьего живота вынули эстраду, и на ней, торча фалдами фрака и выгнув правую ногу, подобно коню, роющему землю, воздвигнулся „Джон Личардсон настоящий“. Он вздыбил черный ус под наморщенным носом и потер руки. Глаз, яркий и круглый, вращался угрожающе и вдохновенно.
„Проездом чересь – то есть скрозь этот город, – сказал Личардсон и резко смолк, пережидая смех. – Я, профессор черной и белой магии, Джон Личардсон настоящий, даю гастроль! Почтеннейшая публика и интеллигенты!“
С вопросительным восторгом черным кустом торчали брови, торчали детские верящие глаза.
Не от райской ли чистоты сердца родится этот блаженный вздор?» (с. 34–35).
Здесь точно изображен эстрадный номер «Гастроль Джона Личардсона настоящего», созданный актером МХАТа Владимиром Поповым. Он же – В. А. Попов-Транио (впоследствии ставший известным киноактером) – вспоминал:
«Этот номер кабаретного характера, заимствованный из рассказа Тэффи „Проворство рук“, был эскизно намечен в 2-минутном представлении на новогоднем вечере в 1915 г. До сего времени я не потерял интереса к этому образу. С каждым годом номер этот расширялся, образ Личардсона определялся, и я сроднился с ним настолько, что для меня он уже не является вымыслом. Я верю в существование Джона и ясно вижу его в разных похождениях. Люблю его и безжалостно смеюсь над ним без конца. Смеюсь над этим трогательным неудачником, с его наивным жульничеством и чудесом и чудесами…»[138 - Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928. С. 103–104.]
Номер этот не годился для широкой публики, которая не понимала пародий и негодовала, норовя мага прогнать. Бытовал он на праздниках «для своих» и был прекрасно известен среди театральной и околотеатральной публики. И драматизированность прозы Бромлей, и ее реалистический мимесис, усиленный авангардистскими приемами выразительности, и даже тематические и мотивные блоки находятся на той же линии, что и работа Булгакова.
Приметы нового времени. Повесть Бромлей о театре писалась на десять лет раньше, чем неоконченный роман Булгакова, в атмосфере несравненно большей открытости: она несоизмеримо откровеннее, и прямому авторскому слову отведена в ней почетная роль. Впрочем, наиболее острые темы Бромлей решает метонимически, через значимые детали. Вот как рассказывается о сдвигах в системе актерских амплуа в связи с советизацией театра к середине 1920-х:
«Актерские амплуа в эти годы перекосились. <…> Например: искали мускулистого героя с маленькой моложавой головой. Не было таких. В результате заказали мускулатуру, и ее носил актер на орущие роли. В сезоне 1924 г. он сыграл 253 спектакля» (с. 8).
Надо понимать, что главным протагонистом новых пьес стал мощный микроцефал – как полагалось выглядеть положительному герою из народа, представителю массы, голос которого – глас народа (отсюда «на орущие роли»), который вначале может заблуждаться, но в конце концов попадает под чуткое руководство партийных товарищей. Поскольку нужного физического сложения среди актеров не наблюдалось, приходилось прибегнуть к накладной мускулатуре.
«Неврастеники перешли на амплуа „ответственных“, умирающих на посту. На этих спрос был меньше. Комики не вылезали из крахмального белья. Спрос на резонеров увеличился вдевятеро, они стали неизбежны в народных сценах. Вообще резонеры играли все. Любовникам не осталось другого применения, как бессловесно носить фрак и воздерживаться от всего прочего. Да и в мое время уже от всей этой пламенной породы оставалась всего лишь пара огрызков. С 1917 года если они и появлялись на сцене, то лишь по причине тяжелого ранения и обычно не далее третьего акта умирали под покровом знамен или проклятий» (с. 8–9).
Понятно, что наиболее распространенным типом героя в дореволюционном театре был герой мыслящий и сомневающийся, то есть неврастеник. Из повести Бромлей мы узнаем, что это амплуа сохранилось только для «ответственных, умирающих на посту». То есть это крупные партийцы и военные, принимающие трудные решения (только так можно было оправдать такое проклятое наследие прошлого, как неврастения, то есть внутреннее несогласие с самим собой), а потому гибнущие от инфарктов на общем фоне переутомления.
Почему комики в новых пьесах не вылезают из крахмального белья? Видимо, они играют богатых, а богатые должны выглядеть идиотами.
Почему спрос на резонеров увеличился вдевятеро? Потому что уровень пьес сознательно понижался, шло запланированное оглупление публики, все объяснялось, причем на самом примитивном уровне.
Почему любовников почти не осталось? Потому что носители мужского начала – самостоятельные, независимые, добивающиеся своего герои – казались несовременными теперь, когда личная жизнь стала не важна по сравнению с политической злобой дня. Поэтому такие персонажи должны были молчать, в сюжете им делать нечего, кроме как гибнуть.
Реставрация. В «Птичьем королевстве» отразились стремительные духовные перемены, суммируемые как моральная деградация театра. Революционный театр Вахтангова ушел в воспоминания. Налицо реставрация допотопной рутины, утрата духовного активизма, характерного для Серебряного века и первых пореволюционных лет. Автор описывает некий обобщенно-московский театр, где все само неудержимо сворачивает на старый лад – к театральным нравам и обычаям, принятым не только до революции, но и до реформы Станиславского:
«Это Ноев ковчег, торжественно всплывший после потопа. Добротное все для всех. Но старая Москва сидит в его углах, и запах дореформенных сигар никогда не покинет красного штофа наших портьер» (с. 11).
Революция – потоп, который живописал Маяковский в принудительно насаждавшейся во всех театрах «Мистерии-буфф», – схлынула, но в середине 1920-х выяснялось, что уцелел не тот великий русский театр, который создавали Станиславский, Немирович, Сулержицкий, на рубеже веков, а театр предыдущей эпохи, традиционный театр старой Москвы – «добротное все для всех». Это тот театр, в котором разрешено было курить: отсюда фраза о запахе дореформенных сигар. Запрет на курение в театре был одним из элементов театральной реформы Станиславского – Немировича-Данченко, вместе с требованием снимать пальто («Театр начинается с вешалки») и запретом входить в зал и выходить из него во время спектакля.
Вечность театра и его опасности. Но есть и внутренние, заданные извечно законы театральной экзистенции: театр всегда одинаков, он нужен и поэтому вечен:
«Видали вы этот паноптикум, это лихое сборище извечно падших героев? Этих птичьих королей, эту несменяемую династию орлов и кур? <…> Это мы. Мир, круглый и душный, как воздух внутри летающего шара, мир, взлетающий над всеми потопами, и который не будет забыт ни одним Ноем, ибо мы хлеб для людей» (с. 7).
Автор идет нетореными путями, угадывая неоткрытые пока истины о театральном инстинкте и о терапевтической природе игры: зачем приходят люди в театр?
«Вот эта маленькая хочет быть ангелом! Кто сделает ее ангелом, наконец, кто зашьет ей небесные ризы серебром сбывшихся надежд? <…> Другая хочет быть голой в уличной витрине – и сцена должна ей дать эту радость, хотя бы ценою крови. Все, что заковано в сердце и теле запретом, законом, все натуральное и недолжное, все чрезмерное хочет рождаться на сцене чудовищно, великолепно, хочет ценою всего в мире осуществиться, выкричать душу, выхохатывать всеми струнами тела, до сотрясения печени, до вывиха челюстей, хочет убить, наконец! – убивать хочет каждый. – И потеть, плакать, молиться, показываться, мстить» (с. 24–25).
Людям необходима возможность отождествиться с актерами и прожить несколько часов чужой жизнью, испытать необычайные эмоции. Но кто такие актеры, которые дают им эту возможность? Выясняется, что «птичье королевство» опасно для жизни: оно полно предателей, сплетников, недоброжелателей, шпионов:
«Вот наши театральные коридоры. Человек с испуганными белыми глазами извивается по коридорам, как ласковый червь. Он греет руки у отдушины, откуда мчится теплый ветер нагретых труб, греет, чтобы хватать людей за руки теплыми руками. Он ловит всех проходящих и смотрит им в глаза. В глазах его страх и жажда любви. Он сплетник, талантлив, ему дают мало ролей. Ибо успех его опасен: этот червь, получивши успех, перестает извиваться. Утконосая его голова становится недвижной главой василиска. Он может стать первым и тогда пожрет всех в отместку за страх и жажду, которые жгут его сердце.<…> Как везде есть роковая женщина, называемая Дюма-фис. Она гибка. <…> Есть рыжий сатана, прищуренный, веселый, с зеленым шарфом на шее. Умеет, братски обняв, короткой, кроткой речью рвануть за сердце так, чтобы до крови, больней чего нельзя. И после весел. После – дружба» (с. 13).
В театре есть и доносчик. Это человек, постоянно читающий газету в коридорах, в самых разных и неожиданных местах, и при этом слушающий обрывки разговоров щекой – его так и зовут «Щека».