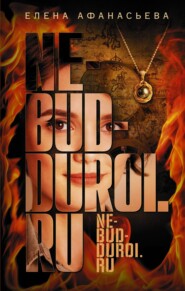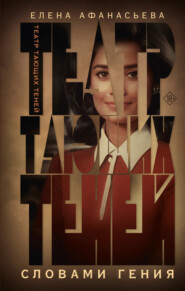По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Театр тающих теней. Конец эпохи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пять долгих, бесконечно долгих часов Иринушка орет, сосет, обиженно выплевывает пустую грудь. Нянька то и дело гоняет Марфушу за новой порцией кипятка, и Анна, опустив ноги в таз с водой такой горячей, что едва ноги терпят, давит и давит то одну, то другую грудь, мысленно и вслух молит Господа простить, что просила «неположенного» сына, а не эту девочку.
Молится о прощении и давит грудь. Молится и давит.
И тормошит девочку, которая уже почти сдается от бессилия.
Молится. И давит. И тормошит. Молится и давит. И давит. И давит.
Пока, вернувшийся из Ялты ни с чем – не нашлось в обезумевшем от революций городе кормилицы – Дмитрий Дмитриевич не застает в спальне жены почти идиллию – уснувшая в кресле Анна с уснувшей у нее на руках сытой Иринушкой, и во сне не выпускавшей изо рта материнскую грудь. Всю налитую. Но почти фиолетовую от проступивших синяков.
Пришло молоко, пришло!
Кормление ребенка неожиданно оказывается невиданным доселе наслаждением.
С детства наученная, что это дело кормилиц, мучавшаяся после двух первых родов от жгучей боли и ощущения, что ее разорвет изнутри от перегорающего молока, теперь Анна словно распускает тугую шнуровку корсета. И делает вдох. Наполняясь неведомой прежде силой. И переливая эту силу в крошечную дочку.
Разглядывает Ирочку, как не разглядывала первых двух девочек. Тех родила, отдала нянькам и кормилицам, и дальше их дело. А теперь… Теперь все ее собственное, родное.
Вот незаросший родничок пульсирует на голове, такой беззащитный.
Вот малышка смешно ухватилась за ее палец.
Вот приоткрыла один глаз и подглядывает за матерью – наелась, но хитрит…
Анна разглядывает девочку. И разглядывает собственную грудь.
Прежде ей в голову не приходило смотреть на собственную грудь. Даже наедине с собой. А уж с кем-то, даже с мужем, тем более. Теперь же она разглядывает налитую жизнью грудь, которая способна такие неведомые доселе ощущения дарить. Не только ребенку, но и ей.
Кормление дочки оказывается наслаждением более острым, чем супружеские ласки. Каждый раз Анна ждет положенного часа с не меньшим нетерпением, чем голодный ребенок, а после даже начинает нарушать неведомо кем установленный график кормлений и давать девочке грудь, когда та просит.
И не понимает, почему ее прежде лишали такого законного счастья?!
Не случись бунт кормилицы в самое неподходящее время, когда новую найти не так просто, она этого изумительного чувства никогда бы не узнала.
Чего еще ее лишили в жизни?! А она об этом не знает просто потому, что с детства как воспитанная девочка усвоила, что «так положено». Положено и всё! И не задала вопроса – кем положено. И почему?
Погрузившись в неожиданно приятные материнские хлопоты, Анна удивляется, когда слышит из уст матери «по пяти рублей за фунт масла, по два – за десяток яиц, по четыре-пять – за курицу, утку, по шести – за фунт картофеля».
Не ослышалась ли? Мать, считающая рубли на провизию – это не укладывается в голове! При истоминском состоянии она и тысячи на картины и бриллианты никогда не считала, а теперь…
Мать возбужденно обсуждает с мужем погромы базаров и лавок, винный бунт в Феодосии.
– Семьдесят пять тысяч вёдер отменного вина вылить в море!
– Но как иначе остановить пьяные погромы? – разводит руками муж.
Анна не понимает, о чем это они. Странные слова «советы», «бунты», «погромы», долетевшие вслед за ними из дрожащего в лихорадке Питера, на фоне этого огромного и чистого крымского неба кажутся не чем иным, как кляксой на картине. Так вечно что-то рисующий пером посреди своих путающихся непонятных формул и строчек Савва то и дело сажает кляксы там, где можно было бы разглядеть хоть странноватый, но все ж таки пейзаж.
Осень в здесь, в крымском имении, совсем другая.
В Питере давно пронизывающий ветер, холодный дождь с бьющими по лицу первыми осколками снега. Здесь даже не осень, а предосенье, где цвет сафьяна смешан с последними запахами лета.
«В Тессели тишина на ветке ели висит, сорвать ее не просит. Мы даже оглянуться не успели, а из-за гор спустилась осень…», – писала она в свои пятнадцать.
Сквозь весь этот багрянец, который на деле вовсе и не цвет, а растение, глянешь вдаль – и замрешь.
Будто мир замер, выключился, остановился. И время, быстробегущее, вечно спешащее время, кто-то выключил.
Нет в вечности ни минут, ни секунд. И часов тоже нет.
«Готика крымских скал / Вместо короны на детство. / Непостижимо наследство / Солнца империал…»
Только ты и этот пылающий золотом империал солнца.
И складывающиеся в фату твоей мечты облака, пронизанные мелкими стежками вездесущих чаек.
И готика крымских скал, вычерчивающая в предвечернем небе стрелы, подобные контурам великих соборов.
…Дан тебе вечный город. / Твой ближних гор Рим. / Как подобающе горд он. / Но покоряем. Горим / Вместе желанием таинств. / На портике склона колюч / Репейника башенный ключ / в руку – дворец обитаем…
Строки как прелюдия жизни.
Всё эскиз. Всё набросок…
Строки…
Легкие, стремительные, словно принесенные на крыльях птиц. Возникающие из ниоткуда – из этого вечера, из этого ощущения разбега, из этого перечеркнутого полетом чаек неба.
Пунктир букв на бумаге сливается с пунктиром птиц в небе, а она, юная Анна, попав в ворожащий, колдующий, пугающий ритм, пишет и пишет, примостив на уступе скалы смятый лист, стачивая о твердую, проступающую сквозь бумагу скалу грифель карандаша.
И не успевает понять – хорошо или плохо всё, что она пишет.
И не успевает задаться вечно терзающим ее вопросом – зачем?
Зачем все эти муки и ранения истекающей стихами ее маленькой души, если уже есть Ахматова, есть Цветаева, есть Блок, Гумилёв есть?
А есть ли она, Анна, еще неизвестно. Зачем писать еще и ей?
Но в этом ливне строк задуматься об их ценности Анна не успевает. Разве что записать.
Карандаш обломан, в наспех вырванном из ученической тетради листке давно не осталось места, а строки все бегут, сыплются, льются на нее с неба сплошным потоком. И она, словно сумасшедшая стенографистка, силится не упустить ни слова из продиктованного ей свыше.
…Если нет сомнений среди дня / Полуночная стенографистка / Я пишу истории дождя…
Не упустить… уловить… сохранить… сохранить… сохранить?
Но можно ли сохранить поток света?
Можно ли приколотить к тетрадному листу ритм этого неба, этого моря, этой жизни?
Молится о прощении и давит грудь. Молится и давит.
И тормошит девочку, которая уже почти сдается от бессилия.
Молится. И давит. И тормошит. Молится и давит. И давит. И давит.
Пока, вернувшийся из Ялты ни с чем – не нашлось в обезумевшем от революций городе кормилицы – Дмитрий Дмитриевич не застает в спальне жены почти идиллию – уснувшая в кресле Анна с уснувшей у нее на руках сытой Иринушкой, и во сне не выпускавшей изо рта материнскую грудь. Всю налитую. Но почти фиолетовую от проступивших синяков.
Пришло молоко, пришло!
Кормление ребенка неожиданно оказывается невиданным доселе наслаждением.
С детства наученная, что это дело кормилиц, мучавшаяся после двух первых родов от жгучей боли и ощущения, что ее разорвет изнутри от перегорающего молока, теперь Анна словно распускает тугую шнуровку корсета. И делает вдох. Наполняясь неведомой прежде силой. И переливая эту силу в крошечную дочку.
Разглядывает Ирочку, как не разглядывала первых двух девочек. Тех родила, отдала нянькам и кормилицам, и дальше их дело. А теперь… Теперь все ее собственное, родное.
Вот незаросший родничок пульсирует на голове, такой беззащитный.
Вот малышка смешно ухватилась за ее палец.
Вот приоткрыла один глаз и подглядывает за матерью – наелась, но хитрит…
Анна разглядывает девочку. И разглядывает собственную грудь.
Прежде ей в голову не приходило смотреть на собственную грудь. Даже наедине с собой. А уж с кем-то, даже с мужем, тем более. Теперь же она разглядывает налитую жизнью грудь, которая способна такие неведомые доселе ощущения дарить. Не только ребенку, но и ей.
Кормление дочки оказывается наслаждением более острым, чем супружеские ласки. Каждый раз Анна ждет положенного часа с не меньшим нетерпением, чем голодный ребенок, а после даже начинает нарушать неведомо кем установленный график кормлений и давать девочке грудь, когда та просит.
И не понимает, почему ее прежде лишали такого законного счастья?!
Не случись бунт кормилицы в самое неподходящее время, когда новую найти не так просто, она этого изумительного чувства никогда бы не узнала.
Чего еще ее лишили в жизни?! А она об этом не знает просто потому, что с детства как воспитанная девочка усвоила, что «так положено». Положено и всё! И не задала вопроса – кем положено. И почему?
Погрузившись в неожиданно приятные материнские хлопоты, Анна удивляется, когда слышит из уст матери «по пяти рублей за фунт масла, по два – за десяток яиц, по четыре-пять – за курицу, утку, по шести – за фунт картофеля».
Не ослышалась ли? Мать, считающая рубли на провизию – это не укладывается в голове! При истоминском состоянии она и тысячи на картины и бриллианты никогда не считала, а теперь…
Мать возбужденно обсуждает с мужем погромы базаров и лавок, винный бунт в Феодосии.
– Семьдесят пять тысяч вёдер отменного вина вылить в море!
– Но как иначе остановить пьяные погромы? – разводит руками муж.
Анна не понимает, о чем это они. Странные слова «советы», «бунты», «погромы», долетевшие вслед за ними из дрожащего в лихорадке Питера, на фоне этого огромного и чистого крымского неба кажутся не чем иным, как кляксой на картине. Так вечно что-то рисующий пером посреди своих путающихся непонятных формул и строчек Савва то и дело сажает кляксы там, где можно было бы разглядеть хоть странноватый, но все ж таки пейзаж.
Осень в здесь, в крымском имении, совсем другая.
В Питере давно пронизывающий ветер, холодный дождь с бьющими по лицу первыми осколками снега. Здесь даже не осень, а предосенье, где цвет сафьяна смешан с последними запахами лета.
«В Тессели тишина на ветке ели висит, сорвать ее не просит. Мы даже оглянуться не успели, а из-за гор спустилась осень…», – писала она в свои пятнадцать.
Сквозь весь этот багрянец, который на деле вовсе и не цвет, а растение, глянешь вдаль – и замрешь.
Будто мир замер, выключился, остановился. И время, быстробегущее, вечно спешащее время, кто-то выключил.
Нет в вечности ни минут, ни секунд. И часов тоже нет.
«Готика крымских скал / Вместо короны на детство. / Непостижимо наследство / Солнца империал…»
Только ты и этот пылающий золотом империал солнца.
И складывающиеся в фату твоей мечты облака, пронизанные мелкими стежками вездесущих чаек.
И готика крымских скал, вычерчивающая в предвечернем небе стрелы, подобные контурам великих соборов.
…Дан тебе вечный город. / Твой ближних гор Рим. / Как подобающе горд он. / Но покоряем. Горим / Вместе желанием таинств. / На портике склона колюч / Репейника башенный ключ / в руку – дворец обитаем…
Строки как прелюдия жизни.
Всё эскиз. Всё набросок…
Строки…
Легкие, стремительные, словно принесенные на крыльях птиц. Возникающие из ниоткуда – из этого вечера, из этого ощущения разбега, из этого перечеркнутого полетом чаек неба.
Пунктир букв на бумаге сливается с пунктиром птиц в небе, а она, юная Анна, попав в ворожащий, колдующий, пугающий ритм, пишет и пишет, примостив на уступе скалы смятый лист, стачивая о твердую, проступающую сквозь бумагу скалу грифель карандаша.
И не успевает понять – хорошо или плохо всё, что она пишет.
И не успевает задаться вечно терзающим ее вопросом – зачем?
Зачем все эти муки и ранения истекающей стихами ее маленькой души, если уже есть Ахматова, есть Цветаева, есть Блок, Гумилёв есть?
А есть ли она, Анна, еще неизвестно. Зачем писать еще и ей?
Но в этом ливне строк задуматься об их ценности Анна не успевает. Разве что записать.
Карандаш обломан, в наспех вырванном из ученической тетради листке давно не осталось места, а строки все бегут, сыплются, льются на нее с неба сплошным потоком. И она, словно сумасшедшая стенографистка, силится не упустить ни слова из продиктованного ей свыше.
…Если нет сомнений среди дня / Полуночная стенографистка / Я пишу истории дождя…
Не упустить… уловить… сохранить… сохранить… сохранить?
Но можно ли сохранить поток света?
Можно ли приколотить к тетрадному листу ритм этого неба, этого моря, этой жизни?