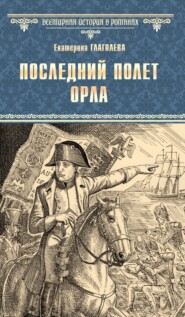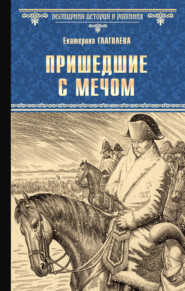По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Нашествие 1812
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
– Амуницию снять!
Назар снял с себя патронную сумку и портупею со штыком в ножнах; подержав недолго в руке, аккуратно сложил на землю у ног. Унтер-офицер Авдеев замахнулся тесаком и дважды ударил им Назара плашмя по спине. Всё нутро сотряслось, ажно дух занялся. Дождавшись команды, парень с трудом наклонился, поднял портупею и снова надел.
Авдеев невзлюбил Назара с самого начала и всячески над ним измывался. Заставлял стоять на часах лишнее время, придирался к каждой мелочи. Зуботычины нужно было принимать, не отворачиваясь… Назар терпел, молчал, но по ночам ему не раз снилось, как ненавистное рыло брызжет кровью под его кулаком…
– В чём дело?
Унтер вытянулся во фрунт перед юным прапорщиком, хмурившим тонкие брови.
– Ваше благородие, рядовой Василенко дважды не смог произвести выстрел из ружья, за что был подвергнут наказанию!
Прапорщик подошел к Назару и велел дать ему ружье. Пока он разглядывал замок, Назар украдкой посматривал на самого офицера. Молодой совсем, губы пухлые, ресницы длинные и пушистые, как у девушки. Должно быть, они с Назаром одногодки. Видно, что паныч: руки маленькие, узкие…
Ружье английской работы, по виду – исправное и содержится в порядке. Пестель напряженно размышлял, что же могло произойти. Подмоченные патроны? Он спросил, когда были получены заряды; оказалось – нынче же, перед учением. Хм. Озаренный внезапной догадкой, он велел подойти солдату, которому стрельба удалась, и обменяться патронами с наказанным. А теперь пусть они оба выстрелят.
– Заря-жай! – командовал унтер. – Товсь! Цельсь!
Назар волновался, ему не хотелось оплошать снова, перед офицером. Тогда и двадцать пять горячих всыпать могут. «Не спеши», – услышал он тихий шепот. Резко зажмурив и раскрыв глаза, прицелился в горшок, надетый на воткнутую в землю палку, приник щекой к прикладу. «Пли!» Порох вспыхнул с шипением, пуля вылетела из ствола, горшок разлетелся вдребезги. А вот ружье товарища дало осечку…
– Я доложу капитану, что не все патроны хороши, – сказал прапорщик Авдееву. – Продолжать учение. Без вины не наказывать!
– Слушаюсь, ваше благородие!
Капитан Петр Арцыбашев командовал 2-й гренадерской ротой с начала нынешнего года, будучи переведен в Литовский полк из Преображенского, так что в полку он был новым человеком, как и прапорщик Пестель. Павел легко и быстро сошелся с ним, как только добрался до Свенцян и отрапортовал о своем прибытии. Арцыбашев был молод (ему недавно исполнилось двадцать пять), небогат (его отец владел небольшим имением в Вологодской губернии), серьезно относился к службе и любил читать; свободные вечера они с Пестелем проводили за разговорами, а не за карточным столом и штофом, как остальные офицеры. В местечке Свиры, отстоявшем на шестьдесят пять верст от Вильны, трудно было сыскать себе иное занятие, кроме игры и выпивки, а Пестель не имел для них ни средств, ни желания. Он аккуратно писал подробные письма домой, однако на все его рассуждения о недостаточности мер, принимаемых перед лицом грозящей опасности, о долге офицера и о патриотизме отец отвечал лишь сдержанным одобрением, советами избегать ненужных расходов и не роптать на Всевышнего, с мужеством и покорностью перенося все невзгоды, сообщениями о погоде (в Петербург лето так и не пришло, в начале мая шел снег), о маменькиных хворях, просьбами повлиять на младшего брата Воло, который нисколько не прилежен в учебе и водит знакомство с Windbeutel[8 - Вертопрах (нем.).], заключая свои письма надеждами на то, что войны не будет: «Да исполнится воля Божья, да устроит Он всё наилучшим образом на благо нашей родины и нашего превосходного Государя, который хочет ей блага». Отец писал и полковнику – Ивану Федоровичу Удому, прося ссужать при необходимости его сына в долг и обещая покрыть все эти расходы. Павел был очень смущен, когда полковник вызвал его к себе и спросил, не надобно ли ему денег на покупку новой верховой лошади взамен пострадавшей. Если бы Удом узнал об этой неприятности из собственного рапорта Пестеля, то Павел, конечно же, принял бы помощь с большою радостью, но сведения были почерпнуты из папенькиного письма, поэтому он поблагодарил и отказался. Ему было совестно обременять полковника, недавно лишившегося любимой жены, которая скончалась от болезни, оставив ему трех дочерей и сына-младенца. Зато капитан Арцыбашев оказался тем самым подарком судьбы, о котором твердил отец: с ним можно было и поговорить по душам о чём угодно, и попросить взаймы, не сгорая со стыда.
Петр Сергеевич нахмурился, выслушав рассказ Пестеля о патронах, но сейчас заниматься этим было некогда: ожидали прибытия цесаревича Константина, который собирался смотреть полк. Солдаты маршировали повзводно, поротно и побатальонно, отрабатывая строевые эволюции: захождение плечом, марширование рядами и полуоборотом во фронт.
…Первый батальон привел великого князя в восторг: славно идут! Точно плывут, а не маршируют, ногу держат, верность и точность беспримерны, осанка, тишина необычайная! Прямо движущаяся стена! Истинные чада российской лейб-гвардии! Но второй батальон допустил ошибку при перестроении, и хотя она была тут же исправлена окриком, Константин Павлович сошел с коня и сам принялся обучать солдат: показывал, как ловчее подогнать ремни, чтобы грудь была колесом, как держать голову, где у ружья быть руке и пальцу, как делать поворот на ходу…
– Атакующий фронт должен идти на неприятеля сколь можно осанисто и стараться быть совершенно сомкнутым в рядах, ибо от сего наиболее зависит успех в атаке! – назидательно сказал он Удому.
Шишков не верил своим глазам. То ли время сейчас, чтобы заниматься такими мелочами! Не к парадам солдатушек надо готовить, а…
– Ты, верно, смотришь на это, как на дурачество? – строго спросил его великий князь.
Смутившись из-за того, что мысль его с такою легкостью была угадана, Шишков не нашелся что сказать и только низко поклонился.
Он многого не мог взять в толк, однако остерегался о том высказываться. Русские в Вильне встревожены не на шутку: не сегодня-завтра Бонапарт с несметным полчищем будет здесь, а наши что же? Никто как будто и не готовится давать ему отпор, офицеры веселятся и буянят, полякам раздают ордена и камергерские ключи, хотя они только и ждут Наполеона, чтобы переметнуться на его сторону! Станут оборонять Вильну или нет? В город свозят запасы, как будто для длительного сопротивления, а укреплений не возводят – как это понимать? Шишкова это тоже беспокоило: похоже, Вильну изначально предполагалось оставить, чтобы увлечь за собой неприятеля в глубь России. Но зачем было стягивать сюда столько войск и припасов? Неприятель бы и без нашего отступления пошел к нам, а бегство пред ним лишь даст пищу слухам, сеющим повсюду страх и малодушие. Кто командует нашими войсками? Государь? Но его величество называет главным их распорядителем Барклая-де-Толли, а тот от сего звания отказывается. Да и вправду сказать: Михаил Богданович честный человек и хороший полководец, но души солдатской не постиг, любви не снискал. Сможет ли человек с нерусской фамилией повести за собой русского солдата в огонь и в воду?..
* * *
– Я уполномочен его величеством говорить от его имени и сообщить вам о его твердом намерении восстановить Польшу и провозгласить вас польским королем, если вы отложитесь от императора Наполеона и увлечете польское войско за собой.
Серые глаза со светлыми ресницами смотрят прямо, почти не моргая. У полковника Толя круглое честное лицо немецкого бюргера, для которого уговор дороже денег; партикулярное платье только усиливает это впечатление. Князь Юзеф Понятовский – тоже человек слова; полковник поймет его и передаст его ответ царю надлежащим образом.
– Я благодарю императора Александра за его намерение, но честь не позволяет мне принять его предложение. Передайте его величеству, что в знак признательности и уважения к нему я оставлю его предложение без огласки.
По привычке щелкнув каблуками, Толь поклонился, повернулся по-военному и вышел.
Князь Юзеф сел, облокотился о стол и обхватил голову руками, запустив пальцы в черные волосы. Возможно ли сохранить свою честь, ни в чём не покривив душой? Поляки верят в Бонапарта, потому что Понятовский поддерживает в них эту веру, несмотря на сомнения и разочарования. Вера даст им силу, которая нужна для отвоевания свободы. И еще – сознание своей правоты. Сдержит ли Бонапарт свои обещания?.. Бог ему судья. Князь Юзеф поклялся в верности императору Наполеону и не изменит своему слову; хотя бы перед собственной совестью он останется чист. Великая армия стоит на Висле. Вчера князь выдал рекомендательные письма французскому капитану д’Опулю, который отправился в Тересполь в польском мундире под видом штаб-офицера князя Понятовского, чтобы разведать окрестности Бреста, проехать берегом Буга, собрать сведения о силах русских в направлении Слонима, а также в Брянске, Бельске и Белостоке, подобраться как можно ближе к Гродне, разузнать пути через леса и болота и передать все эти сведения Наполеону, уже выехавшему в Познань. Коней на переправе не меняют.
* * *
Каждый раз после ухода гостей княгиня Мещерская принимала бестужевские капли: от разговоров голова шла кругом, аж темнело в глазах. Сестра, Надежда Николаевна Шереметева, вываливала разом целый ворох слухов, собранных в гостиных, у Архаровых и Апраксиных, а подруга ее Анна Николаевна Неклюдова толковала их самым мрачным образом. Говорили, что открыли общество, состоявшее из молодых людей очень хороших фамилий, которые занимались рисованием подробных карт Москвы для отправки Бонапарту. Мадам Обер-Шальме, к которой вся Москва ездила за модными шляпами, арестовали и сослали – якобы за фальшивую монету. В сельце Воронцове, в усадьбе князя Репнина, которым теперь владеет княгиня Волконская, поселился какой-то немец с помощником-курляндцем. Их привез туда лично гражданский губернатор Обресков; вроде бы им поручено устроить там фабрику для изготовления новоизобретенных зарядов для пушек. А вот уж самое верное известие: графа Гудовича, московского главнокомандующего, государь отправил в отставку по болезни, прислав ему похвальный рескрипт и свой портрет с бриллиантами. Но только настоящая причина отставки – не здоровье графа, а доктор, который его пользовал, по фамилии Сальваторе, то ли француз, то ли итальянец, передававший Наполеону всякие тайные сведения и за то получавший от него шесть тысяч франков в год.
– Амуницию снять!
Назар снял с себя патронную сумку и портупею со штыком в ножнах; подержав недолго в руке, аккуратно сложил на землю у ног. Унтер-офицер Авдеев замахнулся тесаком и дважды ударил им Назара плашмя по спине. Всё нутро сотряслось, ажно дух занялся. Дождавшись команды, парень с трудом наклонился, поднял портупею и снова надел.
Авдеев невзлюбил Назара с самого начала и всячески над ним измывался. Заставлял стоять на часах лишнее время, придирался к каждой мелочи. Зуботычины нужно было принимать, не отворачиваясь… Назар терпел, молчал, но по ночам ему не раз снилось, как ненавистное рыло брызжет кровью под его кулаком…
– В чём дело?
Унтер вытянулся во фрунт перед юным прапорщиком, хмурившим тонкие брови.
– Ваше благородие, рядовой Василенко дважды не смог произвести выстрел из ружья, за что был подвергнут наказанию!
Прапорщик подошел к Назару и велел дать ему ружье. Пока он разглядывал замок, Назар украдкой посматривал на самого офицера. Молодой совсем, губы пухлые, ресницы длинные и пушистые, как у девушки. Должно быть, они с Назаром одногодки. Видно, что паныч: руки маленькие, узкие…
Ружье английской работы, по виду – исправное и содержится в порядке. Пестель напряженно размышлял, что же могло произойти. Подмоченные патроны? Он спросил, когда были получены заряды; оказалось – нынче же, перед учением. Хм. Озаренный внезапной догадкой, он велел подойти солдату, которому стрельба удалась, и обменяться патронами с наказанным. А теперь пусть они оба выстрелят.
– Заря-жай! – командовал унтер. – Товсь! Цельсь!
Назар волновался, ему не хотелось оплошать снова, перед офицером. Тогда и двадцать пять горячих всыпать могут. «Не спеши», – услышал он тихий шепот. Резко зажмурив и раскрыв глаза, прицелился в горшок, надетый на воткнутую в землю палку, приник щекой к прикладу. «Пли!» Порох вспыхнул с шипением, пуля вылетела из ствола, горшок разлетелся вдребезги. А вот ружье товарища дало осечку…
– Я доложу капитану, что не все патроны хороши, – сказал прапорщик Авдееву. – Продолжать учение. Без вины не наказывать!
– Слушаюсь, ваше благородие!
Капитан Петр Арцыбашев командовал 2-й гренадерской ротой с начала нынешнего года, будучи переведен в Литовский полк из Преображенского, так что в полку он был новым человеком, как и прапорщик Пестель. Павел легко и быстро сошелся с ним, как только добрался до Свенцян и отрапортовал о своем прибытии. Арцыбашев был молод (ему недавно исполнилось двадцать пять), небогат (его отец владел небольшим имением в Вологодской губернии), серьезно относился к службе и любил читать; свободные вечера они с Пестелем проводили за разговорами, а не за карточным столом и штофом, как остальные офицеры. В местечке Свиры, отстоявшем на шестьдесят пять верст от Вильны, трудно было сыскать себе иное занятие, кроме игры и выпивки, а Пестель не имел для них ни средств, ни желания. Он аккуратно писал подробные письма домой, однако на все его рассуждения о недостаточности мер, принимаемых перед лицом грозящей опасности, о долге офицера и о патриотизме отец отвечал лишь сдержанным одобрением, советами избегать ненужных расходов и не роптать на Всевышнего, с мужеством и покорностью перенося все невзгоды, сообщениями о погоде (в Петербург лето так и не пришло, в начале мая шел снег), о маменькиных хворях, просьбами повлиять на младшего брата Воло, который нисколько не прилежен в учебе и водит знакомство с Windbeutel[8 - Вертопрах (нем.).], заключая свои письма надеждами на то, что войны не будет: «Да исполнится воля Божья, да устроит Он всё наилучшим образом на благо нашей родины и нашего превосходного Государя, который хочет ей блага». Отец писал и полковнику – Ивану Федоровичу Удому, прося ссужать при необходимости его сына в долг и обещая покрыть все эти расходы. Павел был очень смущен, когда полковник вызвал его к себе и спросил, не надобно ли ему денег на покупку новой верховой лошади взамен пострадавшей. Если бы Удом узнал об этой неприятности из собственного рапорта Пестеля, то Павел, конечно же, принял бы помощь с большою радостью, но сведения были почерпнуты из папенькиного письма, поэтому он поблагодарил и отказался. Ему было совестно обременять полковника, недавно лишившегося любимой жены, которая скончалась от болезни, оставив ему трех дочерей и сына-младенца. Зато капитан Арцыбашев оказался тем самым подарком судьбы, о котором твердил отец: с ним можно было и поговорить по душам о чём угодно, и попросить взаймы, не сгорая со стыда.
Петр Сергеевич нахмурился, выслушав рассказ Пестеля о патронах, но сейчас заниматься этим было некогда: ожидали прибытия цесаревича Константина, который собирался смотреть полк. Солдаты маршировали повзводно, поротно и побатальонно, отрабатывая строевые эволюции: захождение плечом, марширование рядами и полуоборотом во фронт.
…Первый батальон привел великого князя в восторг: славно идут! Точно плывут, а не маршируют, ногу держат, верность и точность беспримерны, осанка, тишина необычайная! Прямо движущаяся стена! Истинные чада российской лейб-гвардии! Но второй батальон допустил ошибку при перестроении, и хотя она была тут же исправлена окриком, Константин Павлович сошел с коня и сам принялся обучать солдат: показывал, как ловчее подогнать ремни, чтобы грудь была колесом, как держать голову, где у ружья быть руке и пальцу, как делать поворот на ходу…
– Атакующий фронт должен идти на неприятеля сколь можно осанисто и стараться быть совершенно сомкнутым в рядах, ибо от сего наиболее зависит успех в атаке! – назидательно сказал он Удому.
Шишков не верил своим глазам. То ли время сейчас, чтобы заниматься такими мелочами! Не к парадам солдатушек надо готовить, а…
– Ты, верно, смотришь на это, как на дурачество? – строго спросил его великий князь.
Смутившись из-за того, что мысль его с такою легкостью была угадана, Шишков не нашелся что сказать и только низко поклонился.
Он многого не мог взять в толк, однако остерегался о том высказываться. Русские в Вильне встревожены не на шутку: не сегодня-завтра Бонапарт с несметным полчищем будет здесь, а наши что же? Никто как будто и не готовится давать ему отпор, офицеры веселятся и буянят, полякам раздают ордена и камергерские ключи, хотя они только и ждут Наполеона, чтобы переметнуться на его сторону! Станут оборонять Вильну или нет? В город свозят запасы, как будто для длительного сопротивления, а укреплений не возводят – как это понимать? Шишкова это тоже беспокоило: похоже, Вильну изначально предполагалось оставить, чтобы увлечь за собой неприятеля в глубь России. Но зачем было стягивать сюда столько войск и припасов? Неприятель бы и без нашего отступления пошел к нам, а бегство пред ним лишь даст пищу слухам, сеющим повсюду страх и малодушие. Кто командует нашими войсками? Государь? Но его величество называет главным их распорядителем Барклая-де-Толли, а тот от сего звания отказывается. Да и вправду сказать: Михаил Богданович честный человек и хороший полководец, но души солдатской не постиг, любви не снискал. Сможет ли человек с нерусской фамилией повести за собой русского солдата в огонь и в воду?..
* * *
– Я уполномочен его величеством говорить от его имени и сообщить вам о его твердом намерении восстановить Польшу и провозгласить вас польским королем, если вы отложитесь от императора Наполеона и увлечете польское войско за собой.
Серые глаза со светлыми ресницами смотрят прямо, почти не моргая. У полковника Толя круглое честное лицо немецкого бюргера, для которого уговор дороже денег; партикулярное платье только усиливает это впечатление. Князь Юзеф Понятовский – тоже человек слова; полковник поймет его и передаст его ответ царю надлежащим образом.
– Я благодарю императора Александра за его намерение, но честь не позволяет мне принять его предложение. Передайте его величеству, что в знак признательности и уважения к нему я оставлю его предложение без огласки.
По привычке щелкнув каблуками, Толь поклонился, повернулся по-военному и вышел.
Князь Юзеф сел, облокотился о стол и обхватил голову руками, запустив пальцы в черные волосы. Возможно ли сохранить свою честь, ни в чём не покривив душой? Поляки верят в Бонапарта, потому что Понятовский поддерживает в них эту веру, несмотря на сомнения и разочарования. Вера даст им силу, которая нужна для отвоевания свободы. И еще – сознание своей правоты. Сдержит ли Бонапарт свои обещания?.. Бог ему судья. Князь Юзеф поклялся в верности императору Наполеону и не изменит своему слову; хотя бы перед собственной совестью он останется чист. Великая армия стоит на Висле. Вчера князь выдал рекомендательные письма французскому капитану д’Опулю, который отправился в Тересполь в польском мундире под видом штаб-офицера князя Понятовского, чтобы разведать окрестности Бреста, проехать берегом Буга, собрать сведения о силах русских в направлении Слонима, а также в Брянске, Бельске и Белостоке, подобраться как можно ближе к Гродне, разузнать пути через леса и болота и передать все эти сведения Наполеону, уже выехавшему в Познань. Коней на переправе не меняют.
* * *
Каждый раз после ухода гостей княгиня Мещерская принимала бестужевские капли: от разговоров голова шла кругом, аж темнело в глазах. Сестра, Надежда Николаевна Шереметева, вываливала разом целый ворох слухов, собранных в гостиных, у Архаровых и Апраксиных, а подруга ее Анна Николаевна Неклюдова толковала их самым мрачным образом. Говорили, что открыли общество, состоявшее из молодых людей очень хороших фамилий, которые занимались рисованием подробных карт Москвы для отправки Бонапарту. Мадам Обер-Шальме, к которой вся Москва ездила за модными шляпами, арестовали и сослали – якобы за фальшивую монету. В сельце Воронцове, в усадьбе князя Репнина, которым теперь владеет княгиня Волконская, поселился какой-то немец с помощником-курляндцем. Их привез туда лично гражданский губернатор Обресков; вроде бы им поручено устроить там фабрику для изготовления новоизобретенных зарядов для пушек. А вот уж самое верное известие: графа Гудовича, московского главнокомандующего, государь отправил в отставку по болезни, прислав ему похвальный рескрипт и свой портрет с бриллиантами. Но только настоящая причина отставки – не здоровье графа, а доктор, который его пользовал, по фамилии Сальваторе, то ли француз, то ли итальянец, передававший Наполеону всякие тайные сведения и за то получавший от него шесть тысяч франков в год.