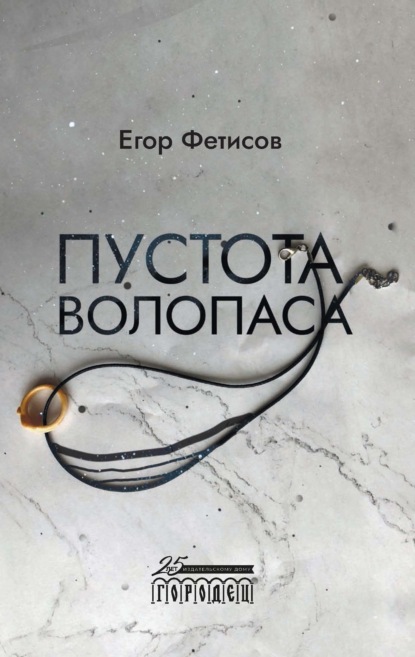По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пустота Волопаса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пустота Волопаса
Егор Сергеевич Фетисов
Роман о поисках себя и о любви.
Два главных персонажа принадлежат к поколению, формирование которого пришлось на 90-е годы, им было не до внутреннего анализа и не до поиска призвания, и они выбрали филологию просто в качестве наиболее приемлемого занятия. Потом один из них продолжает плыть по течению, работая переводчиком художественной литературы, а второй резко меняет свою жизнь: уезжает в Норвегию, устраивается на китобойное судно и охотится на полосатиков, понимая в глубине души, что из одной крайности угодил в другую. Спустя годы выясняется, что дело, видимо, не в призвании и не в работе. Жизнь опять сталкивает их друг с другом, то ли распутывая старые узлы, то ли завязывая новые. Как бы то ни было, все решается не здесь и не сейчас, «здесь и сейчас» представляют собой пустоту, которую нужно пережить и понять, как ты к ней относишься: как к черной дыре или как к кокону, из которого рано или поздно высвободится твоя душа. Но если и высвободится – надолго ли, ведь век бабочки, символизирующей душу, недолог…
Егор Фетисов
Пустота Волопаса
Грузный колокол,
А на самом его краю
Дремлет бабочка.
Бусон
Мир снова томит меня своей пестрой пустотой.
В. Набоков «Круг».
© Е. Фетисов, 2021
© ИД «Городец», 2021
1
Гроза надвигалась на город с самого утра. Но по разным причинам задерживалась на неопределенное время. Откладывалась сначала на час, потом еще на несколько. То ли метеорологические службы были не в состоянии высчитать скорость перемещающегося ненастья, то ли компьютерные программы, наблюдавшие при помощи спутников за движением туч и облаков и оповещавшие о своих наблюдениях население, были пока что недостаточно совершенны, но факт оставался фактом – ливень опаздывал. И все равно в городе не было ни одного человека, который выразил бы сомнение в том, что хляби разверзнутся в самое ближайшее время. После трех недель выжигающей жары по-другому и быть не могло, в воздухе парило, одежда прилипала к телу, влажному от пота.
Хотя гроза еще не достигла пределов города, люди говорили о ней как о свершившемся факте, обсуждали ее в метро и троллейбусах, в очереди на кассе и за столиками в кафе. «Мой айфон показывает вероятность дождя 90 процентов начиная с 18:00», – говорил парень девушке, рука которой казалась фарфоровым креплением для чашечки с кофе. Было без четверти шесть, и он напряженно всматривался то в бледное небо над крышами домов, то в циферблат своих часов, подобранных в цвет к костюму, не понимая, что происходит и в чем причина очевидного сбоя и несоответствия.
Парень с айфоном и девушка с фарфоровыми руками были единственными, кто сидел на открытой террасе, остальные предпочитали занять столик внутри, в полумраке, прохладу которого обеспечивали кондиционеры, потому что на террасах, ютившихся на лишенных зелени тротуарах, воздух оставался тяжелым и влажным, не спасал даже ветерок, временами долетавший с залива. Старики со щелчком открывали баночки с валидолом, жаловались на сердце; по улицам, включив сирены и мигалки, пролетали машины «скорой помощи». Молодежь раздевалась, насколько позволяла стеснительность, и парни все как один надевали солнцезащитные очки, чтобы спрятать взгляды, скользящие по женским округлостям и впадинкам. На стеклах охлажденных бокалов блестели капельки воды, быстро прогревавшиеся как морская вода на мелководье, вдоль берега, там, где она покрывает щиколотки, но еще не доходит до колен, и где можно лежать на спине и смотреть в застирано-голубого, выцветшего цвета небо, если не боишься соленой пелены в глазах, когда мелкой волне все-таки удается захлестнуть лицо, ласково, как будто умывая с утра маленького ребенка.
– Скорее бы, – раздалось чье-то кряхтение. – Совсем мочи нет. Уже вторую неделю сушит.
– Да если бы вторую, третью, – поправил женский голос, в котором было что-то от цветной капусты, безвкусное и бесцветное, – прямо висит в воздухе. Огурцы все скукожились: одна шкурка и горечь. Подумать только – у меня горькие огурцы! А я хотела закатать дочке несколько банок малосольных.
– Никуда не денется, – успокаивал ее кряхтящий голос, – в новостях говорили, должно прорвать. Что-то там идет, циклон какой-то или антициклон, кто их там разберет.
При слове «прорвать» Македонов живо представил себе рваные клочья влажного воздуха, тучи были только бахромой, а сами прорехи уходили высоко в космос, в звездные бездны.
Кафе осталось позади, голоса удалялись, смешиваясь с шумом улицы, с десятками тысяч разнообразных звуков, превратившихся в единый городской гул, как разные цвета, смешавшись, превращаются в белый. Когда-то давно ему рассказал об этом отец, когда они плыли на каком-то катере и стояли на корме, завороженные пенным следом, который катер оставлял после себя, вспарывая ножами винтов плоть моря. «Знаешь, почему след белый?» – спросил отец. Македонов покачал головой. Наверное, потому, что вода внутри белая, и когда ее выворачивают наизнанку, эта белизна становится заметна. И был потрясен рассказом о том, что вода была вовсе не белой, а разноцветной, в ее брызгах в солнечном свете смешивались синий, и фиолетовый, и зеленый, и желтый.
– И красный? – спросил Антон папу.
– И красный, и оранжевый. Все цвета спектра.
– А что такое спектр? – спросил Македонов.
– Спектр… Это… Это радуга, – объяснил папа.
– Тогда почему я не вижу ни красного, ни оранжевого? – удивился Антон.
– Вернемся домой, я тебе покажу, – пообещал папа.
Дома он смастерил из картона и зубочистки волчок, наклеил на него бумагу, которую раскрасил разными цветами, раскрутил волчок, и – Антон даже рот открыл от удивления, потому что волчок был почти белым. Пока крутился. Потом остановился и снова стал разноцветным.
– Мы не всегда видим то, что есть на самом деле, – сказал папа.
– Значит, звезды не белые, а небо между ними – не черное? – спросил Антон.
– Это уж как минимум, – сказал папа и о чем-то задумался, продолжая крутить волчок еще долго после того, как Антону это наскучило, и он убежал в свою комнату.
Теперь Македонов вспомнил про тот случай, внезапно подумав, что со звуками, наверное, тоже так. Они сливаются в какой-то один общий гул, в котором мы не слышим пения китов и писка летучих мышей, даже гудки кораблей, отходящих в порту от пристани, не долетают до нас, потому что волчок вертится безостановочно.
Потом наступил вечер, зажглись уличные фонари, хозяева и хозяйки поспешно прогуляли своих собак и увели их домой мыть лапы, не дав даже толком обнюхаться, некоторые магазины успели закрыться, но многие еще напоминали взведенный капкан с приманкой для неосторожного клиента, детские телеканалы переходили в режим убеждения детей укладываться спать, хотя белые ночи этому не способствовали, а гроза все медлила, приближаясь неспешно, как змея, наметившая свою добычу, но не полагавшаяся вполне на скорость броска, или, скорее, она, как прайд львов, оглашая ревом окрестности, загоняла случайные жертвы в необходимую ей зону, в которой по несчастливому стечению обстоятельств находился и Македонов. Или просто Мак, как звали его близкие друзья, иногда саркастически интересовавшиеся, почему родители не назвали его Сашей, раз уж все равно так вышло с фамилией. Мама рассказывала, что бабушка как раз и настаивала на таком варианте, но они с папой не рискнули.
Македонов только что открыл бутылку купленного со скидкой немецкого пива «Пауланер» и присел на летнюю траву, привалившись спиной к стволу чудом сохранившегося в городе тополя. Какое-то время назад тополя активно уничтожали, защищая права астматиков и аллергиков, деревья-убийцы спиливались по всему городу. Спиленные стволы и ветки долгое время гнили под дождем и снегом, но постепенно исчезли практически без следа. Антон, прильнув к чудом выжившему тополю, даже не подумал, что это тополь, для него это было просто дерево, одно из многих, безымянных, форма листьев которых ему ни о чем не напоминала, потому что он способен был отличить только клен от березы, и то только благодаря хоккею – на флаге канадской сборной был изображен кленовый лист, а березу Македонов отличал по стволу, грязно-белому и в то же время соблазнительному своей растрепанной кроной, в ней чувствовалась какая-то женская близость или доступность, нет, все-таки близость, так точнее, потому что она была скорее сестрой, чем любовницей, эта береза, немного беспутной и безалаберной сестрой.
И в этот момент, когда он сделал первый глоток пенной, как вода за кормой катера, жидкости, прикрывшись листвой дерева, которое не успели линчевать, промежуток времени между вспышками молний и раскатами грома сократился до пары секунд, и гроза обрушилась на Македонова, на тополь, на микрорайон и район, на весь город и его окраины, и в ту же самую секунду, практически одновременно с хлынувшими на землю струями, он почувствовал, как в нагрудном кармане завибрировало его сердце, так ему показалось в первое мгновение – что это сердце забилось в особом режиме, незнакомом и поэтому пугающем, на самом же деле звонил сотовый, точнее звонил кто-то другой, а сотовый трепыхался, как брошенная на дно лодки рыба, пытаясь своими судорогами привлечь внимание Антона.
Македонов вытащил трубку из кармана, и ее немедленно залило дождевой водой, лишая его возможности увидеть, кто звонит. Он нажал на кнопку вслепую, телефон не послушался, Македонов продолжал нажимать мокрыми пальцами на зеленый кружок, а рыба продолжала трепыхаться, наконец что-то с чем-то соединилось, Македонов поднес выскальзывающую трубку к уху и услышал знакомый голос, который он не перепутал бы ни с одним из других голосов, потому что этот голос был смазан маслом со всех сторон, он скользил как Плющенко по льду в свои лучшие годы и был, как Плющенко, радостен и нес позитив. Да что Плющенко, это был настоящий Гагарин, если, конечно, космонавтов смазывают сливочным маслом или вазелином перед запуском в космос.
– Да, конечно, – ответил Македонов на полуутвердительный вопрос, есть ли у него минута для разговора. И это была совершенная правда, потому что торопиться Антону было некуда. Варя еще не пришла с работы, где она задерживалась день ото дня все дольше, захватывая фрагменты позднего вечера и даже ранней ночи, а самому Антону задержаться было негде, потому что его работа заключалась в переводе чужих текстов и редком, спонтанном написании своих собственных, которые он читал спящей Варе, когда она возвращалась домой, в их съемную «однушку» на Петроградской стороне, принимала душ и валилась в постель, потрепав Антона по голове. Тогда он делал себе чашку кофе, брал компьютер и, устроившись на полу возле кровати с чашкой и компьютером, читал написанное. Переводы тоже читал, и Варя слушала, пусть и во сне, но ведь неизвестно, как в действительности устроен человеческий мозг, наверняка он работает и во сне, и все эти тексты, все эти произнесенные с определенной интонацией – потому что нет ничего более важного в литературе, чем интонация, – слова падали куда-то глубоко в подсознание Вари, скатывались по нейронным туннелям и лабиринтам в неизведанные хранилища, похожие своей первозданностью на глубины мировых океанов, чтобы лежать там до срока, а может быть, и после него, или вне его, если вечность все-таки существует, а Македонову очень хотелось бы на это надеяться.
– Без вечности скучно, – сказал он Варе однажды утром, и она удивленно подняла на него глаза от тарелки с глазуньей.
– Как это? – спросила она удивленно.
Антон не знал, как объяснить. Нужно было подобрать определенные слова, привести характерный пример необузданного веселья с вечностью, но, кроме бала у сатаны в «Мастере и Маргарите», как назло на ум ничего не приходило, а он имел в виду совсем не оргию, не возлияния или возлежания, а нечто совсем иное.
– Смотри, – сказал он, но Варя и так на него смотрела, а он молчал, и это выглядело достаточно глупо.
Слава богу, что она привыкла к его неторопливой манере говорить о вещах, думая на ходу, и передумывая, и отказываясь от только что сказанного, и теперь терпеливо ждала, осторожно пережевывая яичный белок, стараясь не спугнуть движением челюстей мысль, которую он пытался поймать, словно это была моль, залетевшая на кухню и угрожавшая вывести здесь потомство и сожрать все крупы и макароны, имевшиеся в доме.
– Вот падает с дерева лист, – продолжал Антон, – ветер подхватил его и несет, кружит, как опытный мужчина молоденькую девушку, совсем еще девчонку, впервые пришедшую на танцы, и ты следишь за этим падением, потому что в конечном итоге это все-таки падение, а не взлет, и думаешь: а бывает ли в принципе взлет в подобной ситуации. И если бывает, то почему? А если не бывает, то тем более – почему? Ты следишь за этим листом, даже переходишь на быстрый шаг, а потом на бег, чтобы успеть подобрать его в той точке, куда он опустится, но его несет все дальше, на ту сторону оживленного проспекта, по которому проносятся машины, потому что машинам в больших городах всегда горит зеленый, а пешеходам – красный, и ты теряешь его из виду, но тебе ведь было с ним интересно, и у тебя почти не возникает сомнения в том, что он – часть вечности, он бессмертнее тебя, и, конечно же, тебе интересно понять, почему так… И почему он умеет летать, а ты нет. И ты над этим думаешь, и тебе не скучно жить, пока ты думаешь. Жаль, что ты так и не узнал, взлетел он в итоге или упал. Ведь это, как ни крути, самое важное. А потом ты приходишь домой, снимаешь кроссовки, ужинаешь, включаешь телевизор – а там, например, новый фильм, даже пускай не голливудский боевик, не «Форсаж?7», а что-то более-менее человеческое, какой-нибудь «Аромат Ивонны», экранизация нобелевского лауреата по литературе, точнее говоря, не самого лауреата, а одного из его произведений, ну да ты меня поняла… Но тебе неинтересно за этим следить, потому что ты знаешь, чем это кончится: они расстанутся, да режиссер даже и не пытался это скрыть, сразу показал пламя костра. Разве что ты могла подумать, что он сжигает там свои журналы, а на самом деле это оказался горящий автомобиль, в котором погиб тот самый опытный мужчина, пытавшийся кружить и вращать молоденькую девушку, так что круг в каком-то смысле замкнулся, только тебе скучно, потому что это… Не то.
Он замолчал и отхлебнул глоток кофе. Варя давно уже не видела его таким взволнованным.
– Ты с ума сошел, – сказала она серьезно. – «Аромат Ивонны» – один из моих любимых фильмов. Вспомни, как хороша там Сандра Экстеркатт. Не смей ставить Сандру Экстеркатт в один ряд с «Форсажем», тем более седьмым.
– Как ты запоминаешь их имена? – задумчиво спросил Македонов. – Я даже повторить не возьмусь. – Сандра Экстра… экстра – что?
– Она же играла в «Холодной луне», по Буковски. Помнишь, ты же сам его притащил с какого-то развала, еще в те времена, когда диски за деньги покупали, убеждал меня, что нужно смотреть хотя бы экранизации, раз уж я не читаю книг. Память девичья?
– Название же я помню. Я просто не помню, о чем он. А он о чем?
– Два мужика слоняются без дела, придумывают разные гнусности.
– Поэтому и не помню. Это сюжет каждого второго фильма. Например, «Вальсирующие» с молодым Депардье, если навскидку.
Егор Сергеевич Фетисов
Роман о поисках себя и о любви.
Два главных персонажа принадлежат к поколению, формирование которого пришлось на 90-е годы, им было не до внутреннего анализа и не до поиска призвания, и они выбрали филологию просто в качестве наиболее приемлемого занятия. Потом один из них продолжает плыть по течению, работая переводчиком художественной литературы, а второй резко меняет свою жизнь: уезжает в Норвегию, устраивается на китобойное судно и охотится на полосатиков, понимая в глубине души, что из одной крайности угодил в другую. Спустя годы выясняется, что дело, видимо, не в призвании и не в работе. Жизнь опять сталкивает их друг с другом, то ли распутывая старые узлы, то ли завязывая новые. Как бы то ни было, все решается не здесь и не сейчас, «здесь и сейчас» представляют собой пустоту, которую нужно пережить и понять, как ты к ней относишься: как к черной дыре или как к кокону, из которого рано или поздно высвободится твоя душа. Но если и высвободится – надолго ли, ведь век бабочки, символизирующей душу, недолог…
Егор Фетисов
Пустота Волопаса
Грузный колокол,
А на самом его краю
Дремлет бабочка.
Бусон
Мир снова томит меня своей пестрой пустотой.
В. Набоков «Круг».
© Е. Фетисов, 2021
© ИД «Городец», 2021
1
Гроза надвигалась на город с самого утра. Но по разным причинам задерживалась на неопределенное время. Откладывалась сначала на час, потом еще на несколько. То ли метеорологические службы были не в состоянии высчитать скорость перемещающегося ненастья, то ли компьютерные программы, наблюдавшие при помощи спутников за движением туч и облаков и оповещавшие о своих наблюдениях население, были пока что недостаточно совершенны, но факт оставался фактом – ливень опаздывал. И все равно в городе не было ни одного человека, который выразил бы сомнение в том, что хляби разверзнутся в самое ближайшее время. После трех недель выжигающей жары по-другому и быть не могло, в воздухе парило, одежда прилипала к телу, влажному от пота.
Хотя гроза еще не достигла пределов города, люди говорили о ней как о свершившемся факте, обсуждали ее в метро и троллейбусах, в очереди на кассе и за столиками в кафе. «Мой айфон показывает вероятность дождя 90 процентов начиная с 18:00», – говорил парень девушке, рука которой казалась фарфоровым креплением для чашечки с кофе. Было без четверти шесть, и он напряженно всматривался то в бледное небо над крышами домов, то в циферблат своих часов, подобранных в цвет к костюму, не понимая, что происходит и в чем причина очевидного сбоя и несоответствия.
Парень с айфоном и девушка с фарфоровыми руками были единственными, кто сидел на открытой террасе, остальные предпочитали занять столик внутри, в полумраке, прохладу которого обеспечивали кондиционеры, потому что на террасах, ютившихся на лишенных зелени тротуарах, воздух оставался тяжелым и влажным, не спасал даже ветерок, временами долетавший с залива. Старики со щелчком открывали баночки с валидолом, жаловались на сердце; по улицам, включив сирены и мигалки, пролетали машины «скорой помощи». Молодежь раздевалась, насколько позволяла стеснительность, и парни все как один надевали солнцезащитные очки, чтобы спрятать взгляды, скользящие по женским округлостям и впадинкам. На стеклах охлажденных бокалов блестели капельки воды, быстро прогревавшиеся как морская вода на мелководье, вдоль берега, там, где она покрывает щиколотки, но еще не доходит до колен, и где можно лежать на спине и смотреть в застирано-голубого, выцветшего цвета небо, если не боишься соленой пелены в глазах, когда мелкой волне все-таки удается захлестнуть лицо, ласково, как будто умывая с утра маленького ребенка.
– Скорее бы, – раздалось чье-то кряхтение. – Совсем мочи нет. Уже вторую неделю сушит.
– Да если бы вторую, третью, – поправил женский голос, в котором было что-то от цветной капусты, безвкусное и бесцветное, – прямо висит в воздухе. Огурцы все скукожились: одна шкурка и горечь. Подумать только – у меня горькие огурцы! А я хотела закатать дочке несколько банок малосольных.
– Никуда не денется, – успокаивал ее кряхтящий голос, – в новостях говорили, должно прорвать. Что-то там идет, циклон какой-то или антициклон, кто их там разберет.
При слове «прорвать» Македонов живо представил себе рваные клочья влажного воздуха, тучи были только бахромой, а сами прорехи уходили высоко в космос, в звездные бездны.
Кафе осталось позади, голоса удалялись, смешиваясь с шумом улицы, с десятками тысяч разнообразных звуков, превратившихся в единый городской гул, как разные цвета, смешавшись, превращаются в белый. Когда-то давно ему рассказал об этом отец, когда они плыли на каком-то катере и стояли на корме, завороженные пенным следом, который катер оставлял после себя, вспарывая ножами винтов плоть моря. «Знаешь, почему след белый?» – спросил отец. Македонов покачал головой. Наверное, потому, что вода внутри белая, и когда ее выворачивают наизнанку, эта белизна становится заметна. И был потрясен рассказом о том, что вода была вовсе не белой, а разноцветной, в ее брызгах в солнечном свете смешивались синий, и фиолетовый, и зеленый, и желтый.
– И красный? – спросил Антон папу.
– И красный, и оранжевый. Все цвета спектра.
– А что такое спектр? – спросил Македонов.
– Спектр… Это… Это радуга, – объяснил папа.
– Тогда почему я не вижу ни красного, ни оранжевого? – удивился Антон.
– Вернемся домой, я тебе покажу, – пообещал папа.
Дома он смастерил из картона и зубочистки волчок, наклеил на него бумагу, которую раскрасил разными цветами, раскрутил волчок, и – Антон даже рот открыл от удивления, потому что волчок был почти белым. Пока крутился. Потом остановился и снова стал разноцветным.
– Мы не всегда видим то, что есть на самом деле, – сказал папа.
– Значит, звезды не белые, а небо между ними – не черное? – спросил Антон.
– Это уж как минимум, – сказал папа и о чем-то задумался, продолжая крутить волчок еще долго после того, как Антону это наскучило, и он убежал в свою комнату.
Теперь Македонов вспомнил про тот случай, внезапно подумав, что со звуками, наверное, тоже так. Они сливаются в какой-то один общий гул, в котором мы не слышим пения китов и писка летучих мышей, даже гудки кораблей, отходящих в порту от пристани, не долетают до нас, потому что волчок вертится безостановочно.
Потом наступил вечер, зажглись уличные фонари, хозяева и хозяйки поспешно прогуляли своих собак и увели их домой мыть лапы, не дав даже толком обнюхаться, некоторые магазины успели закрыться, но многие еще напоминали взведенный капкан с приманкой для неосторожного клиента, детские телеканалы переходили в режим убеждения детей укладываться спать, хотя белые ночи этому не способствовали, а гроза все медлила, приближаясь неспешно, как змея, наметившая свою добычу, но не полагавшаяся вполне на скорость броска, или, скорее, она, как прайд львов, оглашая ревом окрестности, загоняла случайные жертвы в необходимую ей зону, в которой по несчастливому стечению обстоятельств находился и Македонов. Или просто Мак, как звали его близкие друзья, иногда саркастически интересовавшиеся, почему родители не назвали его Сашей, раз уж все равно так вышло с фамилией. Мама рассказывала, что бабушка как раз и настаивала на таком варианте, но они с папой не рискнули.
Македонов только что открыл бутылку купленного со скидкой немецкого пива «Пауланер» и присел на летнюю траву, привалившись спиной к стволу чудом сохранившегося в городе тополя. Какое-то время назад тополя активно уничтожали, защищая права астматиков и аллергиков, деревья-убийцы спиливались по всему городу. Спиленные стволы и ветки долгое время гнили под дождем и снегом, но постепенно исчезли практически без следа. Антон, прильнув к чудом выжившему тополю, даже не подумал, что это тополь, для него это было просто дерево, одно из многих, безымянных, форма листьев которых ему ни о чем не напоминала, потому что он способен был отличить только клен от березы, и то только благодаря хоккею – на флаге канадской сборной был изображен кленовый лист, а березу Македонов отличал по стволу, грязно-белому и в то же время соблазнительному своей растрепанной кроной, в ней чувствовалась какая-то женская близость или доступность, нет, все-таки близость, так точнее, потому что она была скорее сестрой, чем любовницей, эта береза, немного беспутной и безалаберной сестрой.
И в этот момент, когда он сделал первый глоток пенной, как вода за кормой катера, жидкости, прикрывшись листвой дерева, которое не успели линчевать, промежуток времени между вспышками молний и раскатами грома сократился до пары секунд, и гроза обрушилась на Македонова, на тополь, на микрорайон и район, на весь город и его окраины, и в ту же самую секунду, практически одновременно с хлынувшими на землю струями, он почувствовал, как в нагрудном кармане завибрировало его сердце, так ему показалось в первое мгновение – что это сердце забилось в особом режиме, незнакомом и поэтому пугающем, на самом же деле звонил сотовый, точнее звонил кто-то другой, а сотовый трепыхался, как брошенная на дно лодки рыба, пытаясь своими судорогами привлечь внимание Антона.
Македонов вытащил трубку из кармана, и ее немедленно залило дождевой водой, лишая его возможности увидеть, кто звонит. Он нажал на кнопку вслепую, телефон не послушался, Македонов продолжал нажимать мокрыми пальцами на зеленый кружок, а рыба продолжала трепыхаться, наконец что-то с чем-то соединилось, Македонов поднес выскальзывающую трубку к уху и услышал знакомый голос, который он не перепутал бы ни с одним из других голосов, потому что этот голос был смазан маслом со всех сторон, он скользил как Плющенко по льду в свои лучшие годы и был, как Плющенко, радостен и нес позитив. Да что Плющенко, это был настоящий Гагарин, если, конечно, космонавтов смазывают сливочным маслом или вазелином перед запуском в космос.
– Да, конечно, – ответил Македонов на полуутвердительный вопрос, есть ли у него минута для разговора. И это была совершенная правда, потому что торопиться Антону было некуда. Варя еще не пришла с работы, где она задерживалась день ото дня все дольше, захватывая фрагменты позднего вечера и даже ранней ночи, а самому Антону задержаться было негде, потому что его работа заключалась в переводе чужих текстов и редком, спонтанном написании своих собственных, которые он читал спящей Варе, когда она возвращалась домой, в их съемную «однушку» на Петроградской стороне, принимала душ и валилась в постель, потрепав Антона по голове. Тогда он делал себе чашку кофе, брал компьютер и, устроившись на полу возле кровати с чашкой и компьютером, читал написанное. Переводы тоже читал, и Варя слушала, пусть и во сне, но ведь неизвестно, как в действительности устроен человеческий мозг, наверняка он работает и во сне, и все эти тексты, все эти произнесенные с определенной интонацией – потому что нет ничего более важного в литературе, чем интонация, – слова падали куда-то глубоко в подсознание Вари, скатывались по нейронным туннелям и лабиринтам в неизведанные хранилища, похожие своей первозданностью на глубины мировых океанов, чтобы лежать там до срока, а может быть, и после него, или вне его, если вечность все-таки существует, а Македонову очень хотелось бы на это надеяться.
– Без вечности скучно, – сказал он Варе однажды утром, и она удивленно подняла на него глаза от тарелки с глазуньей.
– Как это? – спросила она удивленно.
Антон не знал, как объяснить. Нужно было подобрать определенные слова, привести характерный пример необузданного веселья с вечностью, но, кроме бала у сатаны в «Мастере и Маргарите», как назло на ум ничего не приходило, а он имел в виду совсем не оргию, не возлияния или возлежания, а нечто совсем иное.
– Смотри, – сказал он, но Варя и так на него смотрела, а он молчал, и это выглядело достаточно глупо.
Слава богу, что она привыкла к его неторопливой манере говорить о вещах, думая на ходу, и передумывая, и отказываясь от только что сказанного, и теперь терпеливо ждала, осторожно пережевывая яичный белок, стараясь не спугнуть движением челюстей мысль, которую он пытался поймать, словно это была моль, залетевшая на кухню и угрожавшая вывести здесь потомство и сожрать все крупы и макароны, имевшиеся в доме.
– Вот падает с дерева лист, – продолжал Антон, – ветер подхватил его и несет, кружит, как опытный мужчина молоденькую девушку, совсем еще девчонку, впервые пришедшую на танцы, и ты следишь за этим падением, потому что в конечном итоге это все-таки падение, а не взлет, и думаешь: а бывает ли в принципе взлет в подобной ситуации. И если бывает, то почему? А если не бывает, то тем более – почему? Ты следишь за этим листом, даже переходишь на быстрый шаг, а потом на бег, чтобы успеть подобрать его в той точке, куда он опустится, но его несет все дальше, на ту сторону оживленного проспекта, по которому проносятся машины, потому что машинам в больших городах всегда горит зеленый, а пешеходам – красный, и ты теряешь его из виду, но тебе ведь было с ним интересно, и у тебя почти не возникает сомнения в том, что он – часть вечности, он бессмертнее тебя, и, конечно же, тебе интересно понять, почему так… И почему он умеет летать, а ты нет. И ты над этим думаешь, и тебе не скучно жить, пока ты думаешь. Жаль, что ты так и не узнал, взлетел он в итоге или упал. Ведь это, как ни крути, самое важное. А потом ты приходишь домой, снимаешь кроссовки, ужинаешь, включаешь телевизор – а там, например, новый фильм, даже пускай не голливудский боевик, не «Форсаж?7», а что-то более-менее человеческое, какой-нибудь «Аромат Ивонны», экранизация нобелевского лауреата по литературе, точнее говоря, не самого лауреата, а одного из его произведений, ну да ты меня поняла… Но тебе неинтересно за этим следить, потому что ты знаешь, чем это кончится: они расстанутся, да режиссер даже и не пытался это скрыть, сразу показал пламя костра. Разве что ты могла подумать, что он сжигает там свои журналы, а на самом деле это оказался горящий автомобиль, в котором погиб тот самый опытный мужчина, пытавшийся кружить и вращать молоденькую девушку, так что круг в каком-то смысле замкнулся, только тебе скучно, потому что это… Не то.
Он замолчал и отхлебнул глоток кофе. Варя давно уже не видела его таким взволнованным.
– Ты с ума сошел, – сказала она серьезно. – «Аромат Ивонны» – один из моих любимых фильмов. Вспомни, как хороша там Сандра Экстеркатт. Не смей ставить Сандру Экстеркатт в один ряд с «Форсажем», тем более седьмым.
– Как ты запоминаешь их имена? – задумчиво спросил Македонов. – Я даже повторить не возьмусь. – Сандра Экстра… экстра – что?
– Она же играла в «Холодной луне», по Буковски. Помнишь, ты же сам его притащил с какого-то развала, еще в те времена, когда диски за деньги покупали, убеждал меня, что нужно смотреть хотя бы экранизации, раз уж я не читаю книг. Память девичья?
– Название же я помню. Я просто не помню, о чем он. А он о чем?
– Два мужика слоняются без дела, придумывают разные гнусности.
– Поэтому и не помню. Это сюжет каждого второго фильма. Например, «Вальсирующие» с молодым Депардье, если навскидку.