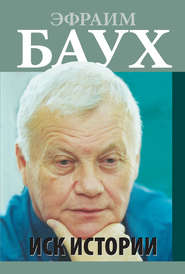По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Завеса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Орман зашел к себе в клетушку, запер дверь, разделся до трусов, развесил одежду, и стал стучать на машинке. В запертую дверь рвались не совсем отрезвевшие коллеги.
– Орман, кончай гореть на работе.
– Номер горит. А я – человек ответственный, – ответствовал Орман, веселясь по поводу того, как вытянулись бы физиономии коллег, прочти они хотя бы несколько выстукиваемых им абзацев.
…Самолеты, летевшие столь низко, чтобы не быть обнаруженными радарами противника, сжигали гораздо больше горючего, чем при обычных полетах. Из-за дальности расстояний самолеты не могли брать много бомб. Вообще бомбы – не столь эффективное оружие для уничтожения самолетов на земле. Точно бьющий пулемет и пушка гораздо более успешны в этом деле. Небольшой запас бомб, который несли наши самолеты, предназначен был только для уничтожения взлетных полос на короткое время, ибо исправить их не составляет особого труда. Цель была нейтрализовать взлет самолета противника на тот короткий – в семь-десять минут – перерыв, до появления следующей четверки наших самолетов, чтобы расстрелять египетские машины на земле.
Простота победила в этой войне: часы, как средство ориентирования во времени, старый добрый компас, обычная пушка и, главное, невероятная дисциплина в умении и точности взлета, присоединения к четверке, в стелющемся над водами и землей полете.
…В пятом-шестом часу была решена судьба иорданских ВВС. Сирийские уже были на грани уничтожения.
Таким образом, в полдень первого дня войны была уничтожена боевая авиация Египта, Сирии, Иордании и Ирака.
Свершилось то, что мы готовили столько времени и были потрясены делами рук наших не намного меньше, чем весь потрясенный мир.
Орман перечитал все напечатанное, удивляясь, что нет ни одной ошибки. Очевидно, невероятное душевное слиянье с каждым словом перевода четко и однозначно вело пальцы по клавишам букв, словно человек, подобно пианисту знал партию наизусть.
«Удивительны дела Твои, Господи», – неожиданно пришли слова из псалмов Давида.
Раздался стук в дверь. Пришлось повернуть ключ. Вошедший Вася был удивлен: ты что, только из бассейна?
– Промок до нитки под ливнем. Вот бумаги. Вася, у меня вопрос. Не боишься ли, что коллеги в редакции могут догадаться, кто ты?
– Мы им быстро заткнем рот, – по-хозяйски решительно отрубил Вася.
– Да, но мне каково будет?
– Не боись.
Вася исчезал профессионально быстро. Вот, стоял, и вот, его нет. Словно растворился на месте, как в научно-фантастических фильмах.
Орман облачился во все еще влажные брюки и рубаху.
Опять возник Тифой с газетной полосой в руке.
– Слушай, будь другом, вычитай. Все под мухой, не на кого положиться. Ты один – трезвый.
Статья была официальной, клеймящей империалистическую агрессию Израиля против семьи арабских народов.
Достойное завершение дня, подумал Орман.
Через неделю позвонил главный редактор заговорщическим тоном:
– Зайди ко мне.
Оглянувшись на всякий случай, не блестят ли чьи-то глаза из-за портьеры, он извлек из портфеля журнальчик:
– Вот, «белый ТАСС». Дали нам на несколько часов. Сам знаешь, кто. Ознакомиться и вернуть. Иди к себе, запри дверь, прочти и немедленно верни. Я знаю, ты ведь читаешь быстро.
Орман знал, есть еще «голубой ТАСС», как говорится в песне Галича, – «для высокого начальства, для особенных людей». «Белый» же – для людишек пониже и пожиже.
Сидит Орман, усмехается, читает в «белом ТАССе» собственные никем, естественно, не подписанные переводы.
Жизнь в двух уровнях
В минуты прочного, как бы отцеженного одиночества, осознаваемого, как истинное состояние души, Орман видел себя человеком с картинки, который дополз до края небесной сферы, пробил ее головой, и потрясенно озирает занебесье с его колесами, кругами планет, – всю эту материю, подобную рядну, где ряды напоминают вздыбившуюся шерсть на ткацком станке Вселенной.
Но потрясала наша земная сторона со средневековым спокойствием звезд, закатывающимся детским солнцем над уютно свернувшимся в складках холмов и зелени полей городком.
Орман ли, иной, человек-странник – всю жизнь шел, полз, чтобы, наконец, добраться до этой сферы, а жители городка обитают рядом и не знают, да их и не интересует, что тут, буквально за стеной их дома, – огромный мир Вселенной. Их не то, что не тянет, их пугает заглянуть за предел, прорвать сферу, прервать филистерский сон золотого прозябания. Вот они, два полюса отцовского восклицания «Ce la vie» – «Такова жизнь» – так удивительно сошедшиеся на околице затерянного в земных складках городка.
В эти дни Орман, подобно тому страннику, пришедшему в городок, как бы жил сразу в двух уровнях, и оба были виртуальны, но более реальны, чем обычное течение жизни с ранним вставанием, чтобы успеть в очередь за молоком, опостылевшим выстукиванием статей, требующих почти нулевого напряжения интеллекта. Симуляция деятельности выражалась в перебирании никому не нужных бумаг, или бессмысленном взгляде в какую-либо точку в кабинете, означающем для окружающих глубокое размышление.
Два этих уровня существования находились как бы один под другим. В верхнем уровне переводы с немецкой и французской прессы о событиях в Израиле постепенно оборачивались его каждодневной жизнью.
Вторым, более глубоким уровнем было проживание в парадоксах Ницше и тяжеловесной тевтонской непререкаемости Хайдеггера, в тайном упрямом сочинении стихов, явно не для печати.
В редкие минуты какого-то сюрреального отрезвления Орман ощущал лишь одно: страх за своих близких.
Странно было то, что два этих напрочь противопоказанных судьбе Ормана имени, ощущались им, как две связанные бечевой доски, два поплавка, держащие его на поверхности: Хайдеггер-Ницше, Ницше-Хайдеггер.
В зыбком уюте светового круга настольной лампы лежали эти небольшие две книжечки, тайно, «в стол», комментируемые Орманом далеко за полночь. Туда же ложились стихи.
Беспомощно счастливое дыхание жены и сына, спящих рядом, вместе со световым кругом составляли некую светящуюся, достаточно прочную сферу, охраняющую душу от обступающей тьмы ночи, затаенной и непредсказуемой, одушевляемой лишь пением цикад.
«Генеалогия морали» Фридриха Ницше в переводе на русский язык была ветхой, дореволюционной. К ней применимы были слова Фета, обращенные к Тютчеву: «вот эта книжка небольшая томов премногих тяжелей».
Не то, что достать, – увидеть эту книжечку, переплетенную множество раз, в те дни представлялось Орману невозможным.
Но вот же, один из фотографов, поставлявших в газету материал, худой и куцый, как сморчок, с крючковатым носом, Друшнер, вечно несущийся как бы одним боком, что, казалось, еще шаг, и он упадет, уронил в кабинете Ормана свою явно неподъемную по весу сумку, и оттуда просыпались бумаги, фото, книжки.
Мелькнуло – «Фридрих Ницше. Генеалогия морали».
По поводу худобы и надоедливой суетливости Друшнера шутили, что его «надоедание – от недоедания». В Друшнере подозревали осведомителя и потому всегда встречали его одним и тем же анекдотом:
– Друшнер, знаешь, в КГБ покрасили двери.
– Ну?!
– Следует стучать по телефону.
– Ха-ха-ха.
Друшнер от всей души смеялся, как будто слышал это в первый раз.
Тут он и вовсе скрючился, и стал собирать с пола рассыпавшиеся вещи. У Ормана застучало в висках, и он слабым голосом – была – не была – пролепетал:
– Можно мне посмотреть… Ницше?