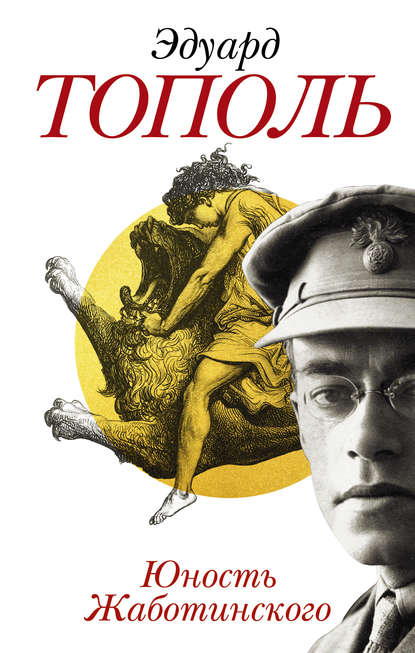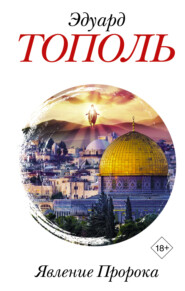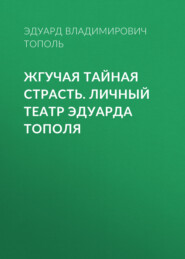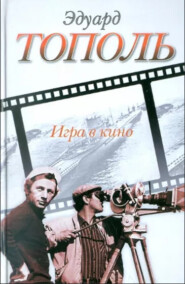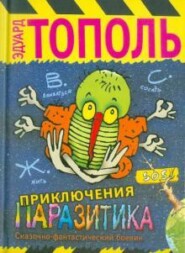По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Юность Жаботинского
Год написания книги
1997
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Квартал между Екатерининской и Гаванной я проходил с ощущением гастрономического подъема: там, в огромном и приземистом доме Вагнера, в глубине пустынного двора ютилась старая таверна Брунса, где ангелы небесные, по волшебным рецептам рая, создавали на кухне амброзию в виде сосисок с картофельным салатом, а Ганимед и Геба, виночерпии на Олимпе, сами отцеживали из бочонка мартовское пиво… Но нельзя без конца поддаваться таким искушениям, а главное сделано – мы добрались до угла Дерибасовской улицы и Соборной площади…»
Вдохнув дразнящие запахи кондитерской и бакалеи гастронома Беккеля, Владимир толкнул высокую резную дверь бокового входа в Пассаж и по широкой мраморной лестнице взошел на второй этаж. Здесь, в нескольких комнатах, под высокими окнами с видом на Дерибасовскую улицу и Соборную площадь, за новенькими «ундервудами» или, по старинке, – скрипучими перьями по узким полоскам бумаги, трудились два десятка журналистов: тишайший Осип Инбер, полиглот и начётчик, Соколовский, скучный и почтенный передовик, милейший Петр Титыч Герцо-Виноградский, художники Нилус и Линский, поэт и драматург Федоров, юморист Борис Флит и сам Израиль Хейфец. То была старая гвардия, любители подписывать свои статьи экзотическими псевдонимами: Лоэнгрин, Барон Икс, Железная Маска, Некто в сером, Лоло, Буква-Василевский, Старый Театрал…
Понизив голос, эти «старики» обсуждали доставленные слухами новости о жестоких подавлениях войсками и казаками крестьянских волнений в Полтавской и Харьковской губерниях – публичных порках, насилии и даже расстрелах. Но писать об этом в газету было невозможно: без штампа «дозволено цензурой» газета не могла пойти в типографию…
А новую, набранную Хейфецом гвардию представляли Лазарь Кармен, Константин Мочульский, Леонид Гроссман, Корней Чуковский, Лео Трецек и Альталена-Жаботинский. «Выдачей авансов» занимался управляющий конторой Самуил Можаровский, а редакционными служителями в приемной были православный парень по имени Абрам и еврейская девушка Катя.
– Вам пошта прыйшла, – вместо приветствия сказал этот Абрам вошедшему Жаботинскому и вручил ему открытку с раскрашенной картинкой.
Картинка изображала злую худощавую даму, избивавшую большой деревянной ложкой собственного мужа. Под этим было чернилами приписано, без подписи и печатными буквами: «ТАК БУДЕТ И С ТОБОЮ ЗА СТАТЬЮ О ШУЛЕРАХ».
Жаботинский повертел открытку в руке: штемпель на ней был городской, и это было первое анонимное письмо в его карьере, да еще с угрозой; польщенно улыбнувшись, он пошел на взволнованный голос Лео Трецека, доносившийся из репортерской.
Как уже было сказано, Трецек был взволнован всегда: он не просто вёл в газете отдел криминальной хроники – он душевно переживал вместе с вором каждую кражу, а уж полным праздником для него был удачный пожар или замысловатое убийство. Это был, вероятно, единственный на всю Россию труженик печати, имевший право похвастаться: я пишу именно о том, о чем люблю писать. Ему не мешал цензор, у всех остальных «резавший» целые полосы, у Трецека была одна помеха: ответственный секретарь редакции Осип Инбер, редактировавший хронику. Он у Трецека не посягал на содержание, но стиль его портил вандалически. Например, у Трецека в рукописи женоубийство на Кузнечной изображалось так: «Тогда Агамемнон Попандопуло, почувствовав в груди муки Отелло, занес над головой сверкающий кухонный нож и с диким воплем бросился на беззащитную женщину. Что между несчастными произошло после того, покрыто мраком неизвестности». А в печать попадало: «Владелец бакалейной лавки греческий подданный такой-то вчера зарезал свою жену Евлалию, тридцати четырех лет, при помощи кухонного ножа, обстоятельства дела полицейским дознанием пока еще не выяснены».
Трецек знал в городе всех, и все его знали, начиная с самых верхов, а у полиции он числился своим человеком и бардом ее сыскных подвигов. Знали его и просто горожане, хотя печатался он без подписи. Знали и «низы»: бывало, что через три дня после выхода сенсационного номера приваливала в контору целая делегация с Пересыпи:
– Нам, будьте добрые, тую газету, где господин Трецек отписали за кражу на Собачьей площадке.
Коллеги по газете его дразнили, что «свои преступления» он сочиняет по копеечным романам, ходким тогда в простонародье, но он гордо отвечал:
– Я чтоб делал свои преступления по ихним романам? Это они сочиняют романы по моим преступлениям!
– Трецек, – сказал Жаботинский, подавая ему открытку со злой женою и страдальцем-мужем, – скоро будет у вас в хронике покушение на убийство молодого фельетониста, подававшего надежды.
Лео прочитал открытку, покрутил ее в руке и вдруг сказал:
– Жабо, идите сюда, я хочу с вами поговорить.
Они вышли в пустую комнату.
– Вы напрасно это затеяли, – начал Трецек, – лучше было не трогать эту шулерскую компанию.
– Лео! – Жаботинский выпятил грудь. – За кого вы меня принимаете? – и процитировал популярную песню: «Я тверда, не боюсь ни ножа, ни огня».
– Да никто вас не тронет, ерунда, – отмахнулся Трецек, – дело не в этом. А просто – незачем задевать своих друзей.
– Каких друзей? Что вы плетете, коллега?
– Трецек не плетет, а знает. Давно вы не были в кафе у Фанкони?
– Вообще в таких шикарных местах не бываю.
– А вы возьмите аванс у Можаровского и сходите. Вечерком, часов в десять. Увидите всю эту компанию, за отдельным столом. На первом месте, душа общества, обязательно восседает брат вашей пассии.
– Какой брат? – изумился Жаботинский. – Какой еще пассии?
– А вашей Маруси, «кошечки в муфте», брат – Сережа Мильгром.
9
Станция «Средний фонтан»
«Ванька Головатый» громко пыхтел паром, сыпал искрами из высокой трубы и клацал по рельсам железными обручами деревянных колес. «Ванькой Головатым» в Одессе называли небольшой паровозик-паровичок, который в конце XIX века победно сменил в одесских пригородах медлительные конки. Теперь, в последние теплые дни запоздалого бабьего лета, этот «Ванька» уверенно, с крейсерской скоростью двенадцать верст в час, тащил вдоль морского побережья аж четыре удобных, с открытыми настежь окнами вагончика с крупными буквами «О.К.Ж.Д» на боках. Буквы эти остались с тех пор, как дорога была «К» – конной, поскольку директор «Одесской конной железной дороги» бельгиец Камбье, заработав на этой дороге миллионы («Пленительная конка, / Камбье миллионы несла, / Ему одесская сторонка / Второю родиной была» — пели тогда в Одессе), никак не хотел раскошелиться на замену буквы «К» на «П». Впрочем, расход был действительно большой – не только на вагончиках нужно было менять эти буквы, но и на станционных деревянных будках, стоявших от Первой до Шестнадцатой станции Большого Фонтана…
В последнем вагончике – чтоб подальше от опасных искр из трубы – в числе нескольких других опытных пассажиров ехал наш герой. Сопровождал ли его в этой поездке полицейский филер, мы не знаем, поскольку жандармских донесений «о передвижениях мещанина Жаботинского (кличка Бритый)» из центра Одессы за город в «Дневниках полицейских управлений» не сохранилось. Но «особый надзор» с него снят не был: как читатель убедится чуть дальше, этот надзор еще и усилится, обернувшись заключением в тюремную крепость…
Однако ни о каком надзоре юный Жабо все еще не догадывался, а под предлогом «срочной необходимости» поговорить с Сергеем, братом Маруси, позволил себе отправиться к Мильгромам на дачу. Ведь Анна Михайловна сама пригласила его туда еще на вечере в «Литературке». И вообще, мало ли в чем мы клянемся себе по ночам! Днем, при ярком солнечном свете, ночные кошмары и искушения тают, как утренний туман над Ланжероном. Ну что страшного в том, что он еще раз увидит эту Марусю? А то он не видел красивых девиц! И разве не было у него в Риме двух красивых жгучих итальянок?..
Восьмая станция Фонтана… Девятая…
Последний, четвертый, вагончик безбожно раскачивало из стороны в сторону, мещане среднего сословия крепко держались за вертикальные стойки и поручни, и Владимир, глядя на проплывающие по сторонам хатки и домики с садиками и огородами, усилием воли заставил себя отвлечься от мыслей о сладостях своих римских увлечений, стал прикидывать, как в следующем фельетоне описать это путешествие на «Ваньке Головатом».
– Як тоби до хлебника Мильгрома, то отут и прыгай, – посоветовал ему кондуктор.
Жабо так и сделал: чуть оттолкнувшись от деревянных поручней, чтоб погасить инерцию движения, легко спрыгнул с подножки вагона в придорожную пыль и лушпайку. Через тридцать лет этой «лушпайке» он посвятит целый гимн, который нельзя тут не процитировать:
Символ плебейства, с презрением скажут хулители, но это не так просто. На Десятой станции я видел не раз, как самые утонченные модницы, директора банков, жандармские ротмистры и подписчики толстых журналов брали в левую руку «фунтик» из просаленной бумаги, двумя перстами правой черпали из него семечки подсолнуха, и изысканный разговор их превращался в мерную речь с частыми цезурами в виде пауз для сплевывания лушпайки. Этот обряд объединял все классы, барыню и горничную, паныча и дворника… Характернейшей чертою Десятой станции было то, что все там лузгали «семочки» (никогда и никто у нас этого слова иначе не произносил), и любили это занятие, и под аккомпанемент его заключали договоры, обсуждали идеи, изливали влюбленную душу и молили о взаимности…
Но опустим эти лушпайско-плебейские подробности. Анна Михайловна обрадовалась приезду знаменитого Альталены и сама повела его по даче – двухэтажной вилле с пристройками, с обширным двором в зарослях акации и сирени, с гамаками, площадкой для крокета и спуском к морю. По случаю последнего теплого октябрьского воскресенья на даче оказалось полно гостей – студенты, экстерны[5 - Экстерн – (до революции) студент учебного заведения, живущий на частной квартире.] с галстуками в крахмальных воротничках, молодые журналисты, одинаковые мать и дочь Нюра с Нютой, двое белоподкладочников[6 - Студент из богатой семьи, в мундире на белой подкладке.], дальний племянник Анны Михайловны двадцативосьмилетний фармацевт из Овидиополя по имени Самойло Козодой, все тот же усатый, в морском кителе, офицер Алексей Руницкий и даже Лазарь Кармен.
Огненно-рыжая Маруся была, конечно, в центре гостей. Без всяких попыток «занимать», – вдруг подумал Владимир, – одним внутренним магнетизмом она держит их вокруг себя, как солнце держит планеты всей своей Солнечной системы. И похоже, от ее присутствия им всем тут уютно и весело, все как-то легко смеются и чувствуют себя как дома.
Но стоп! Он не должен снова поддаться чарам этой красотки! Он не станет еще одним Плутоном или Ураном в ее системе! Ведь вся ее «сдобная» красота, и дерзкое остроумие, и сексуально-низкий голос – все служит одной цели: постоянно купаться в мужском обожании и каждого встречного вербовать в ряды своих обожателей…
Впрочем, есть тут и экстерн поодаль от Марусиной компании. Одетый в темную «горьковскую» косоворотку марксиста-анархиста, он и Марусина младшая сестра Лика – холодная, вызывающе дурно одетая и непричесанная – сидят поодаль и волками смотрят на всех присутствующих…
А в тенистой беседке, поодаль от молодежи, хозяин дома Игнац Альбертович играет в карты с пожилыми хлеботорговцами.
– Хлебники, – издали сказала про них Анна Михайловна. – Меж собой братья. Но одного зовут Абрам Моисеевич, а второго Борис Маврикиевич.
– Как же так? Братья? – удивился Владимир.
– Родные братья, – улыбнулась Анна Михайловна. – Просто придумали себе разные отчества, потому что и в характерах разные…
Но и в молодежной компании, и у пожилых картежников разговоры были о том же – за крестьянские бунты не только на Украине, но уже и в Поволжье. В прессе про то не было, конечно, ни слова, но всезнающий Кармен уверенно перечислял губернии, где «красный петух» уже гулял по барским усадьбам: Киевская, Орловская, Черниговская, Курская, Саратовская, Пензенская и Рязанская…
А морской офицер грамотно объяснял:
– Простой народ голодает с прошлогоднего неурожая. Если не дать крестьянам землю – сами возьмут…
Этот Руницкий, явно влюбленный в Марусю, был тут единственный русский, и Жаботинский подумал, что надо и про это написать в «Тоске по патриотизму»: как ни пытаемся мы ассимилироваться в России да обруситься, а ничего из этого никогда не выйдет, и всегда это будет врозь – русские дома для русских, а еврейские для евреев… Кстати, о том же говорила Анна Михайловна, продолжая экскурсию Жаботинского по даче:
– У нас гостеприимство не русское, активно-радушное, «милости просим». А скорее из обряда еврейской Пасхи: «всякий, кому угодно, да придет и ест». Игнац Альбертович, мой супруг, выражает это на языке своего житомирского детства: «А гаст? Мит-н коп ин ванд!..»
– «Гость? Хоть головой об стенку!» – перевел Владимир. – Делай, что хочешь?
Анна Михайловна засмеялась: