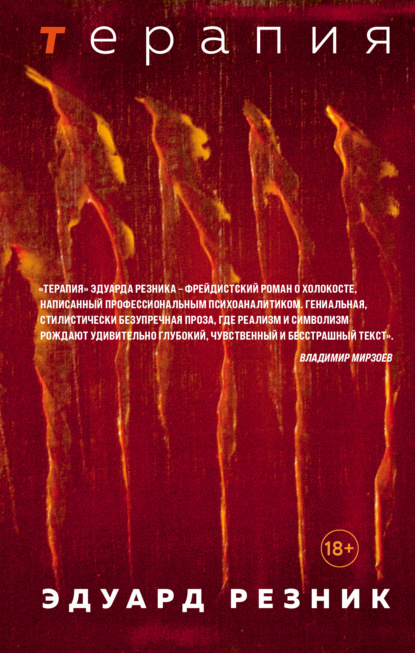По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Терапия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– У родителей мальчика денег нет.
– Тогда убейте его, и кровь не понадобится.
Фрау Шох молчала. Я тоже молчал. Ее трясло от злости и отчаяния. Я видел, что ей так хочется спасти этого ребенка, что она готова даже ударить меня.
Разумеется, она понимала, что перед ней не бутылка с редкой кровью, а живой человек. Она понимала, что это моя кровь, и распоряжаться ею буду только я. Но такой ли уж великой ценностью я распоряжался? Такой ли уж великой ценностью мог я себя ощутить, если стоял сейчас под нетерпеливым взглядом отвергнувшей меня женщины – такой злой, такой взволнованной – и безошибочно понимал, что стремление у нее только одно – чтобы кровь из кого-то менее ценного, стоящего тут перед нею, как можно скорее перетекла бы в кого-то более ценного, кто лежит где-то этажом выше, и из кого жизнь сейчас капля за каплей утекает с каждой минутой…
* * *
Я никогда не видел ребенка, о котором шла речь. Жить ему, разумеется, было совершенно незачем. Как и всем, кто его окружает. Включая меня, конечно. Я понимал, что волею случая жизнь его оказалась именно в моих руках, и я вроде бы не имею права использовать это обстоятельство для того, чтобы принудительно направить умирающего туда, где ему будет явно лучше. Но мне плевать на право, я продолжал стоять на месте.
Злая кобыла продолжала смотреть на меня. Ее бедра вздрагивали. Из ноздрей вырывался воздух. Мы, наверное, уже должны были бежать куда-то по коридору, но я не собирался никуда бежать. Что-то бесило меня ужасно. Наверное, я просто хотел отомстить этому четырехлетнему ребенку. Почему вокруг него все бегают, а вокруг меня не бегает никто? Почему его жизнь имеет для всех значение, а моя не имеет? Какого черта моя кровь должна перетечь в кого-то другого? Почему из меня все время что-то выкачивают? Когда мое останется мне? Почему этого маленького фюрера все любят и дружно пытаются спасти? Каким фокусом этот фюрер с такой легкостью собирает вокруг себя взволнованные толпы? Чем он лучше меня?.. Чем он ценнее?.. Он даже рыбу разделать нормально не умеет!
Все эти мысли не помешали понять, что я не хочу терять дружбу этой желтозубой лошади, и даже более того – не хочу отнимать жизнь у проклятого детеныша.
– Ладно, пойдем… – нехотя сказал я, и мы побежали по больничному коридору.
Спустя несколько секунд я уже лежал с закрытыми глазами на кушетке в комнате переливания крови. Около меня возилась со шприцем пожилая медсестра Гудрун – плотная, коренастая, с толстой шеей и красной сетью кровеносных сосудов на пухлых щеках. Откуда в ней столько крови? Пациенты уходят от нее бледные, обескровленные, шатаются, держатся за стены, в то время как она всегда красна, полна сил и лопается от гипертонии. Тайно добавляет в свой шнапс кровь из пробирок?
– Отличная вена… – пробормотала Гудрун. – Голова не кружится?
Я не ответил. Я и сам знаю, что вена у меня отличная – я ее когда-то резал; впрочем, неудачно – остался жив. И все из-за того, что слишком хорошая вена.
Коричневая кровь начала наполнять пробирку. Интересно, кому эта кровь достанется – раненому ребенку или алчной Гудрун? Я смотрел на пробирку и недоумевал – мне почему-то показалось, что эта кровь не моя. Но тогда чья же?
– А теперь займемся девушкой… – тихо сказала Гудрун.
Я оглянулся. На соседней кушетке лежала девушка. Ее острая грудь смотрела вверх – к потолку. Мне захотелось запрыгнуть на ее кушетку одним прыжком, прямо с пола, после чего весело посмотреть ей в глаза. Разумеется, девушку это ужасно развеселило бы. Без всякого сомнения, она была бы счастлива – я ведь уже говорил вам о том, какой я, в общем-то, красавчик. Но эти трубки, по которым текла сейчас моя-не-моя кровь – они привязывали меня к кушетке и исключали всякую романтическую возможность быть неожиданным, быстрым и веселым.
Гудрун сосредоточенно вколола иголку девушке в вену. Девушка вскрикнула, побледнела. Я громко рассмеялся. Гудрун поднесла к ее носу нюхательную соль. Девушка задышала глубже, скосила взгляд в мою сторону. В ее глазах блестели слезы.
– Зачем вы на меня смотрите? Не видели таких красавиц? – спросила она.
– Видел и получше. Могу не смотреть… – Я отвернулся, уставился в потолок, снова закрыл глаза.
– Вы здесь работаете? – спросила она.
– Да, – сказал я, не открывая глаз.
– Кем?
– По ночам убиваю тяжелых пациентов. Больнице нужны места для новых.
– А я приходила навестить бабушку, – как ни в чем не бывало сказала девушка. – Она приехала к нам погостить и попала в больницу… Я сдавала для нее кровь, а тут привезли этого мальчика. И оказалось, что моя кровь подходит. Как вас зовут?
– Рихард.
– А я Аида.
Гудрун вытащила из нас иголки, быстро смазала наши руки спиртом.
– У вас редкая группа, – сказала Гудрун, не обращаясь ни к кому конкретно. – Если вы подошли для этого ребенка, значит, сможете спасти и друг друга – если ситуация возникнет… Так что советую вам не теряться.
Я усмехнулся. Если старая Гудрун лезет не в свое дело и пытается свести меня с этой девушкой, значит, Гудрун сама хочет со мной переспать. Почему все страшилища мира лезут в мою жизнь? Почему даже кровавая вампирша Гудрун, которая весит как я умножить на четыре и от которой один за другим поуходили к другим теткам все ее обескровленные мужья, не может смириться с моим одиночеством и всегда подсовывает мне кого-то: то невзрачную санитарку из южного коридора, то похожую на мышь очкастую служащую из больничной конторы? Та мышь даже ни разу на меня не взглянула – потому что глаза у нее всегда в пол. Не лучше ли Гудрун заняться собственным одиночеством, а мое оставить в покое?
– Если ситуация возникнет, меня спасать не надо, – сказал я, слез с кушетки и ушел. В зеркало увидел, что Аида растерянно смотрит вслед. Закрывая за собой дверь, услышал тихий голос Гудрун:
– Не бери в голову. Он у нас псих.
* * *
Я вышел из больницы и пошел по улице. Мешковатая одежда болталась на мне, как на скелете, но мне нравилось: оставляло свободу движений, даже почему-то захотелось подпрыгнуть. И я подпрыгнул. На ветке дерева сидела птица с ярко-красной головой. Испугавшись прыжка, птица улетела, но из-за того что я засмотрелся на нее, не заметил, как натолкнулся на крупного усатого полицейского. Тот бесцеремонно отбросил меня прочь. Я отлетел в сторону и тут понял, чем объяснялся его грубый толчок – четверо хмурых крепких рабочих в напряжении несли длинную чугунную трубу: если бы они ее выронили, она раздавила бы им ноги. Вообще-то, она могла ударить и меня, но позже я объясню вам, почему их ноги имели для человечества гораздо большее значение, чем мои.
Спустя минут двадцать я поздоровался со злой кривозубой консьержкой, которая сидела у нас на первом этаже, и поднялся на четвертый этаж, где арендовал комнату после смерти мамы. Комната была маленькой – почти всю продольную стену занимала кровать, в углу стоял шкаф, у окна стол и еще оставалась узкая полоса свободного пола. Для стула места не было, поэтому не было и стула.
– Привет, мам… – бросил я, аккуратно вешая мешковатый пиджак на спинку кровати.
Никто не ответил.
Этот пиджак никогда мне не нравился, но только сегодня я почему-то впервые осмелился подумать об этом.
– Знаешь, я, конечно, понимаю, что это твой подарок… Но он мне велик… И еще – ты сказала, что он почти неношеный, а на самом деле это просто лохмотья…
Я бросил взгляд на стоявшую на столе черно-белую фотографию нервной, худой, красивой женщины – это была моя мама.
– Пока ты была жива, я стеснялся сказать тебе об этом… Но как только у меня появятся деньги, я его выброшу. Ты же не против?
Портрет молчал. Я не понимаю небесного отца нашего. Как может он создавать таких красивых женщин, как моя мама, и одновременно с этим – таких, как консьержка внизу? Они несоизмеримы, они просто с разных планет. Я считаю, что ему надо воздерживаться от крайностей – либо от чего-то одного, либо от чего-то другого. Ну, или развести их по разным планетам – зачем это неравенство? Зачем такое опасное взаимораздражающее соседство?
А вот еще один вопрос к небесному отцу нашему: как можно создать такую красоту и вместе с этим не предусмотреть для нее денег? Вообще-то, чемодан денег должен полагаться не только красоте. Кривозубой консьержке тоже. Красоте нужен чемодан денег, чтобы выжить и остаться красотой. А консьержке он нужен в компенсацию того, чем она оказалась обделена. Тогда консьержка не будет такой злой, и всем окружающим тоже будет легче. Например, евреям. Консьержка круглосуточно бредит идеями фюрера и следит за тем, чтобы на ее территории евреи и немцы не имели никаких телесных контактов. Хотя никто ей за это не доплачивает. Не случайно же?
Я попытался посмотреть на эту проблему глазами фюрера, и мне показалось, что, если у консьержки появится чемодан денег, ее больше не будет интересовать никакой фюрер. Она просто уедет в тихий замок, выправит себе зубы, станет уважаемой дамой и начнет мучиться смыслом жизни.
Она больше не будет утруждать себя злым и суетливым отловом евреев по подворотням. Никакие идеи фюрера больше не будут казаться ей волшебными. Может, поэтому и устроено так, чтобы ни у какой консьержки не оказался чемодан денег? Ведь если у каждой консьержки такой чемодан окажется, кто же будет слушать фюрера, следовать его великим идеям и строить великую Германию?
Так и не разрешив этой проблемы, я повалился в одежде на кровать. Мама всегда запрещала мне падать на кровать в одежде. Но теперь мамы не было. Ее смерть принесла горе, одиночество, но одновременно – свободу. Да, и еще чувство вины – за ту радость, которую я испытываю от этой свободы. Ну и еще одно, отдельное, дополнительное чувство вины – за то, что я убил ее.
Вспомнилась та девушка, которую я встретил сегодня на сдаче крови. Зачем я ушел? Надо было познакомиться. Нет, правильно ушел: полюбит, а потом не отвяжется.
– Сегодня познакомился с одной девчонкой… – сказал я маме. – Но это не то, что мне надо.
Я посмотрел на часы. До встречи еще целый час, а жил он минутах в десяти от меня. Так что можно пока почитать – про одного парня, который мне интересен. «Страдания юного Вертера» Гете. Эта книга мысленно всегда со мной – даже когда я в морге или в рыбном цеху. Сейчас я взял ее с прикроватной тумбочки и открыл на закладке.
* * *
Солнце уже клонилось к закату, когда я шел в своем мешковатом пиджаке по улице. Позади послышался резкий гудок машины. Я отпрыгнул, хотя шел по тротуару. Представляю, как смешно и нелепо это выглядело! Те, кто находился рядом, сохраняли важность и продолжали свое степенное движение. Как им удается не реагировать на резкие звуки? Какого черта я такой нервный?
Мимо проехала дорогая открытая машина – это она издала гудок. В ней сидели смеющиеся парни и девушки моего возраста. Одна из девушек – светловолосая – помахала мне. Какого черта? Разумеется, я не ответил. Зачем? Она же видела, как по-дурацки я отпрыгнул. И видела пиджак мой дурацкий. Разве не ясно ей про меня все?
– Тогда убейте его, и кровь не понадобится.
Фрау Шох молчала. Я тоже молчал. Ее трясло от злости и отчаяния. Я видел, что ей так хочется спасти этого ребенка, что она готова даже ударить меня.
Разумеется, она понимала, что перед ней не бутылка с редкой кровью, а живой человек. Она понимала, что это моя кровь, и распоряжаться ею буду только я. Но такой ли уж великой ценностью я распоряжался? Такой ли уж великой ценностью мог я себя ощутить, если стоял сейчас под нетерпеливым взглядом отвергнувшей меня женщины – такой злой, такой взволнованной – и безошибочно понимал, что стремление у нее только одно – чтобы кровь из кого-то менее ценного, стоящего тут перед нею, как можно скорее перетекла бы в кого-то более ценного, кто лежит где-то этажом выше, и из кого жизнь сейчас капля за каплей утекает с каждой минутой…
* * *
Я никогда не видел ребенка, о котором шла речь. Жить ему, разумеется, было совершенно незачем. Как и всем, кто его окружает. Включая меня, конечно. Я понимал, что волею случая жизнь его оказалась именно в моих руках, и я вроде бы не имею права использовать это обстоятельство для того, чтобы принудительно направить умирающего туда, где ему будет явно лучше. Но мне плевать на право, я продолжал стоять на месте.
Злая кобыла продолжала смотреть на меня. Ее бедра вздрагивали. Из ноздрей вырывался воздух. Мы, наверное, уже должны были бежать куда-то по коридору, но я не собирался никуда бежать. Что-то бесило меня ужасно. Наверное, я просто хотел отомстить этому четырехлетнему ребенку. Почему вокруг него все бегают, а вокруг меня не бегает никто? Почему его жизнь имеет для всех значение, а моя не имеет? Какого черта моя кровь должна перетечь в кого-то другого? Почему из меня все время что-то выкачивают? Когда мое останется мне? Почему этого маленького фюрера все любят и дружно пытаются спасти? Каким фокусом этот фюрер с такой легкостью собирает вокруг себя взволнованные толпы? Чем он лучше меня?.. Чем он ценнее?.. Он даже рыбу разделать нормально не умеет!
Все эти мысли не помешали понять, что я не хочу терять дружбу этой желтозубой лошади, и даже более того – не хочу отнимать жизнь у проклятого детеныша.
– Ладно, пойдем… – нехотя сказал я, и мы побежали по больничному коридору.
Спустя несколько секунд я уже лежал с закрытыми глазами на кушетке в комнате переливания крови. Около меня возилась со шприцем пожилая медсестра Гудрун – плотная, коренастая, с толстой шеей и красной сетью кровеносных сосудов на пухлых щеках. Откуда в ней столько крови? Пациенты уходят от нее бледные, обескровленные, шатаются, держатся за стены, в то время как она всегда красна, полна сил и лопается от гипертонии. Тайно добавляет в свой шнапс кровь из пробирок?
– Отличная вена… – пробормотала Гудрун. – Голова не кружится?
Я не ответил. Я и сам знаю, что вена у меня отличная – я ее когда-то резал; впрочем, неудачно – остался жив. И все из-за того, что слишком хорошая вена.
Коричневая кровь начала наполнять пробирку. Интересно, кому эта кровь достанется – раненому ребенку или алчной Гудрун? Я смотрел на пробирку и недоумевал – мне почему-то показалось, что эта кровь не моя. Но тогда чья же?
– А теперь займемся девушкой… – тихо сказала Гудрун.
Я оглянулся. На соседней кушетке лежала девушка. Ее острая грудь смотрела вверх – к потолку. Мне захотелось запрыгнуть на ее кушетку одним прыжком, прямо с пола, после чего весело посмотреть ей в глаза. Разумеется, девушку это ужасно развеселило бы. Без всякого сомнения, она была бы счастлива – я ведь уже говорил вам о том, какой я, в общем-то, красавчик. Но эти трубки, по которым текла сейчас моя-не-моя кровь – они привязывали меня к кушетке и исключали всякую романтическую возможность быть неожиданным, быстрым и веселым.
Гудрун сосредоточенно вколола иголку девушке в вену. Девушка вскрикнула, побледнела. Я громко рассмеялся. Гудрун поднесла к ее носу нюхательную соль. Девушка задышала глубже, скосила взгляд в мою сторону. В ее глазах блестели слезы.
– Зачем вы на меня смотрите? Не видели таких красавиц? – спросила она.
– Видел и получше. Могу не смотреть… – Я отвернулся, уставился в потолок, снова закрыл глаза.
– Вы здесь работаете? – спросила она.
– Да, – сказал я, не открывая глаз.
– Кем?
– По ночам убиваю тяжелых пациентов. Больнице нужны места для новых.
– А я приходила навестить бабушку, – как ни в чем не бывало сказала девушка. – Она приехала к нам погостить и попала в больницу… Я сдавала для нее кровь, а тут привезли этого мальчика. И оказалось, что моя кровь подходит. Как вас зовут?
– Рихард.
– А я Аида.
Гудрун вытащила из нас иголки, быстро смазала наши руки спиртом.
– У вас редкая группа, – сказала Гудрун, не обращаясь ни к кому конкретно. – Если вы подошли для этого ребенка, значит, сможете спасти и друг друга – если ситуация возникнет… Так что советую вам не теряться.
Я усмехнулся. Если старая Гудрун лезет не в свое дело и пытается свести меня с этой девушкой, значит, Гудрун сама хочет со мной переспать. Почему все страшилища мира лезут в мою жизнь? Почему даже кровавая вампирша Гудрун, которая весит как я умножить на четыре и от которой один за другим поуходили к другим теткам все ее обескровленные мужья, не может смириться с моим одиночеством и всегда подсовывает мне кого-то: то невзрачную санитарку из южного коридора, то похожую на мышь очкастую служащую из больничной конторы? Та мышь даже ни разу на меня не взглянула – потому что глаза у нее всегда в пол. Не лучше ли Гудрун заняться собственным одиночеством, а мое оставить в покое?
– Если ситуация возникнет, меня спасать не надо, – сказал я, слез с кушетки и ушел. В зеркало увидел, что Аида растерянно смотрит вслед. Закрывая за собой дверь, услышал тихий голос Гудрун:
– Не бери в голову. Он у нас псих.
* * *
Я вышел из больницы и пошел по улице. Мешковатая одежда болталась на мне, как на скелете, но мне нравилось: оставляло свободу движений, даже почему-то захотелось подпрыгнуть. И я подпрыгнул. На ветке дерева сидела птица с ярко-красной головой. Испугавшись прыжка, птица улетела, но из-за того что я засмотрелся на нее, не заметил, как натолкнулся на крупного усатого полицейского. Тот бесцеремонно отбросил меня прочь. Я отлетел в сторону и тут понял, чем объяснялся его грубый толчок – четверо хмурых крепких рабочих в напряжении несли длинную чугунную трубу: если бы они ее выронили, она раздавила бы им ноги. Вообще-то, она могла ударить и меня, но позже я объясню вам, почему их ноги имели для человечества гораздо большее значение, чем мои.
Спустя минут двадцать я поздоровался со злой кривозубой консьержкой, которая сидела у нас на первом этаже, и поднялся на четвертый этаж, где арендовал комнату после смерти мамы. Комната была маленькой – почти всю продольную стену занимала кровать, в углу стоял шкаф, у окна стол и еще оставалась узкая полоса свободного пола. Для стула места не было, поэтому не было и стула.
– Привет, мам… – бросил я, аккуратно вешая мешковатый пиджак на спинку кровати.
Никто не ответил.
Этот пиджак никогда мне не нравился, но только сегодня я почему-то впервые осмелился подумать об этом.
– Знаешь, я, конечно, понимаю, что это твой подарок… Но он мне велик… И еще – ты сказала, что он почти неношеный, а на самом деле это просто лохмотья…
Я бросил взгляд на стоявшую на столе черно-белую фотографию нервной, худой, красивой женщины – это была моя мама.
– Пока ты была жива, я стеснялся сказать тебе об этом… Но как только у меня появятся деньги, я его выброшу. Ты же не против?
Портрет молчал. Я не понимаю небесного отца нашего. Как может он создавать таких красивых женщин, как моя мама, и одновременно с этим – таких, как консьержка внизу? Они несоизмеримы, они просто с разных планет. Я считаю, что ему надо воздерживаться от крайностей – либо от чего-то одного, либо от чего-то другого. Ну, или развести их по разным планетам – зачем это неравенство? Зачем такое опасное взаимораздражающее соседство?
А вот еще один вопрос к небесному отцу нашему: как можно создать такую красоту и вместе с этим не предусмотреть для нее денег? Вообще-то, чемодан денег должен полагаться не только красоте. Кривозубой консьержке тоже. Красоте нужен чемодан денег, чтобы выжить и остаться красотой. А консьержке он нужен в компенсацию того, чем она оказалась обделена. Тогда консьержка не будет такой злой, и всем окружающим тоже будет легче. Например, евреям. Консьержка круглосуточно бредит идеями фюрера и следит за тем, чтобы на ее территории евреи и немцы не имели никаких телесных контактов. Хотя никто ей за это не доплачивает. Не случайно же?
Я попытался посмотреть на эту проблему глазами фюрера, и мне показалось, что, если у консьержки появится чемодан денег, ее больше не будет интересовать никакой фюрер. Она просто уедет в тихий замок, выправит себе зубы, станет уважаемой дамой и начнет мучиться смыслом жизни.
Она больше не будет утруждать себя злым и суетливым отловом евреев по подворотням. Никакие идеи фюрера больше не будут казаться ей волшебными. Может, поэтому и устроено так, чтобы ни у какой консьержки не оказался чемодан денег? Ведь если у каждой консьержки такой чемодан окажется, кто же будет слушать фюрера, следовать его великим идеям и строить великую Германию?
Так и не разрешив этой проблемы, я повалился в одежде на кровать. Мама всегда запрещала мне падать на кровать в одежде. Но теперь мамы не было. Ее смерть принесла горе, одиночество, но одновременно – свободу. Да, и еще чувство вины – за ту радость, которую я испытываю от этой свободы. Ну и еще одно, отдельное, дополнительное чувство вины – за то, что я убил ее.
Вспомнилась та девушка, которую я встретил сегодня на сдаче крови. Зачем я ушел? Надо было познакомиться. Нет, правильно ушел: полюбит, а потом не отвяжется.
– Сегодня познакомился с одной девчонкой… – сказал я маме. – Но это не то, что мне надо.
Я посмотрел на часы. До встречи еще целый час, а жил он минутах в десяти от меня. Так что можно пока почитать – про одного парня, который мне интересен. «Страдания юного Вертера» Гете. Эта книга мысленно всегда со мной – даже когда я в морге или в рыбном цеху. Сейчас я взял ее с прикроватной тумбочки и открыл на закладке.
* * *
Солнце уже клонилось к закату, когда я шел в своем мешковатом пиджаке по улице. Позади послышался резкий гудок машины. Я отпрыгнул, хотя шел по тротуару. Представляю, как смешно и нелепо это выглядело! Те, кто находился рядом, сохраняли важность и продолжали свое степенное движение. Как им удается не реагировать на резкие звуки? Какого черта я такой нервный?
Мимо проехала дорогая открытая машина – это она издала гудок. В ней сидели смеющиеся парни и девушки моего возраста. Одна из девушек – светловолосая – помахала мне. Какого черта? Разумеется, я не ответил. Зачем? Она же видела, как по-дурацки я отпрыгнул. И видела пиджак мой дурацкий. Разве не ясно ей про меня все?
Другие аудиокниги автора Эдуард Григорьевич Резник
Терапия




 0
0