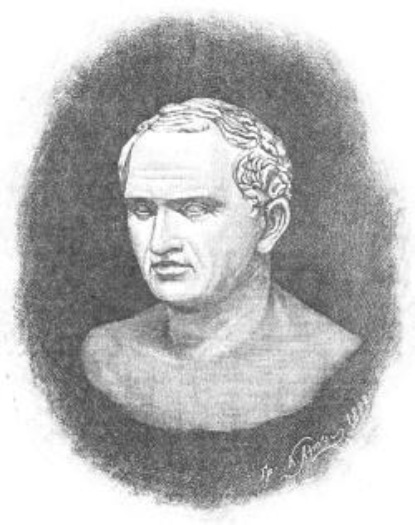По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Марк Туллий Цицерон. Его жизнь и деятельность
Автор
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Марк Туллий Цицерон. Его жизнь и деятельность
Федора Ароновича Орлов
Жизнь замечательных людей
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
Е. Орлов
Марк Туллий Цицерон
Его жизнь и деятельность
Биографические очерки
С портретом Цицерона, гравированным в Петербурге К. Адтом, и другими иллюстрациями
Глава I
Наши сведения о Цицероне и разногласия в оценке его личности и деятельности. – Рождение и семья. – Воспитание и образование. – Выступление на публичное поприще. – Оппозиция Сулле. – Поездка в Грецию. – Дружба и переписка с Аттиком. – Его популярность в Риме. – Начало государственной деятельности. – Квесторство в Сицилии. – Верресов процесс: хищническая карьера Верреса, обвинения против него, разбор дела и успех Цицерона. – Verrinae. – Эдильство Цицерона. – Выступление его в качестве политического оратора. – Манилиев закон. – Кандидатура на консульство и измена демократии. – Оппозиция Сервилию Руллу. – Заговор Катилины. – Личность Катилины, его политическая программа, кандидатура и революционные планы. – Оппозиция Цицерона. – Приемы борьбы. – Первая речь против Катилины. – Ошибка Пентулла. – Фиаско заговора. – Популярность Цицерона
Ни с кем из выдающихся личностей древности мы так близко, так частно не знакомы, как с Марком Туллием Цицероном, величайшим римским оратором и писателем. В то время, как значительное большинство первых проходит мимо наших взоров более или менее ясными профилями, обращенными к нам лишь той стороной, на которую пал ревнивый свет истории, образ Цицерона мы в состоянии восстановить во всей яркости и всесторонности живой личности, какою он являлся в действительности, в глазах современников и своих. Этим мы обязаны, помимо многочисленных его речей и сочинений, главным образом дошедшей до нас обширной – свыше 800 писем – переписке его с друзьями, которая по обилию заключающихся в ней данных представляет первоклассный автобиографический документ. Благодаря этой переписке мы знаем Цицерона не только как публичного деятеля – политика, адвоката и писателя, но и как частное лицо – мужа, отца, брата и друга, и мы застаем его не только на ораторской трибуне, где-нибудь в сенате, суде и на форуме, но и в тесном кругу его близких и домашних, в интимной обстановке его дворцов и вилл, погруженным то в профессиональные занятия, то в изучение своих любимых авторов, то, наконец, в хлопоты и дрязги будничной жизни. Начиная с 68 года – с того момента, как начинается его переписка – ни одно событие его многосторонней жизни не ускользает от наших взоров: нам известен каждый его шаг, нам знакомо каждое движение его души, мы знаем все его мечты и опасения, радости и горе. Для нас Цицерон как древний римлянин отступает на задний план; живописно наброшенная тога, величественно протянутая длань и прочие аксессуары классического героя исчезают бесследно, и их место занимает фигура человека, почти столь же близкого к нам по плоти и крови, как если бы он жил многими веками позже.
Но несмотря на это, несмотря на разнообразие и точность имеющихся у нас биографических сведений, личность и деятельность Цицерона являются предметом ожесточенных споров и разногласий для большинства историков и биографов. Одни, а именно немецкая историческая школа с Друманном и Моммзеном во главе, отрицают за Цицероном какие бы то ни было достоинства и заслуги не только в качестве политического деятеля, но и в качестве оратора и писателя: человек без талантов и без убеждений, он был не более, чем “политический флюгер” и “газетный памфлетист”, у которого в распоряжении было несравненно больше слов, нежели идей. Другие же, большей частью французы, возглавляемые Гастоном Буассье, рыцарски поднимают брошенную немцами перчатку и с самоотверженностью, достойной подражания в лучшем деле, стараются защитить Цицерона от нападок его противников: они выдвигают на первый план его симпатичные стороны, оттеняя его добродетели частного лица, и покрывают блистательным лоском его публичную карьеру, оправдывая ее очевидные изъяны “некоторой бесхарактерностью” и сами эти изъяны называя благозвучными именами “заблуждений” и “промахов”. Мы не станем вдаваться в разбирательство этих приговоров и исследование причин их разногласия; мы лишь позволим себе выразить свою солидарность с мнением Моммзена, поскольку оно касается политической деятельности нашего героя, и вместе с тем заявить свое несогласие с тем умалением ораторских талантов Цицерона и его заслуг в философии и литературе, на какое решается знаменитый историк Рима. Наше мнение не эклектическое: мы и не думаем подписываться под дифирамбами, щедрою рукою расточаемыми Буассье и другими; мы лишь считаем приговор Моммзена слишком прямолинейным и желаем воздать suum cuique.
Марк Туллий Цицерон родился 3 января 106 года до Р. X. в наследственном поместье, расположенном неподалеку от небольшого, но живописного городка Арпин. Как известно, из этого же города происходил и знаменитый вождь демократов Марий, и это обстоятельство давало впоследствии повод многим льстецам нашего героя заявлять, что Арпин дал отечеству двух его спасителей. Семья Цицерона была одна из тех здоровых провинциальных семей, которые благодаря своему цепкому консерватизму, смышленой практичности, терпению и трудолюбию долгое время являлись ядром нации, создав своими руками обширную Римскую республику, сильную устойчивостью и организацией. Это были зажиточные фермеры, которые, хотя и не насчитывали среди своих членов курульных магистратов, пользовались, тем не менее, значительным уважением и влиянием в околотке, имея кое-какие связи даже в самой столице. Предполагают, что один из предков Цицерона был простой крестьянин, занимавшийся огородничеством: отсюда это плебейское прозвище Cicero – род гороха, – которым так мужественно гордился впоследствии Марк, обещая насмешникам прославить его наравне с аристократическими именами Скавров и Катуллов. Дед его был человеком старого закала, сухим, черствым и крепкоголовым, который ничего так не боялся, как новшеств, и особенно косо посматривал на греческие веяния, в ту пору все более и более распространявшиеся в италийской атмосфере. Его опасения, по-видимому, оправдались еще скорее, чем он ожидал, потому что сын его – отец Марка – был человек уже совсем иного покроя: болезненный, тихий и склонный к размышлению, он под влиянием книг и разговоров стал рано тяготиться мелкопоместной жизнью и мечтать если не самому вырваться из нее, то по крайней мере вытащить оттуда своих детей. Его жена Гельвия, родственница Цинны, сочувствовала ему в этом, и когда оба сына их, Марк Туллий и Квинт, достигли школьного возраста, они решили оставить деревню и переселиться в столицу.
Над мыслью и нравами римского общества тогда неограниченно господствовала эллинская культура с ее философией и религией, литературой и искусством. Греческие ученые и риторы были почти единственными учителями молодежи; их аудитории наполнялись цветом патрицианской знати, их язык стал фешенебельным, и среди богатых горожан было немало таких, которые имели подле себя в качестве руководителя какого-нибудь греческого философа. Естественно, что образование, которое получил молодой Цицерон, было эллинское. За исключением одного Кв. Эллия, у которого он обучался латинской грамматике, все его учителя, по совету знаменитого оратора А. Красса, были выбираемы из греков: с ними он изучал греческий язык и литературу, математику, риторику и философию. Между прочим, одним из них был поэт Архий, которого он позднее защитил от тяжелого обвинения в произвольном присвоении прав римского гражданства. Учился он, по-видимому, блестяще: его способности, любознательность и знания составили ему такую громкую репутацию среди сверстников, что отцы последних часто приходили в школу посмотреть на феноменального мальчика и ставили его в пример своим сыновьям. В 91 году, когда ему исполнилось 15 лет и он, по римскому обычаю, получил мужскую тогу, он к своим прежним занятиям прибавил и изучение юриспруденции и родственных ей наук. Он поступил под руководство авгура Кв. Муция Сцеволы и стал усердно посещать форум, прислушиваясь к политическим и судебным речам. Его занятия были прерваны на год военной службой: он участвовал в войне с восставшими марсиями и состоял адъютантом при главнокомандующем Кв. Помпее Страбоне, отце Помпея Великого. Он, однако, не обнаружил ни военных талантов, ни военных доблестей и решил поэтому искать славы на гражданском поприще в занятиях адвокатурою и политикою. Наступившая затем междоусобная война между Марием и Суллою, в которой человеку таких наклонностей, как Цицерон, не было места, дала ему срок для подготовления к своей профессии: в течение шести лет он работал над философией, правами и риторикой, посещая лекции эпикурейца Федра, слушая риторику у знаменитого Молона, но особенно охотно посещая философа Филона, который недавно приехал из Афин, спасаясь от меча Митридата. Этот Филон стоял во главе Новой Академии – той самой, которую основал Карнеад, приехавший в Италию в качестве посла зимою 156 года и удивлявший простодушных римлян своей блестящей диалектикою и уменьем доказывать тезис и антитезис с одинаковою убедительностью и успехом. По настоянию Катона Старшего, опасавшегося пагубного влияния его искусства на общественную нравственность, его вежливо выпроводили из столицы; но, по-видимому, это искусство пришлось по вкусу значительному большинству, и его преемники встретили лучший прием. К ним стали приходить учиться риторике и диалектике, и к ним пришел наш Цицерон, для которого, как для будущего адвоката, ничто не могло быть полезнее искусства доказывать и отрицать положение с тем же уменьем. Другим его любимым наставником был стоик Диодот, у которого он обучался логике: с ним он заключил тесную дружбу и позднее даже пригласил его жить у себя в доме, где тот и провел остаток своих дней. Но больше всего, естественно, напирал Цицерон на красноречие: он не упускал ни одного случая послушать выдающегося оратора и сам ежедневно упражнялся в составлении декламаций на различные темы. Он изучал лучшие образчики слога и формы, особенно в греческой литературе, и по много раз переводил отрывки из Гомера, Еврипида, Демосфена, Эсхина и Платона. Он сам сочинил трактат по теории красноречия под заглавием: “De inventione Rhetorica”, и написал даже целую поэму в стихах “Марий”, в которой воспевал подвиги этого народного героя. Сцевола провозгласил ее бессмертною, но ученый авгур жестоко ошибался: Цицерон был менее всего поэт, и стихи писал он больше ради упражнения в стиле, нежели из вдохновения.
В 27 лет он выступает, наконец, на публичную арену в качестве адвоката по уголовным и гражданским делам. К сожалению, следы его дебютов до нас не дошли: первая из существующих речей его в защиту Квинция по гражданскому иску относится к 81 г., а первая речь по уголовному делу в защиту Секстия Росция Америнского относится к 80 году. Эта последняя, несмотря на свою незрелость, замечательна во многих отношениях. Тогда был один из самых мрачных периодов в римской истории. Приверженцы Мария были уничтожены, и государственную машину республики захватил в свои руки его противник Сулла. Начались аристократическая реакция и террор. Головы демократов катились, как колосья, их имущество конфисковывалось, их имения разорялись, и друзья их либо расселялись по тюрьмам, либо подвергались изгнанию. Шпионы и убийцы, ободряемые надеждою на добычу, расплодились в неимоверном количестве; интриги и преступления их доходили до наглости, и лучшие люди, особенно из богатых слоев, падали беззащитными жертвами их корысти и своеволия. Одним из таких людей был старик Росций, отец Секстия, владевший тринадцатью виллами, из которых десять, по показаниям сына, стоили, по крайней мере, 250 талантов (талант – 2400 руб.). Хризогон, клеврет и вольноотпущенник Суллы, наживший на имущественных конфискациях огромное состояние, давно уже зарился на эти поместья и, когда старик был однажды утром найден убитым – по наущению ли Хризогона, или нет, мы не знаем – и его имущество продавалось с молотка, он скупил 10 имений за смешную сумму в 2 тыс. драхм (драхма – 40 коп.). Мало того, чтобы замести следы и вместе с тем отнять у сына убитого возможность оспаривать имущество, он через некоего Эруция, негодяя первой руки, возводит на него обвинение в отцеубийстве. Дело было для всех ясно, как Божий день, но никто не имел смелости взять на себя защиту злополучного Росция и выступить против любимцев всесильного диктатора. Напрасно молодой Мессана, блестящий представитель блестящего дома, вместе со знатной матроной из рода Метеллов обещали свое покровительство, – ни один выдающийся адвокат не решался заступиться за обвиняемого и рисковать своей шкурою. Тогда предложил свои услуги молодой и неизвестный Цицерон; в речи, полной остроумия и сарказмов по адресу Хризогона, он доказал невиновность Секстия и добился его оправдания.
Это cause celebre сразу доставило юному адвокату популярность и славу. Мужество, с каким он выступил в таком опасном деле, и прозрачные намеки, которые он делал на тиранию диктатора, на бесчестие и хищничество его агентов, на ужасы проскрипций и другие темные стороны тогдашнего режима, приобрели ему широкую известность даже в народных кругах. Правда, Сулла и не думал его трогать: он был слишком велик и тактичен, чтоб замечать нападки незначительного адвоката; но Цицерон все-таки имел основание принимать позу героя и защитника народных интересов. Быть может, он искренне увлекался либеральными веяниями момента, – тогда как раз начиналась тайная реакция против правления диктатора; но, быть может, имел место и простой расчет, побуждавший его стать на ту сторону, куда все более и более склонялась сила. Ему нужно было во что бы то ни стало сделаться популярным и добиться положения и должностей, и, видя грядущее банкротство аристократии, он, естественно, кинулся в объятия демократии. Как бы то ни было, но вплоть до своего консульства он продолжал стоять на стороне народа. В следующем же году после процесса Росция ему вновь пришлось выказать свое гражданское мужество по поводу дела одной уроженки Арреция: жители этого города были лишены Суллою гражданских прав, и женщине этой, имевшей в Риме какую-то тяжбу, в силу этого отказано было в суде. В защиту ее поднялся Цицерон и смело принялся доказывать, что лишение Арреция его прав было актом своевольным, противозаконным, а потому и недействительным. Несмотря на то, что ему приходилось иметь дело с весьма сильным противником в лице знаменитого юриста Котты, он выиграл дело, и клиентка его получила удовлетворение.
Такого рода фрондерство, к тому же, по-видимому, поддерживаемое общественным мнением, было, однако, слишком рискованной игрой, чтобы его можно было долго продолжать безнаказанно: весьма вероятно, что Сулла почувствовал, наконец, некоторое раздражение и дал Цицерону через своих приближенных понять, что ему лучше было бы умолкнуть. Кстати же молодой герой, никогда не отличавшийся крепким сложением, теперь почувствовал переутомление и стал сильно нуждаться в отдыхе. По совету друзей он решил поэтому на некоторое время удалиться с арены и воспользоваться невольным досугом для поправления здоровья и дальнейшего усовершенствования своего ораторского искусства. В 79 году он покидает Италию и в сопровождении брата и некоторых знакомых отправляется в Афины – Париж того времени, центр культуры и науки, занятий и развлечений. Здесь он посещает все исторические места, с которыми связаны те или другие воспоминания, – академические сады Платона, Фалернский берег, где Демосфен некогда упражнял свой голос, гробницу Перикла, – и слушает лекции по философии и красноречию у лучших афинских преподавателей. Между прочим, он встречается здесь с тем самым Т. Помпонием Аттиком, тогда еще, конечно, молодым юношею, к которому обращена значительная и притом наилучшая часть его переписки: он заключает с ним дружбу, редкую по теплоте и лояльности, и продолжает до самой смерти своей делить с ним наиболее задушевные думы и чувства.
Из Афин, прежде чем вернуться на родину, Цицерон поехал в Малую Азию, а оттуда на остров Родос, где, как известно, науки и красноречие культивировались с особенным успехом. Здесь знакомится он со стоиком Посидонием, оставившим значительные следы на его философских симпатиях, и берет опять уроки риторики у Аполлония Молона, с которым встречался уже в Риме. По этому поводу Плутарх рассказывает любопытный анекдот: Молон не знал ни слова по-латыни, и, когда Цицерон зашел к нему, попросил его продекламировать что-нибудь по-гречески. Тот исполнил его желание с таким успехом, что присутствующие были поражены и рассыпались в похвалах. Один Молон сидел молча, погруженный в тяжелые думы. Видя беспокойство нового ученика, он, наконец, заметил ему: “Я, конечно, хвалю и удивляюсь тебе, Цицерон, но меня тревожит судьба Греции. У нее ничего больше не осталось, кроме знаний и красноречия, но и те ты увозишь с собою в Рим”. Мы не отважимся поручиться ни за искренность Молона, ни даже за достоверность самого передаваемого события; тем не менее, сам факт высокой образованности Цицерона, которой делается комплимент в этом анекдоте, не подлежит сомнению; он, бесспорно, был одним из самых выдающихся людей того времени по знанию, красноречию и манерам, и неудивительно, что, когда в 77 году, после смерти Суллы, Цицерон вернулся в Рим, ему сразу удалось занять положение в обществе, в котором соперниками ему могли быть только Гортензий и Котта – двое наиболее популярных адвокатов того времени. В следующем же году, когда ему исполнилось 30 лет, все трибы единогласно выбрали его в квесторы – нечто вроде военных интендантов, заведовавших хозяйственной и податною частью провинциальной администрации. Это был первый шаг в его долгой государственной карьере, на которой ему суждено было пожать столько лавров и роз, но вместе с тем встретить и столько терний, – и нужно признать, молодой деятель отличился так, как редко кому удавалось отличаться в эту корыстную эпоху. Жребий доставил ему Западную Сицилию, давнишнюю житницу Рима и столь же давнишнее поприще для вымогательств и хищничеств со стороны римских администраторов; но новый квестор сумел бескорыстным и искусным правлением заставить провинциалов забыть их прежние страдания и примирить противоположные интересы римских публикан и римского сената. Он аккуратно выплачивал солдатам следуемое им жалованье, он мягко и даже великодушно собирал подати, он вовремя доставил в голодающий Рим прибавочное количество хлеба, скупленного по нормальным рыночным ценам, и участливым обхождением с местным населением приобрел среди него такую популярность, что его отъезд по окончании должного года был всеобщим горем. Ему оказали небывалые почести, ему поднесли публичную благодарность, и почетная гвардия из местной аристократии проводила его до самых пределов Сицилии. Можно смело сказать, что год его правления – 75 до Р. X. – был одним из самых светлых в истории этого злополучного острова, и Цицерон мог по справедливости гордиться своим успехом и своими заслугами.
Если, однако, он думал встретить от своих соотечественников награду за труды, то факты скоро показали ему, что он глубоко ошибался. Высадившись по дороге в Рим на Кампанском берегу и попав в модный курорт Пуццоли, он, уверенный, что глаза сограждан были все время обращены на него, встретил, к своему удивлению, со стороны самых близких ему знакомых полнейшую неосведомленность в его подвигах, совершенное равнодушие к его судьбе и даже незнание того, где и как провел он истекший год. Один думал, что он приехал из Рима, другой – что возвращается из Африки, а третий, узнав от него же, что он был в Сицилии, сердечно поздравил его с успехами… в Сиракузах, главном городе восточной Сицилии! Цицерон был ошеломлен и тут же поклялся никогда больше не покидать Италии: у римского-де народа острое зрение, но тупой слух, и желающий пользоваться плодами трудов своих не должен далеко отходить от него.
События следующих четырех лет его жизни остались нам почти неизвестными; но в 70 году он опять выступает на авансцену – на этот раз с еще большим успехом, нежели прежде: это было по поводу Верресова процесса, одного из самых громких судебных дел древности.
Веррес был бывший правитель Сицилии, на которого разоренные провинциалы принесли жалобу за вымогательство. Без всякого проблеска совести или стыда, но с редким гением по части хищничеств, этот человек, принадлежавший к одной из знатнейших фамилий Рима, давно уже славился как безжалостный грабитель и опустошитель провинций. Он столько же отличился своим квесторством в Азии, сколько преторством в Риме, но его аппетиты и таланты особенно развернулись в бытность его наместником Сицилии. Здесь грабеж его не знал границ: это была целая система, распределенная на три года так, что добыча первого поступала к нему лично, добыча второго шла в карманы друзей и заступников, а добыча третьего предназначалась, на случай процесса, на подкуп преторов, трибунов и консулов. Средства для выполнения этой “программы” у него были разные, но всегда одинаково блестящие. При сдаче, например, хлебных десятин на откуп публиканам, он не только умудрялся заполучить с них двойную сумму против той, которую полагалось отсылать в Рим, но еще при сборе этой десятины получал, в качестве партнера публиканской компании, столько хлеба, что мог отсылать в Италию лишь половину его, оставив другую для себя. Когда же ему приходилось собирать добавочную десятину, за которую государственная казна платила уже по рыночным ценам и высылала для этого огромную сумму в 12 с лишним миллионов сестерциев (сестерций – 10 коп.), он преспокойно клал эти деньги к себе в карман либо отдавал их публиканам в рост по 24 %, получая через вымогательство первой, даровой, десятины столько хлеба, что его хватало и на добавочную, и жертвуя, в случае недостачи, лишь вышеупомянутыми процентами. А то поступал еще проще: нуждаясь, например, однажды в добавочной десятине – несколько миллионов мер, – он вдруг требует вместо натуры денег; но так как рыночная цена была лишь 2 сестерция за меру, то он настаивает и получает по 12 сестерциев, опуская излишек, и 10 сестерциев за меру отправляет к себе в карман.
Конечно, одними хлебными операциями подвиги Верреса не ограничивались: он умел находить и другие средства наживы. Некий Дион, например, получает большое наследство. Узнав об этом, находчивый правитель зовет его к себе и при помощи ложных свидетелей оспаривает у него его права. Напрасно все улики говорят в пользу Диона – ничто не помогает: он должен дать Верресу миллион сестерциев деньгами, массу скота и другого имущества, чтобы замять дело, в котором он был, несомненно, прав. Нечто подобное случилось с двумя братьями из Агирии: 20 лет тому назад они получили наследство, которое теперь вдруг стало оспариваться. Было ясно, как Божий день, что братья правы, но Веррес заставил их дать ему 400 тысяч сестерциев, после чего и постановил решение в их пользу. Но, коротко прибавляет Цицерон, “агирийские братья выиграли процесс так, что вышли из залы суда нищими”.
Подобным хозяйничаньем Веррес за три года разорил Сицилию вконец: вся страна лежала в развалинах, лучшие участки были превращены в пустыню, и население, обнищалое и одичалое, ютилось по берегам, не имея ни крова, ни пищи. Привычное ко всему сердце римского народа содрогнулось при виде такого зрелища; тем не менее Верресу, имевшему за собою Метеллов, Сципионов и других патрициев, быть может, удалось бы увернуться, если бы обжаловавшие его сицилийцы не имели на своей стороне все всадническое сословие, которое в лице его представителей, публикан (откупщиков провинциального фиска), своекорыстный правитель эксплуатировал наряду с покоренным населением, и всю демократию, которая теперь, после падения режима Суллы, вступала в новую борьбу с сенатом и аристократией. Шансы Верреса совсем ухудшились, когда защиту сицилийцев взял на себя Цицерон, знавший остров, как никто, и уже пользовавшийся репутацией первоклассного адвоката. Веррес пробовал смести его с дороги, выдвинув своего экс-квестора Кв. Цецилия Нигера в кандидаты на роль защитника обиженной стороны; но Цицерон в сильной речи перед судом разбил вдребезги нигеровы притязания и обосновал свои собственные. Он был формально утвержден адвокатом сицилийцев и, получив 110 дней для сбора материалов, в сопровождении своего дяди Люция отправился в Сицилию. Здесь, несмотря на препятствия, которые претор Метелл ставил на каждом шагу, ему в два месяца удалось исколесить остров вдоль и поперек и собрать такую массу документов и свидетелей, что уже одно появление его в Риме нагнало трепет на всю сенатскую аристократию. Дело стало разбираться 5 августа в первой инстанции, и Цицерон, опасаясь, как бы Веррес не затянул процесса до следующего года, когда все почти магистраты будут на его стороне, решил повести обвинение так, чтобы обвиняемый понял бесполезность дальнейших попыток и сразу же капитулировал. Он выполнил свое намерение с небывалым успехом: вместо всяких речей он в продолжение девяти дней подвергал свидетелей перекрестному допросу, читал документы и письма, отбирал показания компетентных лиц, приводил факты и оказал такое впечатление на судей и публику, собравшуюся со всех концов римского мира, что сам Гортензий, адвокат Верреса, попробовав было говорить, принужден был замолчать. Цель была достигнута: Веррес отказался от дальнейшей борьбы, ушел в изгнание, и имущество его было конфисковано.
Так окончился этот замечательный процесс. Цицерон был на вершине славы и, не довольствуясь одержанною победой, издал все пять речей, которые он намеревался произносить в случае, если бы Веррес довел дело до второй инстанции. По точности и обилию фактов, по неумолимой логике аргументаций и по блестящей риторической форме эти речи, известные под именем Verrinае, представляют лучшие образчики ораторского искусства в Риме и гордый памятник красноречия самого Цицерона.
Следующий год в жизни нашего героя был годом его эдильства. Заведывая общественной тишиною и порядком, равно как и публичными празднествами, эта магистратура была первая из “курульных” магистратур, открывавших двери сената. Цицерон стал членом последнего, получил на тогу широкую пурпурную кайму, занял курульное кресло и приобрел jus imaginum – право выставлять в своем атриуме (передней зале) бюсты и маски своих предков и проносить их публично на похоронных процессиях. Он дал в течение этого года три праздника за свой счет и роздал народу хлеб, присланный ему в дар благодарными сицилийцами. Как пункт, весьма характерный для эластичной нравственности нашего оратора, следует отметить, что в этом году он защищал Фонтея, бывшего правителя Трансальпийской Галлии, от тех же и столь же основательных обвинений в вымогательстве, какие он с такою страстью бросал в Верреса!
В 66 году он отправлял должность городского претора, избранный на этот пост единодушными кликами народа. Продолжая с прежним успехом заниматься адвокатурою, он тогда впервые выступил в качестве политического оратора, поддержав предложение Манилия о назначении Помпея диктатором для войны с Митридатом, царем Понтийским. Его речь по этому поводу имела большой успех, а так как Помпей был тогда одним из любимцев демократии, то популярность Цицерона значительно увеличилась, и он мог теперь решиться выступить кандидатом на высшую государственную должность – консульство. Поэтому, отклонив провинцию, которая предлагалась ему по низложении претуры, он 65 и 64 годы проводит как частное лицо, занимаясь подготовлением публики к своей кандидатуре. Тут-то он увидел, что зашел слишком далеко в заигрывании с народом и своим демократическим фрондерством оттолкнул от себя аристократию. По совету своего брата Квинта, чье письмо по этому поводу представляет любопытнейший документ, он усердно принимается за работу среди сенатской знати, раскаянием и лестью склоняя ее на свою сторону. Он пускает в ход всевозможные средства, отправляется к знатнейшим патрициям на ежеутренние поклоны и спешит уверить всех и вся, кто только имел влияние на выборы, что в благонамеренности и патриотизме он не уступит решительно никому. Его взгляды на государство, говорит он, всегда были такими же, как взгляды оптиматов; демократы, в сущности, никогда не пользовались его симпатиями, а если у него иной раз и вырывались речи, которые можно было истолковать в противоаристократическом смысле, то они преследовали лишь цель склонить на свою сторону Кв. Помпея… Старания эти увенчались успехом, давно уже неслыханным в Риме: вместе с Антонием, племянником известного под таким же именем оратора, он вышел победителем из борьбы с пятью другими кандидатами и единогласно был избран в консулы на 63 год.
Это был поворотный пункт в карьере Цицерона: изменив демократическому знамени еще во время соискания голосов, он теперь, по достижении консульства, окончательно складывает его и становится ревностным охранителем существующего строя и “незыблемых основ общества”. Такое неожиданное превращение не должно нас удивлять: по рождению, занятиям и симпатиям он был истый сын коммерческой буржуазии того времени – сословия всадников, а политика этого сословия всегда была оппортунистской: враждуя как с сенатской аристократией, представительницей земельных интересов, так и с демократией, представительницей неимущего пролетариата, оно попеременно соединялось то с одной, то с другой, держа сторону демократии, когда речь шла о захвате административной или судебной машины из рук сената, и переходя обратно к аристократии, когда приходилось защищать собственность от посягательств пролетариев. Цицерон лишь повторял те же метаморфозы: он фигурирует оппонентом сената в эпоху реакции против Суллы и ультрааристократического режима, когда вопрос идет о восстановлении всаднических судов и об отдаче азиатских податей на откуп публиканам, и тотчас же круто переменяет фронт и кидается в объятия своих прежних врагов, лишь только демократия поднимает голову, и в лице, как мы сейчас увидим, Сервилия Рулла и Катилины собирается делать попытки реформ…
Первым его дебютом в роли “охранителя” было уничтожение аграрного законопроекта, внесенного народным трибуном Публием Сервилием Руллом. Это был больной вопрос внутренней политики Рима, одна из попыток аграрной реформы, которых так много было в последние полтора века республики. Имея своей целью восстановление мелкой собственности путем выселения пролетариата в земледельческие колонии, но неизменно сопряженные с закупкою, конфискацией и переделом земель, присвоенных богатыми собственниками, эти попытки постоянно встречали оппозицию со стороны правящих классов и неизменно оканчивались гибелью проектов и их авторов. В частности же Сервилиев закон проектировал назначение на пять лет комиссии из десяти членов с неограниченною властью над всеми материальными средствами государства и с правом продавать и скупать какие угодно земли, проверять притязания настоящих владельцев и выселять колонии куда угодно. Ужас и сопротивление имущих классов были необыкновенны, и новому консулу ничего не стоило разыграть из себя “патриота”. В речи перед сенатом он ярко расписывает бедствия, которые можно ожидать от приведения проекта в исполнение, и указывает на опасности, которыми он угрожает “добрым нравам, репутации, благополучию и устойчивости” римского государства. Он произносит затем две речи перед народом, в которых выставляет себя его другом, чествует память Гракхов и заявляет свое принципиальное согласие со всякой аграрной реформой, действительно, направленной на благо народа. Но, к сожалению, проект Сервилия идет вразрез с этим благом, так как не только влечет за собою коренное изменение в имущественных отношениях страны, но и фактически упраздняет конституцию, уничтожая права консулов и сената и облекая неограниченной властью десятерых ни перед кем не отвечающих личностей! Цицерон забыл, как он сам недавно еще ратовал за диктатуру Помпея, но невежественный народ поверил его искренности, и Сервилий принужден был взять свой проект обратно.
Но эта блистательная победа была лишь началом ряда других, которые вновь обращенный на путь истины консул одержал над демократией. Самая, однако, главная из них – та, которая навеки прославила Цицерона и его должностной год: это раскрытие и уничтожение заговора Катилины.
Люций Сергий Катилина, человек весьма знатный и талантливый, стоял во главе демократического движения и мечтал, добившись консульства, произвести государственный и экономический переворот. Всякому изучавшему историю последних двух веков римской республики известно, до какого ужасного состояния дошла Италия под правлением олигархии, именуемой сенатом: разоренный бесчисленными войнами, предпринятыми в интересах господствующих сословий, и отрезанный от всех источников пропитания конкуренцией рабского труда, римско-италийский народ превратился в сплошной деревенский и городской пролетариат, который, по словам Тиберия Гракха, не имел угла, куда бы мог преклонить свою усталую голову. Напрасно лучшие люди и патриоты указывали на эти язвы и требовали энергических мер к их излечению: господствующая плутократия упорно отказывалась, отвечая на все проекты и протесты насилием и убийствами. Благороднейшие люди, такие, как Гракхи, Сатурнин и Серторий, сложили свои головы за народное дело, пока не стало ясным, что, прежде чем добиваться реформ, необходимо вырвать власть из рук сената. Катилина это понял лучше, чем кто-либо до него: отсюда все нападки на его личность, которыми кишмя кишат сочинения Цицерона и Саллюстия, наших главных авторитетов. Если верить им, Катилина был самый испорченный человек своего времени: он убил родного брата, имел кровосмесительную связь со своей дочерью и совершил насилие над весталкою. Конечно, это басни: сам Саллюстий заявляет, что у него нет данных для подтверждения этих обвинений, и Цицерон семь лет спустя признает публично, что Катилина был выдающийся во всех отношениях человек, которого он сам одно время считал прекрасным гражданином. Вероятнее всего, что Катилина в своей молодости вел очень веселую жизнь и, подобно Цезарю и многим другим, нисколько не лучше и не хуже его, проводил время в играх и развлечениях, далеко не невинных ни по средствам, ни по обстановке. Мы даже готовы поверить, что он растратил в бурных кутежах свое большое состояние и погряз в долгах, хотя никак не можем примирить с этим другое заявление наших авторитетов, что при своих выборах он пускал в ход подкуп в широчайших размерах.
Первое появление Катилины на сцену относится к 65 году: он только что вернулся в столицу после наместничества в Африке и готовил свою кандидатуру на консульство. Чтобы помешать ему в этом, аристократическая партия возвела на него обвинение в лихоимстве, после чего он будто бы решил захватать власть насильно, перебив консулов и важнейших сенаторов. Для этого назначено было 1 января 65 года, когда знать и магистратура собирались на Капитолий для торжественных жертвоприношений; но слух об этом проник в публику, и план не удался. Тогда Катилина отложил выполнение его на 5 февраля, но и тут попытка не удалась по его же оплошности.
В правдивости этих рассказов вполне позволительно усомниться уже просто ввиду того, что, несмотря на злодейские умыслы, ни Катилина, ни кто-либо из его друзей не были арестованы или удалены: покусись они действительно на то, в чем их позднее обвинял Цицерон, сенатская олигархия, столь падкая на репрессии, не оставила бы их в покое, а постаралась бы устранить рукою палача или убийцы. Сам консул Торкват, на чью жизнь Катилина будто бы составил заговор, был и остался его другом, и когда в 64 году над ним состоялся процесс за лихоимство, не задумался вынести ему оправдательный вердикт, тем засвидетельствовав невиновность Катилины по обоим обвинениям. Лучшим же доказательством неосновательности последних является поведение самого Цицерона, который конфиденциально предложил себя Катилине в адвокаты по африканскому делу. Очевидно, обвинения против Катилины в террористических намерениях были чистой выдумкою позднейшей фабрикации, когда требовалось представить личность Катилины возможно чернее: тогда всякое лыко, даже воображаемое, шло в строку, и аудитория, внимавшая им из уст Цицерона, охотно рукоплескала.
В 64 году, освободившись от процесса, Катилина поставил свою кандидатуру на консульство 63 года в качестве вождя демократической оппозиции против Цицерона и пятерых других. По-видимому, Цицерон сам первоначально думал веста избирательную кампанию под демократическим ярлыком, для чего и сделал вышеупомянутую попытку заручиться благосклонностью Катилины; но, встретив отпор, он обратился к аристократии и получил от нее мандат. Результат выборов нам известен: убоявшись революционных замыслов Катилины, имущие классы единодушно отдали свои голоса Цицерону, и последний одержал блестящую победу. Реакция началась по всей линии: после провала Сервилия Рулла вновь избранный консул защитил Рабирия, обвинявшегося в соучастии в убийстве демократического вождя Сатурнина, и, наконец, принялся за Катилину, опять готовившего свою кандидатуру на консульство 62 года.
Достижение Катилиною этой должности должно было послужить сигналом к открытым военным действиям: умудренный горьким опытом прошлого, он зная, что правящие классы не сдадутся без борьбы и что, даже если ему и удастся добиться консульства, они, в рвении охранить свои интересы, не остановятся перед буквою конституции, объявляющей личность магистрата неприкосновенною. Поэтому он решил поставить свое предприятие на широкую и прочную основу и с этой целью собрал в Этрурии значительное войско из всех недовольных элементов общества, готовясь сейчас же после выборов отправиться к нему и поднять знамя восстания. Его замыслы и средства борьбы не заключали, стало быть, в себе ничего заговорщицкого, как это принято думать со времен Саллюстия: готовилась настоящая междоусобная война, война эксплуатируемых против эксплуатирующих, подобная той, какую 15 лет спустя повел с таким успехом Цезарь. То было широкое социальное движение, а не тайное предприятие одного или нескольких лиц, не имевших за собою ничего, кроме решимости и личного почина.
Но Цицерон не дремал. Через Фульвию, любовницу Курия, одного из приближенных Катилины, он был осведомлен о каждом шаге неприятеля и накануне выборов решил повести атаку. 20 октября он получил от сената разрешение отложить день выборов, а 21 сделал в сенате формальный допрос Катилине. Последний и не думал скрывать своих намерений: римское государство, сказал он, состоит из двух организмов – один слабый со слабою головою (сенат), а другой сильный, но без головы (народ): он, Катилина, намерен играть роль последней для второго. С этими словами он вышел из курии, оставив сенат в изумлении и ужасе.
Цицерон был обманут в своих ожиданиях: памятуя поведение сената во время борьбы с Гракхами, он надеялся, что Катилина будет растерзан на месте; но за последние сто лет произошли крупные перемены, и аристократия успела растерять последние остатки своего мужества. “Собрание царей” выродилось в собрание умственных и нравственных ничтожеств, да и консулы сами с Цицероном во главе были уже не Назики.
Тем не менее, Катилина выборы проиграл: Цицерон в совершенстве владел оружием, несравненно более опасным в те времена, нежели истина и право, – языком. Им наш благонамеренный оратор творил чудеса, распространяя слухи о заговоре, от которых у добрых людей волосы становились дыбом. Заговорщики встречались не иначе, как темной ночью; они давали друг другу страшные клятвы; они пробовали друг у друга кровь; они убивали младенцев и питались их внутренностями; они замышляли перебить знатнейших горожан; они собирались сжечь и разграбить весь город; они даже распределили его на сто участков со специальными комитетами для одновременного приведения этого ужасного замысла в исполнение и т.д., и т.д. Мороз продирал по коже от этих рассказов, и когда для вящего подтверждения их стали еще сыпать деньгами направо и налево, основав специальный для этого фонд, куда все защитники спокойствия и порядка, не исключая самого добродетельного Катона, внесли свои лепты, то все добрые граждане окончательно убедились, что с Катилиною шутить нельзя, и поголовно вотировали за сенатских кандидатов.
Тогда Катилина решил отправиться в Этрурию, передав заведование делами в Риме Лентуллу и Цетеггу, из которых первый был в том году городским претором. Узнав об этом, Цицерон решил дать Катилине генеральное сражение. Он опять распространил слухи о злодейских умыслах заговорщиков, говоря, что двое из них – сенатор Варгунтей и всадник Корнелий – приходили к нему утром на поклон с целью убить, но нашли его предупрежденным и недоступным, и созвал специальное собрание сената в храме Юпитера Зиждителя – на почтительном расстоянии от города и… опасной городской толпы, – куда пригласил и Катилину. Все было подготовлено к тому, чтоб угостить его так, как некогда угостили Гракхов, и Цицерон взял на себя инициативу. Как только мятежник, как бы не подозревая об имеющей разыграться комедии, вошел в сенат, почтенные мужи совета демонстративно покинули скамью, на которую он сел, и оставили его одного. Поднялся Цицерон и, дрожа от патриотического негодования, произнес свою знаменитую “Первую речь против Катилины”. “До коих пор Катилина намерен злоупотреблять нашим терпением? – загремел он, к величайшему восхищению своих коллег. – Разве он не знает, что все его умыслы и планы известны сенату и консулам так, как если бы они присутствовали на тайных совещаниях его и его сообщников? Разве он не знает, что слух о готовящемся поджоге города и избиении именитых сенаторов ходит по устам, вызывая негодование у всех, в ком живы еще добрые нравы, заповеданные великими предками? Разве Варгунтей и Корнелий не приходили к нему, Цицерону, сегодня же утром с целью убить его? Разве у него нет войска в Этрурии, набранного из гнуснейших подонков общества? Чего же он медлит? Зачем он остается в городе? Или он хочет дождаться участи, какая постигла Гракхов и Сатурнина, – участи, которую, впрочем, он заслужил уже давным-давно? (Увы! сенат не понимает намека и не трогается с места.) Пускай же он лучше убирается из Рима подобру-поздорову, пока шкура цела”. Он советует ему это сделать немедленно же, он требует этого во имя республики и сената, он умоляет его ради счастья и благоденствия римского народа…
Слова эти имели большой эффект, но все же не такой, какого ожидал Цицерон: Катилина оставил курию, не проронив ни слова, а сенаторы ограничились лишь яростными криками да объявлением осадного положения по формуле: videant consules. Преступник опять вышел невредимым из логовища врагов, и перуны консула пропали даром. По-видимому, однако, и сам Цицерон-громовержец был более храбр на словах, нежели на деле, потому что его совет Катилине бежать из Рима – совет, как он отлично знал, совершенно излишний – может быть объяснен лишь желанием избегнуть неприятной необходимости арестовать заговорщика и тем самым рисковать своей жизнью.
Катилина уехал в ту же ночь, а Цицерон, облеченный специальными полномочиями, принялся за дальнейшее искоренение “крамолы”. Без сомнения, он знал всех и каждого из друзей Катилины поименно и в лицо, он знал даже, где они встречаются и что намереваются предпринять; но вместе с тем он понимал, что делать на них открытое нападение без юридических доказательств в руках было бы делом несколько рискованным. Но напрасно объявляет он награды тому, кто сообщил бы ему сведения о действиях “заговорщиков” и доставил бы ему доказательства их преступности: никто не откликается, потому что заговора, собственно говоря, и не было, и народная масса симпатизировала Катилине больше, нежели сенату. Но того, чего Цицерон не мог добиться деньгами, ему удалось достичь благодаря бестактности самих катилинцев, потерявших в лице уехавшего вождя своего наиболее способного руководителя и организатора.
В Риме находились тогда послы от галльского племени аллоброгов, прибывшие с жалобою на своего наместника. Долго не получая удовлетворения, они были сильно раздражены против сената и охотно вступили в тайные переговоры с Лентуллом, обещая ему помощь для свершения coup d'etat. Вскоре, однако, они одумались и чистосердечно признались во всем своему патрону. Цицерон немедленно был оповещен о случившемся, и дело устроилось так: под предлогом, что их соотечественники не поверят одним словесным обещаниям, хитрые послы потребовали от Лентулла письменного договора и, заполучив его, отправились к Катилине в Этрурию за ратификацией. По дороге, однако, на них напали сенатские посланцы и отобрали документы. Больше Цицерону и не надо было: он немедленно созвал сенат в храм Согласия, вытребовал к себе Лентулла и Цетегга и, уличив их при помощи документов и свидетелей, велел их арестовать. 4 декабря на заседании сената были определены награды доносчикам, а 5 было проведено, по предложению Катона и Цицерона и при грозной оппозиции Цезаря, решение казнить заключенных без дальнейшего суда и апелляции. В сопровождении ликторов и громадной толпы сенаторов и всадников Цицерон собственноручно отвел осужденных в подземную Капитолийскую тюрьму и здесь приказал их задушить во славу сената и республики.
Это был финал всей истории: с удалением Катилины в Этрурию и смертью его главных сподвижников гидра революции была раздавлена, и благонамеренный Рим мог вздохнуть спокойно. Его уже больше не тревожил кошмар поджогов и убийств, ему уже больше не угрожала опасность переворотов и конфискаций, и он мог по-прежнему вести тучную жизнь за счет пота и крови италийского народа. Правда, в Капуе, Этрурии и других местах действовали еще инсургенты, но и они мало-помалу слабели за недостатком дисциплины и организации. Оставшись один с горстью верных друзей, Катилина, наконец, пал при Пистории в 62 году. Он погиб геройской смертью, а с ним – все его товарищи до единого, – все, как с удивлением замечает Саллюстий, с ранами в груди и с выражением решимости в лице.
Так трагически окончилась попытка свергнуть железное иго сенатской олигархии. Попытка эта была не первая – ей предшествовали многие другие, оканчивавшиеся также плачевно; но она была предпоследней: знамя, выпавшее из рук Катилины, было поднято Цезарем, и аристократия погибла.
Но покамест Цицерон имел полное основание ликовать. Человек без предков и без связей, только что переменивший свое амплуа – homo novus во всех отношениях, он, благодаря исключительно своему таланту красно говорить, достиг высших государственных почестей и спас республику, то есть имущие классы, от неминуемой гибели. Признательность последних не знала пределов: забыв жалкую роль, которую они играли, не замечая банкротства, столь громко заявленного фактом спасения их выскочкою, они осыпали счастливого консула такими почестями, какими до него не пользовался ни один римский гражданин. Его приветствовали повсюду как спасителя родины; ему преподнесли и в сенате, и на форуме неслыханный дотоле титул отца отечества, и в честь его воссылались богам бесчисленные молитвы и жертвоприношения. Каждую ночь в течение долгого времени город иллюминовался как в праздник, и повсюду, где появлялась знакомая фигура оратора, раздавались бешеные рукоплескания и возгласы и составлялся почетный конвой из цвета аристократической молодежи. Цицерон сделался популярнейшим человеком в Риме, но эта популярность, как мы сейчас увидим, продолжалась недолго.
Глава II
Тщеславие Цицерона и падение его популярности. – Отношение его к триумвирам. – Клодий и его процесс. – Кампания против Цицерона. – Малодушное его поведение, изгнание и переписка. – Агитация Милона в пользу амнистии. – Возвращение Цицерона. – Новый курс. – Цицерон в Киликии. – Междоусобная война и поведение Цицерона. – Примирение с Цезарем. – Политика Цицерона после 15 марта. – Антоний и Октавиан. – Бегство Цицерона. – Борьба с Антонием. – Филиппики. – II триумвират. – Проскрипция и смерть Цицерона. – Общий характер его частной жизни. – Ораторская и литературная деятельность. – Характер и сила его красноречия. – Его философские занятия. – Цицерон как писатель и его заслуги. – Содержание “Республики”
В конце 63 года Цицерон сложил с себя консульскую должность и, оставшись не у дел, стал жить простым сенатором, упиваясь обрушившимся на него почетом. В сознании услуг, оказанных им, незначительным арпинцем, надменному аристократическому сословию, он готов был, подобно Нарциссу, пасть на колени перед самим собою и любоваться отражением своих добродетелей, которое, казалось ему, он видел в раздающихся вкруг него похвалах. Его самомнению не было границ: он смотрел на себя, как на самого выдающегося человека в государстве, чье единое слово или жест имеет право на всеобщее внимание и повиновение. С деланной скромностью человека, знающего себе цену, он являлся в сенат, так беспримерно им облагодетельствованный, и с отеческою снисходительностью давал свои советы, то и дело напоминая своим коллегам приснопамятный год своего консульства и зловещие имена Катилины и Лентулла. Куда бы он ни являлся – в частный дом или на форум, в народное собрание или на суд – везде и всегда 63 год вертелся у него на языке, и вся его переписка за это время, речи и сочинения полны рассказами о его деяниях и заслугах. Злые языки говорили даже, что он по этому поводу написал одну латинскую и одну греческую поэмы, но, к счастью, они до нас не дошли. Известно лишь, что он обращался к одному из своих друзей с просьбою написать историю его консульства, причем просил “не жалеть красок” и “иметь в виду дружбу более, нежели истину”.
Понятно, что он стал надоедать. Люди редко с охотою выслушивают напоминания об оказанных им благодеяниях; но когда оно делается еще с такою назойливостью, как это делал Цицерон, они начинают тяготиться. От добродушного посмеивания над тщеславными выходками экс-консула даже лучшие его друзья стали мало-помалу переходить к недоумению, а потом к раздражительности; когда же эти выходки приняли характер притязаний на всеобщее поклонение, раздражительность перешла в презрение и, наконец, в ненависть. Популярность Цицерона постепенно исчезала, ореол его тускнел, и аристократия, наконец, увидела, что имеет дело с несносным выскочкою, которому надлежит указать его место. В этом помог ей сам Цицерон.
В 61 году после шестилетнего пребывания на Востоке возвратился Помпей и сразу пришел в столкновение с сенатом по поводу наделения его ветеранов землею; около этого же времени прибыл из Испании и Цезарь и стал домогаться консульства. Оба честолюбца, видя, как трудно преодолеть оппозицию сената разъединенными силами, решили сблизиться и в 60 году заключили союз с целью общими средствами достичь власти. В союз был принят богатый Красс, и они втроем составили план кампании против сенатского режима. Цицерон почувствовал себя оскорбленным: уже один тот факт, что его, величайшего и заслуженнейшего из римлян, могли обойти, не считая даже нужным справляться с его мнением или заручиться его благосклонностью, казался ему величайшей неблагодарностью; но обида еще более усилилась, когда на все авансы, которые он, после некоторого колебания, решил делать через третье лицо, предлагая свой нейтралитет взамен места в жреческой коллегии, триумвиры не нашли другого ответа, кроме холодного равнодушия. Это было больше, чем он мог снести: его, очевидно, ставили ни во что, и Цицерон принялся изо всех сил расстраивать триумвират, стараясь отвлечь от него своего старого друга, слабохарактерного Помпея. Увы! Его усилия были бесплодны: честолюбие Помпея оказалось сильнее его дружбы, и Цицерон в отчаянии и тоске стал, как фурия, метаться по Италии, беснуясь над своим бессилием и злобствуя на весь мир. Триумвирам, наконец, надоело возиться с ним, и Цезарь пробовал было удалить его со сцены миром, предложив ему при себе должность легата и место в комиссии по переделу кампанских земель; но ничто не брало: уязвленный оратор отказывался слышать о каких бы то ни было предложениях, тем менее об отъезде из Рима. Тогда новые владыки республики решили спровадить его силой и с этой целью выдвинули против него пресловутого Клодия, его заклятого врага.
Этот Клодий принадлежал к Клавдиям, одному из знатнейших родов Рима; его патроном был Марк Красс. В 65 году он оставался еще на стороне сенатской аристократии, выступая обвинителем Катилины в его африканском процессе по лихоимству; но уже тремя годами позже мы находим его в рядах демократической партии, где он приобретает известность своей энергией, смелостью и… легкими нравами. Он был большой друг – политический и личный – Цезаря, но это нисколько не помешало ему завести тайную связь с его женою. В 62 году, когда он был избран квестором на будущий год, эта связь закончилась скандалом, который заставил говорить о себе все римское общество: переодетый в женское платье, он проник и был узнан в доме Цезаря, бывшего тогда верховным жрецом, как раз в то время, как его жена справляла при участии знатнейших матрон таинства в честь Bona Dea, на которых присутствие мужчины было строго-настрого запрещено. Случай был необыкновенно сенсационный, но он, быть может, прошел бы бесследно, если бы сенат не вздумал из-за этого устроить Клодию процесс. Мотивом выставили совершение святотатства, как поступок Клодия с важностью определила жреческая коллегия; но можно смело усомниться в искренности его, видя, с одной стороны, что со времени совершения проступка прошло целых семь месяцев, и зная, с другой стороны, что ни один из образованных людей того времени не верил ни в Bona Dea, ни в ее таинства. Вероятнее всего, расчеты были исключительно политические, и обвинение в святотатстве выдвинули лишь как предлог загубить видного члена оппозиционной партии. Это, между прочим, явствует еще из того, что Цезарь, глава демократии после Катилины, согласился забыть обиду, понесенную им в качестве обманутого мужа, и упорно отказывался, несмотря на свидетельства домашних и друзей, давать против адюльтера какие-либо показания. Правда, он развелся со своей женою и тем как бы признавал ее преступность; но это он мотивировал тем, что “жена Цезаря должна стоять выше даже подозрений”.
Федора Ароновича Орлов
Жизнь замечательных людей
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
Е. Орлов
Марк Туллий Цицерон
Его жизнь и деятельность
Биографические очерки
С портретом Цицерона, гравированным в Петербурге К. Адтом, и другими иллюстрациями
Глава I
Наши сведения о Цицероне и разногласия в оценке его личности и деятельности. – Рождение и семья. – Воспитание и образование. – Выступление на публичное поприще. – Оппозиция Сулле. – Поездка в Грецию. – Дружба и переписка с Аттиком. – Его популярность в Риме. – Начало государственной деятельности. – Квесторство в Сицилии. – Верресов процесс: хищническая карьера Верреса, обвинения против него, разбор дела и успех Цицерона. – Verrinae. – Эдильство Цицерона. – Выступление его в качестве политического оратора. – Манилиев закон. – Кандидатура на консульство и измена демократии. – Оппозиция Сервилию Руллу. – Заговор Катилины. – Личность Катилины, его политическая программа, кандидатура и революционные планы. – Оппозиция Цицерона. – Приемы борьбы. – Первая речь против Катилины. – Ошибка Пентулла. – Фиаско заговора. – Популярность Цицерона
Ни с кем из выдающихся личностей древности мы так близко, так частно не знакомы, как с Марком Туллием Цицероном, величайшим римским оратором и писателем. В то время, как значительное большинство первых проходит мимо наших взоров более или менее ясными профилями, обращенными к нам лишь той стороной, на которую пал ревнивый свет истории, образ Цицерона мы в состоянии восстановить во всей яркости и всесторонности живой личности, какою он являлся в действительности, в глазах современников и своих. Этим мы обязаны, помимо многочисленных его речей и сочинений, главным образом дошедшей до нас обширной – свыше 800 писем – переписке его с друзьями, которая по обилию заключающихся в ней данных представляет первоклассный автобиографический документ. Благодаря этой переписке мы знаем Цицерона не только как публичного деятеля – политика, адвоката и писателя, но и как частное лицо – мужа, отца, брата и друга, и мы застаем его не только на ораторской трибуне, где-нибудь в сенате, суде и на форуме, но и в тесном кругу его близких и домашних, в интимной обстановке его дворцов и вилл, погруженным то в профессиональные занятия, то в изучение своих любимых авторов, то, наконец, в хлопоты и дрязги будничной жизни. Начиная с 68 года – с того момента, как начинается его переписка – ни одно событие его многосторонней жизни не ускользает от наших взоров: нам известен каждый его шаг, нам знакомо каждое движение его души, мы знаем все его мечты и опасения, радости и горе. Для нас Цицерон как древний римлянин отступает на задний план; живописно наброшенная тога, величественно протянутая длань и прочие аксессуары классического героя исчезают бесследно, и их место занимает фигура человека, почти столь же близкого к нам по плоти и крови, как если бы он жил многими веками позже.
Но несмотря на это, несмотря на разнообразие и точность имеющихся у нас биографических сведений, личность и деятельность Цицерона являются предметом ожесточенных споров и разногласий для большинства историков и биографов. Одни, а именно немецкая историческая школа с Друманном и Моммзеном во главе, отрицают за Цицероном какие бы то ни было достоинства и заслуги не только в качестве политического деятеля, но и в качестве оратора и писателя: человек без талантов и без убеждений, он был не более, чем “политический флюгер” и “газетный памфлетист”, у которого в распоряжении было несравненно больше слов, нежели идей. Другие же, большей частью французы, возглавляемые Гастоном Буассье, рыцарски поднимают брошенную немцами перчатку и с самоотверженностью, достойной подражания в лучшем деле, стараются защитить Цицерона от нападок его противников: они выдвигают на первый план его симпатичные стороны, оттеняя его добродетели частного лица, и покрывают блистательным лоском его публичную карьеру, оправдывая ее очевидные изъяны “некоторой бесхарактерностью” и сами эти изъяны называя благозвучными именами “заблуждений” и “промахов”. Мы не станем вдаваться в разбирательство этих приговоров и исследование причин их разногласия; мы лишь позволим себе выразить свою солидарность с мнением Моммзена, поскольку оно касается политической деятельности нашего героя, и вместе с тем заявить свое несогласие с тем умалением ораторских талантов Цицерона и его заслуг в философии и литературе, на какое решается знаменитый историк Рима. Наше мнение не эклектическое: мы и не думаем подписываться под дифирамбами, щедрою рукою расточаемыми Буассье и другими; мы лишь считаем приговор Моммзена слишком прямолинейным и желаем воздать suum cuique.
Марк Туллий Цицерон родился 3 января 106 года до Р. X. в наследственном поместье, расположенном неподалеку от небольшого, но живописного городка Арпин. Как известно, из этого же города происходил и знаменитый вождь демократов Марий, и это обстоятельство давало впоследствии повод многим льстецам нашего героя заявлять, что Арпин дал отечеству двух его спасителей. Семья Цицерона была одна из тех здоровых провинциальных семей, которые благодаря своему цепкому консерватизму, смышленой практичности, терпению и трудолюбию долгое время являлись ядром нации, создав своими руками обширную Римскую республику, сильную устойчивостью и организацией. Это были зажиточные фермеры, которые, хотя и не насчитывали среди своих членов курульных магистратов, пользовались, тем не менее, значительным уважением и влиянием в околотке, имея кое-какие связи даже в самой столице. Предполагают, что один из предков Цицерона был простой крестьянин, занимавшийся огородничеством: отсюда это плебейское прозвище Cicero – род гороха, – которым так мужественно гордился впоследствии Марк, обещая насмешникам прославить его наравне с аристократическими именами Скавров и Катуллов. Дед его был человеком старого закала, сухим, черствым и крепкоголовым, который ничего так не боялся, как новшеств, и особенно косо посматривал на греческие веяния, в ту пору все более и более распространявшиеся в италийской атмосфере. Его опасения, по-видимому, оправдались еще скорее, чем он ожидал, потому что сын его – отец Марка – был человек уже совсем иного покроя: болезненный, тихий и склонный к размышлению, он под влиянием книг и разговоров стал рано тяготиться мелкопоместной жизнью и мечтать если не самому вырваться из нее, то по крайней мере вытащить оттуда своих детей. Его жена Гельвия, родственница Цинны, сочувствовала ему в этом, и когда оба сына их, Марк Туллий и Квинт, достигли школьного возраста, они решили оставить деревню и переселиться в столицу.
Над мыслью и нравами римского общества тогда неограниченно господствовала эллинская культура с ее философией и религией, литературой и искусством. Греческие ученые и риторы были почти единственными учителями молодежи; их аудитории наполнялись цветом патрицианской знати, их язык стал фешенебельным, и среди богатых горожан было немало таких, которые имели подле себя в качестве руководителя какого-нибудь греческого философа. Естественно, что образование, которое получил молодой Цицерон, было эллинское. За исключением одного Кв. Эллия, у которого он обучался латинской грамматике, все его учителя, по совету знаменитого оратора А. Красса, были выбираемы из греков: с ними он изучал греческий язык и литературу, математику, риторику и философию. Между прочим, одним из них был поэт Архий, которого он позднее защитил от тяжелого обвинения в произвольном присвоении прав римского гражданства. Учился он, по-видимому, блестяще: его способности, любознательность и знания составили ему такую громкую репутацию среди сверстников, что отцы последних часто приходили в школу посмотреть на феноменального мальчика и ставили его в пример своим сыновьям. В 91 году, когда ему исполнилось 15 лет и он, по римскому обычаю, получил мужскую тогу, он к своим прежним занятиям прибавил и изучение юриспруденции и родственных ей наук. Он поступил под руководство авгура Кв. Муция Сцеволы и стал усердно посещать форум, прислушиваясь к политическим и судебным речам. Его занятия были прерваны на год военной службой: он участвовал в войне с восставшими марсиями и состоял адъютантом при главнокомандующем Кв. Помпее Страбоне, отце Помпея Великого. Он, однако, не обнаружил ни военных талантов, ни военных доблестей и решил поэтому искать славы на гражданском поприще в занятиях адвокатурою и политикою. Наступившая затем междоусобная война между Марием и Суллою, в которой человеку таких наклонностей, как Цицерон, не было места, дала ему срок для подготовления к своей профессии: в течение шести лет он работал над философией, правами и риторикой, посещая лекции эпикурейца Федра, слушая риторику у знаменитого Молона, но особенно охотно посещая философа Филона, который недавно приехал из Афин, спасаясь от меча Митридата. Этот Филон стоял во главе Новой Академии – той самой, которую основал Карнеад, приехавший в Италию в качестве посла зимою 156 года и удивлявший простодушных римлян своей блестящей диалектикою и уменьем доказывать тезис и антитезис с одинаковою убедительностью и успехом. По настоянию Катона Старшего, опасавшегося пагубного влияния его искусства на общественную нравственность, его вежливо выпроводили из столицы; но, по-видимому, это искусство пришлось по вкусу значительному большинству, и его преемники встретили лучший прием. К ним стали приходить учиться риторике и диалектике, и к ним пришел наш Цицерон, для которого, как для будущего адвоката, ничто не могло быть полезнее искусства доказывать и отрицать положение с тем же уменьем. Другим его любимым наставником был стоик Диодот, у которого он обучался логике: с ним он заключил тесную дружбу и позднее даже пригласил его жить у себя в доме, где тот и провел остаток своих дней. Но больше всего, естественно, напирал Цицерон на красноречие: он не упускал ни одного случая послушать выдающегося оратора и сам ежедневно упражнялся в составлении декламаций на различные темы. Он изучал лучшие образчики слога и формы, особенно в греческой литературе, и по много раз переводил отрывки из Гомера, Еврипида, Демосфена, Эсхина и Платона. Он сам сочинил трактат по теории красноречия под заглавием: “De inventione Rhetorica”, и написал даже целую поэму в стихах “Марий”, в которой воспевал подвиги этого народного героя. Сцевола провозгласил ее бессмертною, но ученый авгур жестоко ошибался: Цицерон был менее всего поэт, и стихи писал он больше ради упражнения в стиле, нежели из вдохновения.
В 27 лет он выступает, наконец, на публичную арену в качестве адвоката по уголовным и гражданским делам. К сожалению, следы его дебютов до нас не дошли: первая из существующих речей его в защиту Квинция по гражданскому иску относится к 81 г., а первая речь по уголовному делу в защиту Секстия Росция Америнского относится к 80 году. Эта последняя, несмотря на свою незрелость, замечательна во многих отношениях. Тогда был один из самых мрачных периодов в римской истории. Приверженцы Мария были уничтожены, и государственную машину республики захватил в свои руки его противник Сулла. Начались аристократическая реакция и террор. Головы демократов катились, как колосья, их имущество конфисковывалось, их имения разорялись, и друзья их либо расселялись по тюрьмам, либо подвергались изгнанию. Шпионы и убийцы, ободряемые надеждою на добычу, расплодились в неимоверном количестве; интриги и преступления их доходили до наглости, и лучшие люди, особенно из богатых слоев, падали беззащитными жертвами их корысти и своеволия. Одним из таких людей был старик Росций, отец Секстия, владевший тринадцатью виллами, из которых десять, по показаниям сына, стоили, по крайней мере, 250 талантов (талант – 2400 руб.). Хризогон, клеврет и вольноотпущенник Суллы, наживший на имущественных конфискациях огромное состояние, давно уже зарился на эти поместья и, когда старик был однажды утром найден убитым – по наущению ли Хризогона, или нет, мы не знаем – и его имущество продавалось с молотка, он скупил 10 имений за смешную сумму в 2 тыс. драхм (драхма – 40 коп.). Мало того, чтобы замести следы и вместе с тем отнять у сына убитого возможность оспаривать имущество, он через некоего Эруция, негодяя первой руки, возводит на него обвинение в отцеубийстве. Дело было для всех ясно, как Божий день, но никто не имел смелости взять на себя защиту злополучного Росция и выступить против любимцев всесильного диктатора. Напрасно молодой Мессана, блестящий представитель блестящего дома, вместе со знатной матроной из рода Метеллов обещали свое покровительство, – ни один выдающийся адвокат не решался заступиться за обвиняемого и рисковать своей шкурою. Тогда предложил свои услуги молодой и неизвестный Цицерон; в речи, полной остроумия и сарказмов по адресу Хризогона, он доказал невиновность Секстия и добился его оправдания.
Это cause celebre сразу доставило юному адвокату популярность и славу. Мужество, с каким он выступил в таком опасном деле, и прозрачные намеки, которые он делал на тиранию диктатора, на бесчестие и хищничество его агентов, на ужасы проскрипций и другие темные стороны тогдашнего режима, приобрели ему широкую известность даже в народных кругах. Правда, Сулла и не думал его трогать: он был слишком велик и тактичен, чтоб замечать нападки незначительного адвоката; но Цицерон все-таки имел основание принимать позу героя и защитника народных интересов. Быть может, он искренне увлекался либеральными веяниями момента, – тогда как раз начиналась тайная реакция против правления диктатора; но, быть может, имел место и простой расчет, побуждавший его стать на ту сторону, куда все более и более склонялась сила. Ему нужно было во что бы то ни стало сделаться популярным и добиться положения и должностей, и, видя грядущее банкротство аристократии, он, естественно, кинулся в объятия демократии. Как бы то ни было, но вплоть до своего консульства он продолжал стоять на стороне народа. В следующем же году после процесса Росция ему вновь пришлось выказать свое гражданское мужество по поводу дела одной уроженки Арреция: жители этого города были лишены Суллою гражданских прав, и женщине этой, имевшей в Риме какую-то тяжбу, в силу этого отказано было в суде. В защиту ее поднялся Цицерон и смело принялся доказывать, что лишение Арреция его прав было актом своевольным, противозаконным, а потому и недействительным. Несмотря на то, что ему приходилось иметь дело с весьма сильным противником в лице знаменитого юриста Котты, он выиграл дело, и клиентка его получила удовлетворение.
Такого рода фрондерство, к тому же, по-видимому, поддерживаемое общественным мнением, было, однако, слишком рискованной игрой, чтобы его можно было долго продолжать безнаказанно: весьма вероятно, что Сулла почувствовал, наконец, некоторое раздражение и дал Цицерону через своих приближенных понять, что ему лучше было бы умолкнуть. Кстати же молодой герой, никогда не отличавшийся крепким сложением, теперь почувствовал переутомление и стал сильно нуждаться в отдыхе. По совету друзей он решил поэтому на некоторое время удалиться с арены и воспользоваться невольным досугом для поправления здоровья и дальнейшего усовершенствования своего ораторского искусства. В 79 году он покидает Италию и в сопровождении брата и некоторых знакомых отправляется в Афины – Париж того времени, центр культуры и науки, занятий и развлечений. Здесь он посещает все исторические места, с которыми связаны те или другие воспоминания, – академические сады Платона, Фалернский берег, где Демосфен некогда упражнял свой голос, гробницу Перикла, – и слушает лекции по философии и красноречию у лучших афинских преподавателей. Между прочим, он встречается здесь с тем самым Т. Помпонием Аттиком, тогда еще, конечно, молодым юношею, к которому обращена значительная и притом наилучшая часть его переписки: он заключает с ним дружбу, редкую по теплоте и лояльности, и продолжает до самой смерти своей делить с ним наиболее задушевные думы и чувства.
Из Афин, прежде чем вернуться на родину, Цицерон поехал в Малую Азию, а оттуда на остров Родос, где, как известно, науки и красноречие культивировались с особенным успехом. Здесь знакомится он со стоиком Посидонием, оставившим значительные следы на его философских симпатиях, и берет опять уроки риторики у Аполлония Молона, с которым встречался уже в Риме. По этому поводу Плутарх рассказывает любопытный анекдот: Молон не знал ни слова по-латыни, и, когда Цицерон зашел к нему, попросил его продекламировать что-нибудь по-гречески. Тот исполнил его желание с таким успехом, что присутствующие были поражены и рассыпались в похвалах. Один Молон сидел молча, погруженный в тяжелые думы. Видя беспокойство нового ученика, он, наконец, заметил ему: “Я, конечно, хвалю и удивляюсь тебе, Цицерон, но меня тревожит судьба Греции. У нее ничего больше не осталось, кроме знаний и красноречия, но и те ты увозишь с собою в Рим”. Мы не отважимся поручиться ни за искренность Молона, ни даже за достоверность самого передаваемого события; тем не менее, сам факт высокой образованности Цицерона, которой делается комплимент в этом анекдоте, не подлежит сомнению; он, бесспорно, был одним из самых выдающихся людей того времени по знанию, красноречию и манерам, и неудивительно, что, когда в 77 году, после смерти Суллы, Цицерон вернулся в Рим, ему сразу удалось занять положение в обществе, в котором соперниками ему могли быть только Гортензий и Котта – двое наиболее популярных адвокатов того времени. В следующем же году, когда ему исполнилось 30 лет, все трибы единогласно выбрали его в квесторы – нечто вроде военных интендантов, заведовавших хозяйственной и податною частью провинциальной администрации. Это был первый шаг в его долгой государственной карьере, на которой ему суждено было пожать столько лавров и роз, но вместе с тем встретить и столько терний, – и нужно признать, молодой деятель отличился так, как редко кому удавалось отличаться в эту корыстную эпоху. Жребий доставил ему Западную Сицилию, давнишнюю житницу Рима и столь же давнишнее поприще для вымогательств и хищничеств со стороны римских администраторов; но новый квестор сумел бескорыстным и искусным правлением заставить провинциалов забыть их прежние страдания и примирить противоположные интересы римских публикан и римского сената. Он аккуратно выплачивал солдатам следуемое им жалованье, он мягко и даже великодушно собирал подати, он вовремя доставил в голодающий Рим прибавочное количество хлеба, скупленного по нормальным рыночным ценам, и участливым обхождением с местным населением приобрел среди него такую популярность, что его отъезд по окончании должного года был всеобщим горем. Ему оказали небывалые почести, ему поднесли публичную благодарность, и почетная гвардия из местной аристократии проводила его до самых пределов Сицилии. Можно смело сказать, что год его правления – 75 до Р. X. – был одним из самых светлых в истории этого злополучного острова, и Цицерон мог по справедливости гордиться своим успехом и своими заслугами.
Если, однако, он думал встретить от своих соотечественников награду за труды, то факты скоро показали ему, что он глубоко ошибался. Высадившись по дороге в Рим на Кампанском берегу и попав в модный курорт Пуццоли, он, уверенный, что глаза сограждан были все время обращены на него, встретил, к своему удивлению, со стороны самых близких ему знакомых полнейшую неосведомленность в его подвигах, совершенное равнодушие к его судьбе и даже незнание того, где и как провел он истекший год. Один думал, что он приехал из Рима, другой – что возвращается из Африки, а третий, узнав от него же, что он был в Сицилии, сердечно поздравил его с успехами… в Сиракузах, главном городе восточной Сицилии! Цицерон был ошеломлен и тут же поклялся никогда больше не покидать Италии: у римского-де народа острое зрение, но тупой слух, и желающий пользоваться плодами трудов своих не должен далеко отходить от него.
События следующих четырех лет его жизни остались нам почти неизвестными; но в 70 году он опять выступает на авансцену – на этот раз с еще большим успехом, нежели прежде: это было по поводу Верресова процесса, одного из самых громких судебных дел древности.
Веррес был бывший правитель Сицилии, на которого разоренные провинциалы принесли жалобу за вымогательство. Без всякого проблеска совести или стыда, но с редким гением по части хищничеств, этот человек, принадлежавший к одной из знатнейших фамилий Рима, давно уже славился как безжалостный грабитель и опустошитель провинций. Он столько же отличился своим квесторством в Азии, сколько преторством в Риме, но его аппетиты и таланты особенно развернулись в бытность его наместником Сицилии. Здесь грабеж его не знал границ: это была целая система, распределенная на три года так, что добыча первого поступала к нему лично, добыча второго шла в карманы друзей и заступников, а добыча третьего предназначалась, на случай процесса, на подкуп преторов, трибунов и консулов. Средства для выполнения этой “программы” у него были разные, но всегда одинаково блестящие. При сдаче, например, хлебных десятин на откуп публиканам, он не только умудрялся заполучить с них двойную сумму против той, которую полагалось отсылать в Рим, но еще при сборе этой десятины получал, в качестве партнера публиканской компании, столько хлеба, что мог отсылать в Италию лишь половину его, оставив другую для себя. Когда же ему приходилось собирать добавочную десятину, за которую государственная казна платила уже по рыночным ценам и высылала для этого огромную сумму в 12 с лишним миллионов сестерциев (сестерций – 10 коп.), он преспокойно клал эти деньги к себе в карман либо отдавал их публиканам в рост по 24 %, получая через вымогательство первой, даровой, десятины столько хлеба, что его хватало и на добавочную, и жертвуя, в случае недостачи, лишь вышеупомянутыми процентами. А то поступал еще проще: нуждаясь, например, однажды в добавочной десятине – несколько миллионов мер, – он вдруг требует вместо натуры денег; но так как рыночная цена была лишь 2 сестерция за меру, то он настаивает и получает по 12 сестерциев, опуская излишек, и 10 сестерциев за меру отправляет к себе в карман.
Конечно, одними хлебными операциями подвиги Верреса не ограничивались: он умел находить и другие средства наживы. Некий Дион, например, получает большое наследство. Узнав об этом, находчивый правитель зовет его к себе и при помощи ложных свидетелей оспаривает у него его права. Напрасно все улики говорят в пользу Диона – ничто не помогает: он должен дать Верресу миллион сестерциев деньгами, массу скота и другого имущества, чтобы замять дело, в котором он был, несомненно, прав. Нечто подобное случилось с двумя братьями из Агирии: 20 лет тому назад они получили наследство, которое теперь вдруг стало оспариваться. Было ясно, как Божий день, что братья правы, но Веррес заставил их дать ему 400 тысяч сестерциев, после чего и постановил решение в их пользу. Но, коротко прибавляет Цицерон, “агирийские братья выиграли процесс так, что вышли из залы суда нищими”.
Подобным хозяйничаньем Веррес за три года разорил Сицилию вконец: вся страна лежала в развалинах, лучшие участки были превращены в пустыню, и население, обнищалое и одичалое, ютилось по берегам, не имея ни крова, ни пищи. Привычное ко всему сердце римского народа содрогнулось при виде такого зрелища; тем не менее Верресу, имевшему за собою Метеллов, Сципионов и других патрициев, быть может, удалось бы увернуться, если бы обжаловавшие его сицилийцы не имели на своей стороне все всадническое сословие, которое в лице его представителей, публикан (откупщиков провинциального фиска), своекорыстный правитель эксплуатировал наряду с покоренным населением, и всю демократию, которая теперь, после падения режима Суллы, вступала в новую борьбу с сенатом и аристократией. Шансы Верреса совсем ухудшились, когда защиту сицилийцев взял на себя Цицерон, знавший остров, как никто, и уже пользовавшийся репутацией первоклассного адвоката. Веррес пробовал смести его с дороги, выдвинув своего экс-квестора Кв. Цецилия Нигера в кандидаты на роль защитника обиженной стороны; но Цицерон в сильной речи перед судом разбил вдребезги нигеровы притязания и обосновал свои собственные. Он был формально утвержден адвокатом сицилийцев и, получив 110 дней для сбора материалов, в сопровождении своего дяди Люция отправился в Сицилию. Здесь, несмотря на препятствия, которые претор Метелл ставил на каждом шагу, ему в два месяца удалось исколесить остров вдоль и поперек и собрать такую массу документов и свидетелей, что уже одно появление его в Риме нагнало трепет на всю сенатскую аристократию. Дело стало разбираться 5 августа в первой инстанции, и Цицерон, опасаясь, как бы Веррес не затянул процесса до следующего года, когда все почти магистраты будут на его стороне, решил повести обвинение так, чтобы обвиняемый понял бесполезность дальнейших попыток и сразу же капитулировал. Он выполнил свое намерение с небывалым успехом: вместо всяких речей он в продолжение девяти дней подвергал свидетелей перекрестному допросу, читал документы и письма, отбирал показания компетентных лиц, приводил факты и оказал такое впечатление на судей и публику, собравшуюся со всех концов римского мира, что сам Гортензий, адвокат Верреса, попробовав было говорить, принужден был замолчать. Цель была достигнута: Веррес отказался от дальнейшей борьбы, ушел в изгнание, и имущество его было конфисковано.
Так окончился этот замечательный процесс. Цицерон был на вершине славы и, не довольствуясь одержанною победой, издал все пять речей, которые он намеревался произносить в случае, если бы Веррес довел дело до второй инстанции. По точности и обилию фактов, по неумолимой логике аргументаций и по блестящей риторической форме эти речи, известные под именем Verrinае, представляют лучшие образчики ораторского искусства в Риме и гордый памятник красноречия самого Цицерона.
Следующий год в жизни нашего героя был годом его эдильства. Заведывая общественной тишиною и порядком, равно как и публичными празднествами, эта магистратура была первая из “курульных” магистратур, открывавших двери сената. Цицерон стал членом последнего, получил на тогу широкую пурпурную кайму, занял курульное кресло и приобрел jus imaginum – право выставлять в своем атриуме (передней зале) бюсты и маски своих предков и проносить их публично на похоронных процессиях. Он дал в течение этого года три праздника за свой счет и роздал народу хлеб, присланный ему в дар благодарными сицилийцами. Как пункт, весьма характерный для эластичной нравственности нашего оратора, следует отметить, что в этом году он защищал Фонтея, бывшего правителя Трансальпийской Галлии, от тех же и столь же основательных обвинений в вымогательстве, какие он с такою страстью бросал в Верреса!
В 66 году он отправлял должность городского претора, избранный на этот пост единодушными кликами народа. Продолжая с прежним успехом заниматься адвокатурою, он тогда впервые выступил в качестве политического оратора, поддержав предложение Манилия о назначении Помпея диктатором для войны с Митридатом, царем Понтийским. Его речь по этому поводу имела большой успех, а так как Помпей был тогда одним из любимцев демократии, то популярность Цицерона значительно увеличилась, и он мог теперь решиться выступить кандидатом на высшую государственную должность – консульство. Поэтому, отклонив провинцию, которая предлагалась ему по низложении претуры, он 65 и 64 годы проводит как частное лицо, занимаясь подготовлением публики к своей кандидатуре. Тут-то он увидел, что зашел слишком далеко в заигрывании с народом и своим демократическим фрондерством оттолкнул от себя аристократию. По совету своего брата Квинта, чье письмо по этому поводу представляет любопытнейший документ, он усердно принимается за работу среди сенатской знати, раскаянием и лестью склоняя ее на свою сторону. Он пускает в ход всевозможные средства, отправляется к знатнейшим патрициям на ежеутренние поклоны и спешит уверить всех и вся, кто только имел влияние на выборы, что в благонамеренности и патриотизме он не уступит решительно никому. Его взгляды на государство, говорит он, всегда были такими же, как взгляды оптиматов; демократы, в сущности, никогда не пользовались его симпатиями, а если у него иной раз и вырывались речи, которые можно было истолковать в противоаристократическом смысле, то они преследовали лишь цель склонить на свою сторону Кв. Помпея… Старания эти увенчались успехом, давно уже неслыханным в Риме: вместе с Антонием, племянником известного под таким же именем оратора, он вышел победителем из борьбы с пятью другими кандидатами и единогласно был избран в консулы на 63 год.
Это был поворотный пункт в карьере Цицерона: изменив демократическому знамени еще во время соискания голосов, он теперь, по достижении консульства, окончательно складывает его и становится ревностным охранителем существующего строя и “незыблемых основ общества”. Такое неожиданное превращение не должно нас удивлять: по рождению, занятиям и симпатиям он был истый сын коммерческой буржуазии того времени – сословия всадников, а политика этого сословия всегда была оппортунистской: враждуя как с сенатской аристократией, представительницей земельных интересов, так и с демократией, представительницей неимущего пролетариата, оно попеременно соединялось то с одной, то с другой, держа сторону демократии, когда речь шла о захвате административной или судебной машины из рук сената, и переходя обратно к аристократии, когда приходилось защищать собственность от посягательств пролетариев. Цицерон лишь повторял те же метаморфозы: он фигурирует оппонентом сената в эпоху реакции против Суллы и ультрааристократического режима, когда вопрос идет о восстановлении всаднических судов и об отдаче азиатских податей на откуп публиканам, и тотчас же круто переменяет фронт и кидается в объятия своих прежних врагов, лишь только демократия поднимает голову, и в лице, как мы сейчас увидим, Сервилия Рулла и Катилины собирается делать попытки реформ…
Первым его дебютом в роли “охранителя” было уничтожение аграрного законопроекта, внесенного народным трибуном Публием Сервилием Руллом. Это был больной вопрос внутренней политики Рима, одна из попыток аграрной реформы, которых так много было в последние полтора века республики. Имея своей целью восстановление мелкой собственности путем выселения пролетариата в земледельческие колонии, но неизменно сопряженные с закупкою, конфискацией и переделом земель, присвоенных богатыми собственниками, эти попытки постоянно встречали оппозицию со стороны правящих классов и неизменно оканчивались гибелью проектов и их авторов. В частности же Сервилиев закон проектировал назначение на пять лет комиссии из десяти членов с неограниченною властью над всеми материальными средствами государства и с правом продавать и скупать какие угодно земли, проверять притязания настоящих владельцев и выселять колонии куда угодно. Ужас и сопротивление имущих классов были необыкновенны, и новому консулу ничего не стоило разыграть из себя “патриота”. В речи перед сенатом он ярко расписывает бедствия, которые можно ожидать от приведения проекта в исполнение, и указывает на опасности, которыми он угрожает “добрым нравам, репутации, благополучию и устойчивости” римского государства. Он произносит затем две речи перед народом, в которых выставляет себя его другом, чествует память Гракхов и заявляет свое принципиальное согласие со всякой аграрной реформой, действительно, направленной на благо народа. Но, к сожалению, проект Сервилия идет вразрез с этим благом, так как не только влечет за собою коренное изменение в имущественных отношениях страны, но и фактически упраздняет конституцию, уничтожая права консулов и сената и облекая неограниченной властью десятерых ни перед кем не отвечающих личностей! Цицерон забыл, как он сам недавно еще ратовал за диктатуру Помпея, но невежественный народ поверил его искренности, и Сервилий принужден был взять свой проект обратно.
Но эта блистательная победа была лишь началом ряда других, которые вновь обращенный на путь истины консул одержал над демократией. Самая, однако, главная из них – та, которая навеки прославила Цицерона и его должностной год: это раскрытие и уничтожение заговора Катилины.
Люций Сергий Катилина, человек весьма знатный и талантливый, стоял во главе демократического движения и мечтал, добившись консульства, произвести государственный и экономический переворот. Всякому изучавшему историю последних двух веков римской республики известно, до какого ужасного состояния дошла Италия под правлением олигархии, именуемой сенатом: разоренный бесчисленными войнами, предпринятыми в интересах господствующих сословий, и отрезанный от всех источников пропитания конкуренцией рабского труда, римско-италийский народ превратился в сплошной деревенский и городской пролетариат, который, по словам Тиберия Гракха, не имел угла, куда бы мог преклонить свою усталую голову. Напрасно лучшие люди и патриоты указывали на эти язвы и требовали энергических мер к их излечению: господствующая плутократия упорно отказывалась, отвечая на все проекты и протесты насилием и убийствами. Благороднейшие люди, такие, как Гракхи, Сатурнин и Серторий, сложили свои головы за народное дело, пока не стало ясным, что, прежде чем добиваться реформ, необходимо вырвать власть из рук сената. Катилина это понял лучше, чем кто-либо до него: отсюда все нападки на его личность, которыми кишмя кишат сочинения Цицерона и Саллюстия, наших главных авторитетов. Если верить им, Катилина был самый испорченный человек своего времени: он убил родного брата, имел кровосмесительную связь со своей дочерью и совершил насилие над весталкою. Конечно, это басни: сам Саллюстий заявляет, что у него нет данных для подтверждения этих обвинений, и Цицерон семь лет спустя признает публично, что Катилина был выдающийся во всех отношениях человек, которого он сам одно время считал прекрасным гражданином. Вероятнее всего, что Катилина в своей молодости вел очень веселую жизнь и, подобно Цезарю и многим другим, нисколько не лучше и не хуже его, проводил время в играх и развлечениях, далеко не невинных ни по средствам, ни по обстановке. Мы даже готовы поверить, что он растратил в бурных кутежах свое большое состояние и погряз в долгах, хотя никак не можем примирить с этим другое заявление наших авторитетов, что при своих выборах он пускал в ход подкуп в широчайших размерах.
Первое появление Катилины на сцену относится к 65 году: он только что вернулся в столицу после наместничества в Африке и готовил свою кандидатуру на консульство. Чтобы помешать ему в этом, аристократическая партия возвела на него обвинение в лихоимстве, после чего он будто бы решил захватать власть насильно, перебив консулов и важнейших сенаторов. Для этого назначено было 1 января 65 года, когда знать и магистратура собирались на Капитолий для торжественных жертвоприношений; но слух об этом проник в публику, и план не удался. Тогда Катилина отложил выполнение его на 5 февраля, но и тут попытка не удалась по его же оплошности.
В правдивости этих рассказов вполне позволительно усомниться уже просто ввиду того, что, несмотря на злодейские умыслы, ни Катилина, ни кто-либо из его друзей не были арестованы или удалены: покусись они действительно на то, в чем их позднее обвинял Цицерон, сенатская олигархия, столь падкая на репрессии, не оставила бы их в покое, а постаралась бы устранить рукою палача или убийцы. Сам консул Торкват, на чью жизнь Катилина будто бы составил заговор, был и остался его другом, и когда в 64 году над ним состоялся процесс за лихоимство, не задумался вынести ему оправдательный вердикт, тем засвидетельствовав невиновность Катилины по обоим обвинениям. Лучшим же доказательством неосновательности последних является поведение самого Цицерона, который конфиденциально предложил себя Катилине в адвокаты по африканскому делу. Очевидно, обвинения против Катилины в террористических намерениях были чистой выдумкою позднейшей фабрикации, когда требовалось представить личность Катилины возможно чернее: тогда всякое лыко, даже воображаемое, шло в строку, и аудитория, внимавшая им из уст Цицерона, охотно рукоплескала.
В 64 году, освободившись от процесса, Катилина поставил свою кандидатуру на консульство 63 года в качестве вождя демократической оппозиции против Цицерона и пятерых других. По-видимому, Цицерон сам первоначально думал веста избирательную кампанию под демократическим ярлыком, для чего и сделал вышеупомянутую попытку заручиться благосклонностью Катилины; но, встретив отпор, он обратился к аристократии и получил от нее мандат. Результат выборов нам известен: убоявшись революционных замыслов Катилины, имущие классы единодушно отдали свои голоса Цицерону, и последний одержал блестящую победу. Реакция началась по всей линии: после провала Сервилия Рулла вновь избранный консул защитил Рабирия, обвинявшегося в соучастии в убийстве демократического вождя Сатурнина, и, наконец, принялся за Катилину, опять готовившего свою кандидатуру на консульство 62 года.
Достижение Катилиною этой должности должно было послужить сигналом к открытым военным действиям: умудренный горьким опытом прошлого, он зная, что правящие классы не сдадутся без борьбы и что, даже если ему и удастся добиться консульства, они, в рвении охранить свои интересы, не остановятся перед буквою конституции, объявляющей личность магистрата неприкосновенною. Поэтому он решил поставить свое предприятие на широкую и прочную основу и с этой целью собрал в Этрурии значительное войско из всех недовольных элементов общества, готовясь сейчас же после выборов отправиться к нему и поднять знамя восстания. Его замыслы и средства борьбы не заключали, стало быть, в себе ничего заговорщицкого, как это принято думать со времен Саллюстия: готовилась настоящая междоусобная война, война эксплуатируемых против эксплуатирующих, подобная той, какую 15 лет спустя повел с таким успехом Цезарь. То было широкое социальное движение, а не тайное предприятие одного или нескольких лиц, не имевших за собою ничего, кроме решимости и личного почина.
Но Цицерон не дремал. Через Фульвию, любовницу Курия, одного из приближенных Катилины, он был осведомлен о каждом шаге неприятеля и накануне выборов решил повести атаку. 20 октября он получил от сената разрешение отложить день выборов, а 21 сделал в сенате формальный допрос Катилине. Последний и не думал скрывать своих намерений: римское государство, сказал он, состоит из двух организмов – один слабый со слабою головою (сенат), а другой сильный, но без головы (народ): он, Катилина, намерен играть роль последней для второго. С этими словами он вышел из курии, оставив сенат в изумлении и ужасе.
Цицерон был обманут в своих ожиданиях: памятуя поведение сената во время борьбы с Гракхами, он надеялся, что Катилина будет растерзан на месте; но за последние сто лет произошли крупные перемены, и аристократия успела растерять последние остатки своего мужества. “Собрание царей” выродилось в собрание умственных и нравственных ничтожеств, да и консулы сами с Цицероном во главе были уже не Назики.
Тем не менее, Катилина выборы проиграл: Цицерон в совершенстве владел оружием, несравненно более опасным в те времена, нежели истина и право, – языком. Им наш благонамеренный оратор творил чудеса, распространяя слухи о заговоре, от которых у добрых людей волосы становились дыбом. Заговорщики встречались не иначе, как темной ночью; они давали друг другу страшные клятвы; они пробовали друг у друга кровь; они убивали младенцев и питались их внутренностями; они замышляли перебить знатнейших горожан; они собирались сжечь и разграбить весь город; они даже распределили его на сто участков со специальными комитетами для одновременного приведения этого ужасного замысла в исполнение и т.д., и т.д. Мороз продирал по коже от этих рассказов, и когда для вящего подтверждения их стали еще сыпать деньгами направо и налево, основав специальный для этого фонд, куда все защитники спокойствия и порядка, не исключая самого добродетельного Катона, внесли свои лепты, то все добрые граждане окончательно убедились, что с Катилиною шутить нельзя, и поголовно вотировали за сенатских кандидатов.
Тогда Катилина решил отправиться в Этрурию, передав заведование делами в Риме Лентуллу и Цетеггу, из которых первый был в том году городским претором. Узнав об этом, Цицерон решил дать Катилине генеральное сражение. Он опять распространил слухи о злодейских умыслах заговорщиков, говоря, что двое из них – сенатор Варгунтей и всадник Корнелий – приходили к нему утром на поклон с целью убить, но нашли его предупрежденным и недоступным, и созвал специальное собрание сената в храме Юпитера Зиждителя – на почтительном расстоянии от города и… опасной городской толпы, – куда пригласил и Катилину. Все было подготовлено к тому, чтоб угостить его так, как некогда угостили Гракхов, и Цицерон взял на себя инициативу. Как только мятежник, как бы не подозревая об имеющей разыграться комедии, вошел в сенат, почтенные мужи совета демонстративно покинули скамью, на которую он сел, и оставили его одного. Поднялся Цицерон и, дрожа от патриотического негодования, произнес свою знаменитую “Первую речь против Катилины”. “До коих пор Катилина намерен злоупотреблять нашим терпением? – загремел он, к величайшему восхищению своих коллег. – Разве он не знает, что все его умыслы и планы известны сенату и консулам так, как если бы они присутствовали на тайных совещаниях его и его сообщников? Разве он не знает, что слух о готовящемся поджоге города и избиении именитых сенаторов ходит по устам, вызывая негодование у всех, в ком живы еще добрые нравы, заповеданные великими предками? Разве Варгунтей и Корнелий не приходили к нему, Цицерону, сегодня же утром с целью убить его? Разве у него нет войска в Этрурии, набранного из гнуснейших подонков общества? Чего же он медлит? Зачем он остается в городе? Или он хочет дождаться участи, какая постигла Гракхов и Сатурнина, – участи, которую, впрочем, он заслужил уже давным-давно? (Увы! сенат не понимает намека и не трогается с места.) Пускай же он лучше убирается из Рима подобру-поздорову, пока шкура цела”. Он советует ему это сделать немедленно же, он требует этого во имя республики и сената, он умоляет его ради счастья и благоденствия римского народа…
Слова эти имели большой эффект, но все же не такой, какого ожидал Цицерон: Катилина оставил курию, не проронив ни слова, а сенаторы ограничились лишь яростными криками да объявлением осадного положения по формуле: videant consules. Преступник опять вышел невредимым из логовища врагов, и перуны консула пропали даром. По-видимому, однако, и сам Цицерон-громовержец был более храбр на словах, нежели на деле, потому что его совет Катилине бежать из Рима – совет, как он отлично знал, совершенно излишний – может быть объяснен лишь желанием избегнуть неприятной необходимости арестовать заговорщика и тем самым рисковать своей жизнью.
Катилина уехал в ту же ночь, а Цицерон, облеченный специальными полномочиями, принялся за дальнейшее искоренение “крамолы”. Без сомнения, он знал всех и каждого из друзей Катилины поименно и в лицо, он знал даже, где они встречаются и что намереваются предпринять; но вместе с тем он понимал, что делать на них открытое нападение без юридических доказательств в руках было бы делом несколько рискованным. Но напрасно объявляет он награды тому, кто сообщил бы ему сведения о действиях “заговорщиков” и доставил бы ему доказательства их преступности: никто не откликается, потому что заговора, собственно говоря, и не было, и народная масса симпатизировала Катилине больше, нежели сенату. Но того, чего Цицерон не мог добиться деньгами, ему удалось достичь благодаря бестактности самих катилинцев, потерявших в лице уехавшего вождя своего наиболее способного руководителя и организатора.
В Риме находились тогда послы от галльского племени аллоброгов, прибывшие с жалобою на своего наместника. Долго не получая удовлетворения, они были сильно раздражены против сената и охотно вступили в тайные переговоры с Лентуллом, обещая ему помощь для свершения coup d'etat. Вскоре, однако, они одумались и чистосердечно признались во всем своему патрону. Цицерон немедленно был оповещен о случившемся, и дело устроилось так: под предлогом, что их соотечественники не поверят одним словесным обещаниям, хитрые послы потребовали от Лентулла письменного договора и, заполучив его, отправились к Катилине в Этрурию за ратификацией. По дороге, однако, на них напали сенатские посланцы и отобрали документы. Больше Цицерону и не надо было: он немедленно созвал сенат в храм Согласия, вытребовал к себе Лентулла и Цетегга и, уличив их при помощи документов и свидетелей, велел их арестовать. 4 декабря на заседании сената были определены награды доносчикам, а 5 было проведено, по предложению Катона и Цицерона и при грозной оппозиции Цезаря, решение казнить заключенных без дальнейшего суда и апелляции. В сопровождении ликторов и громадной толпы сенаторов и всадников Цицерон собственноручно отвел осужденных в подземную Капитолийскую тюрьму и здесь приказал их задушить во славу сената и республики.
Это был финал всей истории: с удалением Катилины в Этрурию и смертью его главных сподвижников гидра революции была раздавлена, и благонамеренный Рим мог вздохнуть спокойно. Его уже больше не тревожил кошмар поджогов и убийств, ему уже больше не угрожала опасность переворотов и конфискаций, и он мог по-прежнему вести тучную жизнь за счет пота и крови италийского народа. Правда, в Капуе, Этрурии и других местах действовали еще инсургенты, но и они мало-помалу слабели за недостатком дисциплины и организации. Оставшись один с горстью верных друзей, Катилина, наконец, пал при Пистории в 62 году. Он погиб геройской смертью, а с ним – все его товарищи до единого, – все, как с удивлением замечает Саллюстий, с ранами в груди и с выражением решимости в лице.
Так трагически окончилась попытка свергнуть железное иго сенатской олигархии. Попытка эта была не первая – ей предшествовали многие другие, оканчивавшиеся также плачевно; но она была предпоследней: знамя, выпавшее из рук Катилины, было поднято Цезарем, и аристократия погибла.
Но покамест Цицерон имел полное основание ликовать. Человек без предков и без связей, только что переменивший свое амплуа – homo novus во всех отношениях, он, благодаря исключительно своему таланту красно говорить, достиг высших государственных почестей и спас республику, то есть имущие классы, от неминуемой гибели. Признательность последних не знала пределов: забыв жалкую роль, которую они играли, не замечая банкротства, столь громко заявленного фактом спасения их выскочкою, они осыпали счастливого консула такими почестями, какими до него не пользовался ни один римский гражданин. Его приветствовали повсюду как спасителя родины; ему преподнесли и в сенате, и на форуме неслыханный дотоле титул отца отечества, и в честь его воссылались богам бесчисленные молитвы и жертвоприношения. Каждую ночь в течение долгого времени город иллюминовался как в праздник, и повсюду, где появлялась знакомая фигура оратора, раздавались бешеные рукоплескания и возгласы и составлялся почетный конвой из цвета аристократической молодежи. Цицерон сделался популярнейшим человеком в Риме, но эта популярность, как мы сейчас увидим, продолжалась недолго.
Глава II
Тщеславие Цицерона и падение его популярности. – Отношение его к триумвирам. – Клодий и его процесс. – Кампания против Цицерона. – Малодушное его поведение, изгнание и переписка. – Агитация Милона в пользу амнистии. – Возвращение Цицерона. – Новый курс. – Цицерон в Киликии. – Междоусобная война и поведение Цицерона. – Примирение с Цезарем. – Политика Цицерона после 15 марта. – Антоний и Октавиан. – Бегство Цицерона. – Борьба с Антонием. – Филиппики. – II триумвират. – Проскрипция и смерть Цицерона. – Общий характер его частной жизни. – Ораторская и литературная деятельность. – Характер и сила его красноречия. – Его философские занятия. – Цицерон как писатель и его заслуги. – Содержание “Республики”
В конце 63 года Цицерон сложил с себя консульскую должность и, оставшись не у дел, стал жить простым сенатором, упиваясь обрушившимся на него почетом. В сознании услуг, оказанных им, незначительным арпинцем, надменному аристократическому сословию, он готов был, подобно Нарциссу, пасть на колени перед самим собою и любоваться отражением своих добродетелей, которое, казалось ему, он видел в раздающихся вкруг него похвалах. Его самомнению не было границ: он смотрел на себя, как на самого выдающегося человека в государстве, чье единое слово или жест имеет право на всеобщее внимание и повиновение. С деланной скромностью человека, знающего себе цену, он являлся в сенат, так беспримерно им облагодетельствованный, и с отеческою снисходительностью давал свои советы, то и дело напоминая своим коллегам приснопамятный год своего консульства и зловещие имена Катилины и Лентулла. Куда бы он ни являлся – в частный дом или на форум, в народное собрание или на суд – везде и всегда 63 год вертелся у него на языке, и вся его переписка за это время, речи и сочинения полны рассказами о его деяниях и заслугах. Злые языки говорили даже, что он по этому поводу написал одну латинскую и одну греческую поэмы, но, к счастью, они до нас не дошли. Известно лишь, что он обращался к одному из своих друзей с просьбою написать историю его консульства, причем просил “не жалеть красок” и “иметь в виду дружбу более, нежели истину”.
Понятно, что он стал надоедать. Люди редко с охотою выслушивают напоминания об оказанных им благодеяниях; но когда оно делается еще с такою назойливостью, как это делал Цицерон, они начинают тяготиться. От добродушного посмеивания над тщеславными выходками экс-консула даже лучшие его друзья стали мало-помалу переходить к недоумению, а потом к раздражительности; когда же эти выходки приняли характер притязаний на всеобщее поклонение, раздражительность перешла в презрение и, наконец, в ненависть. Популярность Цицерона постепенно исчезала, ореол его тускнел, и аристократия, наконец, увидела, что имеет дело с несносным выскочкою, которому надлежит указать его место. В этом помог ей сам Цицерон.
В 61 году после шестилетнего пребывания на Востоке возвратился Помпей и сразу пришел в столкновение с сенатом по поводу наделения его ветеранов землею; около этого же времени прибыл из Испании и Цезарь и стал домогаться консульства. Оба честолюбца, видя, как трудно преодолеть оппозицию сената разъединенными силами, решили сблизиться и в 60 году заключили союз с целью общими средствами достичь власти. В союз был принят богатый Красс, и они втроем составили план кампании против сенатского режима. Цицерон почувствовал себя оскорбленным: уже один тот факт, что его, величайшего и заслуженнейшего из римлян, могли обойти, не считая даже нужным справляться с его мнением или заручиться его благосклонностью, казался ему величайшей неблагодарностью; но обида еще более усилилась, когда на все авансы, которые он, после некоторого колебания, решил делать через третье лицо, предлагая свой нейтралитет взамен места в жреческой коллегии, триумвиры не нашли другого ответа, кроме холодного равнодушия. Это было больше, чем он мог снести: его, очевидно, ставили ни во что, и Цицерон принялся изо всех сил расстраивать триумвират, стараясь отвлечь от него своего старого друга, слабохарактерного Помпея. Увы! Его усилия были бесплодны: честолюбие Помпея оказалось сильнее его дружбы, и Цицерон в отчаянии и тоске стал, как фурия, метаться по Италии, беснуясь над своим бессилием и злобствуя на весь мир. Триумвирам, наконец, надоело возиться с ним, и Цезарь пробовал было удалить его со сцены миром, предложив ему при себе должность легата и место в комиссии по переделу кампанских земель; но ничто не брало: уязвленный оратор отказывался слышать о каких бы то ни было предложениях, тем менее об отъезде из Рима. Тогда новые владыки республики решили спровадить его силой и с этой целью выдвинули против него пресловутого Клодия, его заклятого врага.
Этот Клодий принадлежал к Клавдиям, одному из знатнейших родов Рима; его патроном был Марк Красс. В 65 году он оставался еще на стороне сенатской аристократии, выступая обвинителем Катилины в его африканском процессе по лихоимству; но уже тремя годами позже мы находим его в рядах демократической партии, где он приобретает известность своей энергией, смелостью и… легкими нравами. Он был большой друг – политический и личный – Цезаря, но это нисколько не помешало ему завести тайную связь с его женою. В 62 году, когда он был избран квестором на будущий год, эта связь закончилась скандалом, который заставил говорить о себе все римское общество: переодетый в женское платье, он проник и был узнан в доме Цезаря, бывшего тогда верховным жрецом, как раз в то время, как его жена справляла при участии знатнейших матрон таинства в честь Bona Dea, на которых присутствие мужчины было строго-настрого запрещено. Случай был необыкновенно сенсационный, но он, быть может, прошел бы бесследно, если бы сенат не вздумал из-за этого устроить Клодию процесс. Мотивом выставили совершение святотатства, как поступок Клодия с важностью определила жреческая коллегия; но можно смело усомниться в искренности его, видя, с одной стороны, что со времени совершения проступка прошло целых семь месяцев, и зная, с другой стороны, что ни один из образованных людей того времени не верил ни в Bona Dea, ни в ее таинства. Вероятнее всего, расчеты были исключительно политические, и обвинение в святотатстве выдвинули лишь как предлог загубить видного члена оппозиционной партии. Это, между прочим, явствует еще из того, что Цезарь, глава демократии после Катилины, согласился забыть обиду, понесенную им в качестве обманутого мужа, и упорно отказывался, несмотря на свидетельства домашних и друзей, давать против адюльтера какие-либо показания. Правда, он развелся со своей женою и тем как бы признавал ее преступность; но это он мотивировал тем, что “жена Цезаря должна стоять выше даже подозрений”.