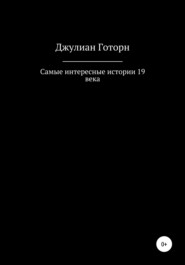По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Готические истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Готические истории
Монтегю Родс Джеймс
Редьярд Джозеф Киплинг
Брэм Стокер
Элджернон Генри Блэквуд
Амброз Бирс
Персеваль Лэндон
Эдит Уортон
Мэри Уолстонкрафт Шелли
Уильям Фрайер Харви
Эдвард Джордж Бульвер-Литтон
Джон Бакан
Джозеф Шеридан Ле Фаню
Вернон Ли
Эдвард Фредерик Бенсон
Джулиан Готорн
Сергей Александрович Антонов
Всемирная литература
В книге представлена коллекция мистических, таинственных и жутких историй, созданных западноевропейскими и американскими писателями XVIII–XX веков. Эти произведения, при всем их разнообразии, объединяет тема сверхъестественного, которое вторгается в размеренный ход повседневной жизни. Авторы вовлекают своих героев и читателей в страшный готический мир, полный метафизических и психологических загадок, не поддающихся привычным, рациональным объяснениям.
Готические истории
© Антонов С.А., составление, перевод на русский язык, 2024
© Брилова Л.Ю., перевод на русский язык, 2024
© Ибрагимов А.Ш., перевод на русский язык, 2024
© Токарева Е.О., перевод на русский язык, 2024
© Роговская Н.Ф., перевод на русский язые, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Мэри Шелли
1797–1851
Превращение
И тут я, пойманный в силки,
Волнуясь и спеша,
Все рассказал. И от цепей
Избавилась душа.
Но с той поры в урочный час
Мне боль сжимает грудь.
Я должен повторить рассказ,
Чтоб эту боль стряхнуть[1 - Перевод В. Левика.].
«Старый Мореход» Кольриджа
Мне доводилось слышать, что человек, с которым произошло какое-либо странное, сверхъестественное или магическое событие, впоследствии временами пребывает в состоянии, так сказать, умственного смятения и, как бы ему, возможно, ни хотелось скрыть случившееся, не способен утаить от ближнего сокровенные глубины своей души. Свидетельствую, что это наблюдение – сущая правда. Я истово поклялся самому себе ни за что не открывать слуху смертного те ужасы, во власть которых меня некогда ввергла неуемная, дьявольская гордыня. Праведника, выслушавшего мою исповедь и примирившего меня с Церковью, уже нет в живых. Никто не знает, что когда-то…
Так стоит ли нарушать однажды данную клятву? К чему рассказывать повесть о нечестивом вызове Провидению, об унижении, подавляющем душу? Зачем? Ответьте мне, вы, умудренные знанием тайн человеческой натуры! Я убежден лишь в том, что это необходимо; вопреки моему твердому решению – наперекор обуревающей меня гордыне – невзирая на стыд и даже на страх предстать перед ближними в самом гнусном виде – я должен говорить.
Генуя! Город, где я родился, – горделивый, глядящийся в лазурные воды Средиземного моря, – помнишь ли ты меня в детские годы, когда твои береговые скалы и мысы, твои ясные небеса и цветущие виноградники были моим миром? Счастливая пора! Время, когда узкие пределы доступного пространства сковывают наши физические возможности, но сама эта ограниченность обращает юную душу к воображаемым просторам; единственный период нашей жизни, когда невинность и радость пребывают в единстве. И тем не менее кому удается оглянуться на собственное детство без того, чтобы не вспомнить о его горестях и мучительных страхах? С рождения я отличался самым заносчивым, высокомерным и неукротимым нравом из всех, какими были когда-либо наделены смертные. Я робел только перед отцом; а он, человек великодушный и благородный, но своенравный и властный, одновременно и поощрял, и сдерживал неистовые порывы моей натуры, что заставляло меня быть покорным, но не вызывало уважения к мотивам, которыми он руководствовался, отдавая свои распоряжения. Стать мужчиной, свободным, независимым – или, лучше сказать, надменным и деспотичным, – таковы были надежда и молитва моего мятежного сердца.
У моего отца был друг, богатый и знатный генуэзец; в годину политической смуты его внезапно приговорили к изгнанию и лишили имущества. В ссылку маркиз Торелья отправился один. Он был вдовцом, как и мой отец, на чьем попечении осталось единственное дитя маркиза – малютка Джульетта. Я, несомненно, дурно обращался бы с этой милой девочкой, если бы мое положение не вынудило меня стать ее покровителем. Различные происшествия детской поры побуждали Джульетту видеть во мне спасительную опору; я же воспринимал ее как нежное, чувствительное создание, которое неизбежно погибло бы, соприкоснувшись с жестокостью внешнего мира, не будь оно окружено моей бдительной заботой. Мы росли вместе. Первая майская роза не так прелестна, как прелестна была эта милая девочка. Ее личико овевало сияние красоты. Ее фигурка, поступь, голос – даже сейчас мое сердце рыдает, едва мне приходит на ум все то доверчивое, нежное, любящее и чистое, что заключалось в этой божественной обители души. Когда мне было одиннадцать лет, а Джульетте восемь, мой двоюродный брат, заметно превосходивший годами нас обоих – он казался нам взрослым мужчиной, – обратил самое пристальное внимание на мою маленькую подругу: он назвал ее своей невестой и попросил стать его женой. Получив отказ, он принялся настаивать и насильно привлек ее к себе. В исступлении чувств, с перекошенным от злобы лицом я набросился на него, попытался выхватить его клинок, в ярости сомкнул руки у него на шее, намереваясь задушить его; ему пришлось звать на помощь, чтобы освободиться. Тем же вечером я привел Джульетту в домашнюю часовню и заставил прикоснуться к священным реликвиям – я разбередил ее детское сердце, осквернил ее детские уста клятвой, что она будет моей, и только моей.
Что ж, те дни миновали. Спустя несколько лет Торелья вернулся и зажил в еще большем богатстве и процветании, чем прежде. Я был семнадцатилетним юнцом, когда мой отец, который купался в роскоши, граничившей с мотовством, умер; Торелья радовался тому, что мое несовершеннолетие позволяет ему заняться обустройством моих дел. Мы с Джульеттой обручились у отцовского смертного одра, Торелье предстояло сделаться для меня приемным родителем.
Я жаждал повидать мир – и принялся утолять эту жажду. Я отправился во Флоренцию, Рим, Неаполь; оттуда проследовал в Тулон и наконец достиг заветной цели своих стремлений – Парижа. В ту пору там творилось нечто невообразимое. Несчастный король Карл VI, то пребывавший в здравом уме, то впадавший в безумие, выглядевший то монархом, то презренным рабом, был поистине насмешкой над человечеством. Королева, дофин и герцог Бургундский, попеременно друзья и враги, то вместе восседали на богатых пирах, то вступали в кровопролитное соперничество друг с другом; погрязшие в распутстве и в ожесточенных распрях, они оставались слепы к бедственному положению страны и нависшим над нею опасностям. Мой нрав по-прежнему давал знать о себе. Я был высокомерен и своеволен; я любил быть на виду и, что еще важнее, отбросил всякую сдержанность. Кто смог бы обуздать меня в Париже? Юные друзья с готовностью потакали моим страстям, которые служили для них источником наслаждений. Я считался привлекательным; я слыл образцом всех мыслимых рыцарских достоинств. Я не принадлежал ни к одной политической партии. Я сделался всеобщим любимцем, которому в силу юного возраста прощались заносчивость и гордыня; я превратился в избалованного ребенка. Что могло усмирить меня? Уж конечно, не письма и советы Торельи – разве что острая нужда, являвшаяся мне в виде отвратительной тени пустого кошелька. Однако существовало средство заполнить эту пустоту. Я продавал – акр за акром, имение за имением. Моим нарядам, драгоценностям, лошадям и их снаряжению почти не было равных в блистательном Париже, меж тем как мои наследные земли переходили в чужие руки.
Герцог Орлеанский попал в засаду и был убит герцогом Бургундским. Страх и ужас охватили весь Париж. Дофин и королева затворились в своих покоях; все развлечения были на некоторое время отменены. Такое положение дел мало-помалу утомило меня, и я устремился душою к местам, любимым с детства. Почти что нищий, я все же намеревался воротиться туда, заявить свои права на Джульетту и восстановить свое состояние. Несколько удачных торговых сделок должны были вернуть мне богатство. При этом возвращаться в обличии бедняка не входило в мои планы. Напоследок я продал остававшееся у меня имение вблизи Альбаро, выручив всего половину его стоимости, зато наличными деньгами. Потом отправил различные украшения, гобелены и по-королевски роскошную мебель в свой дворец в Генуе – единственное обиталище, уцелевшее из моего наследного имущества. Сам же я еще ненадолго задержался, стыдясь той роли воротившегося блудного сына, которую, как я опасался, мне предстояло сыграть. Отослал я и лошадей, отправив одного несравненного испанского скакуна своей нареченной невесте; его чепрак пламенел драгоценными камнями и золотой парчой, в которую я распорядился вплести инициалы Джульетты и ее Гвидо. И она, и ее отец благосклонно приняли мой подарок.
Но и вернуться отъявленным мотом, стать предметом бесцеремонного, возможно, глумливого интереса сограждан, оказаться один на один с их укорами и издевками было не самой заманчивой перспективой. Дабы защититься от враждебной молвы, я попросил нескольких наиболее беспутных своих приятелей сопровождать меня; и затем отправился в дорогу, вооруженный против целого мира, скрывающий мучительное чувство – наполовину страх, наполовину раскаяние, – ведомый бравадой и с дерзким видом удовлетворенного тщеславия.
Я прибыл в Геную; прошелся по мозаичному полу фамильного дворца. Моя горделивая поступь пребывала в разладе с моими чувствами, ибо, несмотря на окружавшую меня роскошь, в глубине души я ощущал себя нищим. Все и каждый узнают об этом, стоит только мне заявить свои права на Джульетту. Во взглядах встречных я читал презрение или жалость. Мне представлялось (столь склонна наша совесть воображать те муки, коих она заслуживает), что все вокруг – и стар и млад, и богач и бедняк – насмехаются надо мной. Торелья не приходил, и это было неудивительно: приемный отец, вероятно, полагал, что я должен выказать сыновнюю почтительность и сам явиться к нему. Однако, глубоко уязвленный сознанием своих безрассудств и пороков, я попытался переложить вину на других. Еженощно мы предавались оргиям в Палаццо Карега. За этими бессонными, разгульными ночами следовали полные апатии утра. Когда читали молитву Богородице, наши утонченные особы показывались на улицах, глумясь над добропорядочными обывателями и вызывающе глядя на робевших женщин. Джульетты среди них не было – нет, нет; появись она там, стыд прогнал бы меня прочь, если бы только любовь не побудила пасть к ее ногам.
Постепенно мне все это наскучило. Без предупреждения я навестил маркиза. Он был у себя на вилле, одной из многих, украшавших окрестности Сан-Пьетро-д’Арена. Стоял месяц май – май в этом благодатном уголке мира; цветки фруктовых деревьев увядали среди пышной зеленой листвы; виноградные лозы простирались повсюду; земля была усыпана опавшими лепестками олив; светляки населяли миртовую изгородь; небеса и землю одевал покров необыкновенной красоты. Торелья приветствовал меня с дружелюбным, хотя и серьезным видом, и даже эта тень неудовольствия вскоре растаяла. Черты сходства с отцом – выражение и тон юношеского простосердечия, по-прежнему дремавшего во мне, несмотря на мои проступки, – смягчили сердце доброго старика. Он послал за дочерью – и представил ей меня в качестве жениха. Покой озарился неземным светом при ее появлении. Ее лицо, с большими ласковыми глазами, пухлыми, в ямочках, щеками, младенчески-нежными устами, было лицом херувима и выражало редкое единение счастья и любви. В первый момент меня охватило восхищение. «Она моя!» – подумал я в следующий миг в порыве самодовольства, и мои губы искривила усмешка, исполненная горделивого торжества. Я не был бы enfant g?te[2 - Слуга (фр.).] французских красавиц, не овладей я искусством угождать отзывчивым женским сердцам. В мужском кругу я выказывал властность – что лишь выразительнее подчеркивало ту почтительность, с какой я относился к женщинам. И теперь я начал свои ухаживания, расточая тысячу любезностей Джульетте, которая, дав мне в детстве клятву, никогда не позволяла себе увлечься кем-то другим и, хотя и привыкла быть предметом восхищенного преклонения, не владела языком влюбленных.
В продолжение нескольких дней все складывалось как нельзя лучше. Торелья ни разу не помянул о моем мотовстве и держался со мной как с любимым сыном. Но когда мы принялись обсуждать предварительные условия моего союза с его дочерью, эта благообразная картина с неизбежностью омрачилась. Еще при жизни моего отца был составлен брачный договор. В сущности, я сделал его недействительным, растранжирив без остатка состояние, каковое должен был разделить с Джульеттой. Посему Торелья предложил считать этот договор расторгнутым и взамен заключить другой, согласно которому приданое его дочери возрастало безмерно, однако на расходы налагалось великое множество ограничений. Почитая независимостью одни лишь свободные проявления своей властной воли, я упрекнул маркиза в том, что он пытается извлечь выгоду из моего бедственного положения, и напрочь отверг названные условия. Старик начал было мягко увещевать меня, призывая проявить благоразумие. Взыгравшая гордость овладела моими мыслями: я выслушал его с негодованием – и отринул с пренебрежением.
– Джульетта, ты – моя! Разве в пору невинного детства мы не обменялись клятвами верности? Разве не едины мы в очах Господних? Неужели твой бессердечный, жестокий отец разлучит нас? Будь же великодушна, любовь моя, будь справедлива; не отбирай дара, составляющего последнее сокровище твоего Гвидо, – не отрекайся от своих клятв; позволь нам бросить вызов миру и, презрев расчеты и предписания старости, найти в нашей взаимной любви убежище от всякого зла.
Вероятно, пытаясь отравить подобными софизмами это святилище праведной мысли и нежной любви, я напоминал дьявола. Джульетта в ужасе отпрянула от меня. Отец был для нее самым лучшим и добрым из людей, и она стремилась доказать мне, что покорность ему приносит одно лишь благо. Он примет мое запоздалое смирение с сердечной приязнью, и ответом на мои покаянные слова станет великодушное прощение. Напрасны увещевания юной и нежной девы в адрес человека, привыкшего считать свою волю законом, человека, в душе которого обитал ужасный, непреклонный тиран, способный покориться только собственным властным желаниям! Сопротивление лишь сильнее распаляло меня; мои сумасбродные приятели всегда готовы были подлить масла в огонь. Мы замыслили похитить Джульетту. Поначалу наша затея как будто увенчалась успехом. Но на обратном пути мы столкнулись с терзаемым муками отцом и его слугами. Произошла стычка, и, еще до того как вмешательство городской стражи позволило нашим противникам одержать верх, двое людей Торельи получили опасные ранения.
Эта часть моей истории тяготит меня сильнее всего. Ныне, став другим, я с отвращением вспоминаю себя в ту пору. Не приведи бог никому из внимающих этому рассказу когда-нибудь ощутить то, что чувствовал я. Конь, принуждаемый к неистовой скачке всадником с острыми шпорами, был свободнее, чем я – раб жестокой тирании собственной натуры. Моей душой завладел дьявол, язвивший ее до безумия. Голос совести взывал ко мне, но едва я поддавался его увещеваниям, как меня – игрушку страстей, порожденных гордыней, – подхватывал и уносил вдаль поток неимоверной ярости, подобный урагану. Я был заключен в тюрьму, но, по требованию Торельи, освобожден и вновь вернулся, чтобы силой увезти обоих – и отца, и его дитя – во Францию; эта несчастная страна, где в ту пору промышляли грабежом шайки разбойников и орды вышедших из повиновения солдат, могла стать благоприятным убежищем для преступника вроде меня. Наш замысел был раскрыт. Меня приговорили к изгнанию, и, так как мои долги уже достигли колоссальной величины, остававшаяся у меня собственность была передана в качестве уплаты специальным уполномоченным. Торелья опять предложил свое посредничество, потребовав взамен только одного – обещания не предпринимать новых бесплодных покушений на него и на его дочь. Я презрительно отверг это предложение и возомнил себя победителем, когда оказался одиноким изгнанником без гроша за душой, выдворенным за пределы Генуи. Приятели оставили меня: они покинули город несколькими неделями раньше и теперь уже находились во Франции. Я был один – без друзей, без меча на поясе, без единого дуката в кошельке.
Я бродил по берегу моря, объятый и жестоко терзаемый вихрем страстей. Казалось, внутри меня пылают раскаленные угли. Поначалу я предался размышлениям о том, что мне следует делать. Я намеревался примкнуть к разбойничьей шайке. Месть! Это слово представлялось мне бальзамом – я обнимал его, ласкал, – покуда оно не ужалило меня, подобно змее. Нет, мне нужно презреть и забыть Геную, этот невзрачный закоулок мира. Лучше вернуться в Париж, где у меня полным-полно друзей; где мои услуги найдут радушный прием; где я мечом проложу себе путь к счастью и, преуспев, смогу заставить свою ничтожную родину и лживого Торелью пожалеть о том дне, когда они изгнали меня, нового Кориолана, за пределы городских стен. Вернуться в Париж – вот так, пешком – полностью разоренным – и предстать во всей своей нищете перед теми, кого я прежде тешил ослепительной роскошью? От одной только мысли об этом во мне закипала желчь.
Постепенно осознавая истинное положение вещей, я преисполнялся отчаяния. Лишения, которые я претерпел за несколько месяцев, проведенных в узилище, распалили мою душу до безумия, но ослабили ее телесную оболочку. Я был изнурен и безволен. Дабы обеспечить мне сносные условия в тюрьме, Торелья использовал множество ухищрений; однако я распознал и пренебрежительно отверг их все – и теперь пожинал плоды собственного упрямства. Что я должен был сделать? Пасть к ногам своего врага и умолять о прощении? – Да лучше умереть десятью тысячами смертей! Никогда не добиться им этой победы! Ненависть – я принес клятву вечной ненависти! Ненависти – чьей? К кому? – Бродяги-изгнанника к могущественному вельможе. И я, и мои чувства были для них ничто: они уже позабыли о столь недостойном человеке. А Джульетта! Ее ангельское лицо и грациозная фигура напрасно сияли красотой среди туч моего отчаяния – ибо я потерял ее, потерял гордость и цвет этого мира! Другой назовет ее своею! Эта неземная улыбка сделает счастливым другого!
Даже теперь сердце мое замирает, случись мне припомнить те мрачные думы. То почти обессилев от слез, то заходясь яростью, вызванной душевными муками, я продолжал бродить по каменистому берегу, который с каждым моим шагом выглядел все более диким и безотрадным. Отвесные скалы и побелевшие от времени утесы вздымались над спокойными водами океана; зияли чернотой входы пещер; из бухт, источенных морем, непрестанно доносился шелестящий плеск волн. Неожиданно на моем пути возникла преграда – крутой мыс, практически неприступный из-за нагромождения рухнувших сверху обломков камней. Близился вечер, когда в направлении океана вытянулась возникшая словно по мановению волшебного жезла темная пелена туч, которая омрачила еще недавно синее небо и накрыла тревожной тенью дотоле мирные воды. Странные, фантастические очертания этих туч изменялись, сливались друг с другом; казалось, ими движет какое-то властное заклинание. На волнах появились белые гребни; гром, сперва глухо пророкотавший, вскоре мощно загремел из-за темно-багряной водной пустыни, испещренной пятнами пены. Местность, где я находился, одной стороной была обращена к раскинувшемуся во всю ширь океану, с другой же ее ограничивал внушительного вида мыс. Внезапно из-за его оконечности появилось гонимое ветром судно. Тщетно моряки силились направить свой корабль в открытое море – шторм влек его прямо на скалы. Он погибнет! Все на его борту погибнут! Если бы я мог оказаться среди них! Мое юное сердце впервые встретило с радостью мысль о смерти. Страшно было наблюдать за тем, как это судно пытается противостоять судьбе. Я с трудом мог разглядеть моряков, но до меня долетали их возгласы. Скоро все будет кончено! Скала, скрытая бурными волнами и потому незаметная, лежала в засаде, поджидая свою жертву. Удар грома раздался у меня над головой в тот самый миг, когда челн с ужасным содроганием наскочил на незримого врага. Не прошло и минуты, как судно разнесло в щепки. Я был в безопасности – а мои собратья тем временем вели безнадежную борьбу за жизнь. Мне чудилось, что я и в самом деле вижу, как они борются, – до того реальны были их крики, в пронзительной агонии перекрывавшие рев и грохот валов. Обломки разбитого судна, кидаемые взад и вперед темными бурунами, вскоре пропали из виду. Я наблюдал за происходящим до самого конца, не в силах отвести взор; потом опустился на колени и закрыл лицо руками. Затем вновь взглянул на море: что-то колыхалось на волнах неподалеку от берега и мало-помалу приближалось к нему. Неужели это человек? Очертания становились все явственнее; и наконец мощная волна вознесла свой груз и выбросила его на скалу. Человек, сидящий верхом на матросском сундучке! – Человек! – В самом ли деле? Определенно, среди людей такого еще не бывало: уродливый карлик, косоглазый, с безобразными чертами и искривленным туловищем, создание, облик которого вызывал ужас. Я уже было начал проникаться сочувствием к ближнему, вырвавшемуся из водной могилы, – и вот в мгновение ока кровь застыла в моих жилах. Карлик слез с сундучка и откинул назад прямые, растрепанные волосы, открыв гнусную физиономию.
Монтегю Родс Джеймс
Редьярд Джозеф Киплинг
Брэм Стокер
Элджернон Генри Блэквуд
Амброз Бирс
Персеваль Лэндон
Эдит Уортон
Мэри Уолстонкрафт Шелли
Уильям Фрайер Харви
Эдвард Джордж Бульвер-Литтон
Джон Бакан
Джозеф Шеридан Ле Фаню
Вернон Ли
Эдвард Фредерик Бенсон
Джулиан Готорн
Сергей Александрович Антонов
Всемирная литература
В книге представлена коллекция мистических, таинственных и жутких историй, созданных западноевропейскими и американскими писателями XVIII–XX веков. Эти произведения, при всем их разнообразии, объединяет тема сверхъестественного, которое вторгается в размеренный ход повседневной жизни. Авторы вовлекают своих героев и читателей в страшный готический мир, полный метафизических и психологических загадок, не поддающихся привычным, рациональным объяснениям.
Готические истории
© Антонов С.А., составление, перевод на русский язык, 2024
© Брилова Л.Ю., перевод на русский язык, 2024
© Ибрагимов А.Ш., перевод на русский язык, 2024
© Токарева Е.О., перевод на русский язык, 2024
© Роговская Н.Ф., перевод на русский язые, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Мэри Шелли
1797–1851
Превращение
И тут я, пойманный в силки,
Волнуясь и спеша,
Все рассказал. И от цепей
Избавилась душа.
Но с той поры в урочный час
Мне боль сжимает грудь.
Я должен повторить рассказ,
Чтоб эту боль стряхнуть[1 - Перевод В. Левика.].
«Старый Мореход» Кольриджа
Мне доводилось слышать, что человек, с которым произошло какое-либо странное, сверхъестественное или магическое событие, впоследствии временами пребывает в состоянии, так сказать, умственного смятения и, как бы ему, возможно, ни хотелось скрыть случившееся, не способен утаить от ближнего сокровенные глубины своей души. Свидетельствую, что это наблюдение – сущая правда. Я истово поклялся самому себе ни за что не открывать слуху смертного те ужасы, во власть которых меня некогда ввергла неуемная, дьявольская гордыня. Праведника, выслушавшего мою исповедь и примирившего меня с Церковью, уже нет в живых. Никто не знает, что когда-то…
Так стоит ли нарушать однажды данную клятву? К чему рассказывать повесть о нечестивом вызове Провидению, об унижении, подавляющем душу? Зачем? Ответьте мне, вы, умудренные знанием тайн человеческой натуры! Я убежден лишь в том, что это необходимо; вопреки моему твердому решению – наперекор обуревающей меня гордыне – невзирая на стыд и даже на страх предстать перед ближними в самом гнусном виде – я должен говорить.
Генуя! Город, где я родился, – горделивый, глядящийся в лазурные воды Средиземного моря, – помнишь ли ты меня в детские годы, когда твои береговые скалы и мысы, твои ясные небеса и цветущие виноградники были моим миром? Счастливая пора! Время, когда узкие пределы доступного пространства сковывают наши физические возможности, но сама эта ограниченность обращает юную душу к воображаемым просторам; единственный период нашей жизни, когда невинность и радость пребывают в единстве. И тем не менее кому удается оглянуться на собственное детство без того, чтобы не вспомнить о его горестях и мучительных страхах? С рождения я отличался самым заносчивым, высокомерным и неукротимым нравом из всех, какими были когда-либо наделены смертные. Я робел только перед отцом; а он, человек великодушный и благородный, но своенравный и властный, одновременно и поощрял, и сдерживал неистовые порывы моей натуры, что заставляло меня быть покорным, но не вызывало уважения к мотивам, которыми он руководствовался, отдавая свои распоряжения. Стать мужчиной, свободным, независимым – или, лучше сказать, надменным и деспотичным, – таковы были надежда и молитва моего мятежного сердца.
У моего отца был друг, богатый и знатный генуэзец; в годину политической смуты его внезапно приговорили к изгнанию и лишили имущества. В ссылку маркиз Торелья отправился один. Он был вдовцом, как и мой отец, на чьем попечении осталось единственное дитя маркиза – малютка Джульетта. Я, несомненно, дурно обращался бы с этой милой девочкой, если бы мое положение не вынудило меня стать ее покровителем. Различные происшествия детской поры побуждали Джульетту видеть во мне спасительную опору; я же воспринимал ее как нежное, чувствительное создание, которое неизбежно погибло бы, соприкоснувшись с жестокостью внешнего мира, не будь оно окружено моей бдительной заботой. Мы росли вместе. Первая майская роза не так прелестна, как прелестна была эта милая девочка. Ее личико овевало сияние красоты. Ее фигурка, поступь, голос – даже сейчас мое сердце рыдает, едва мне приходит на ум все то доверчивое, нежное, любящее и чистое, что заключалось в этой божественной обители души. Когда мне было одиннадцать лет, а Джульетте восемь, мой двоюродный брат, заметно превосходивший годами нас обоих – он казался нам взрослым мужчиной, – обратил самое пристальное внимание на мою маленькую подругу: он назвал ее своей невестой и попросил стать его женой. Получив отказ, он принялся настаивать и насильно привлек ее к себе. В исступлении чувств, с перекошенным от злобы лицом я набросился на него, попытался выхватить его клинок, в ярости сомкнул руки у него на шее, намереваясь задушить его; ему пришлось звать на помощь, чтобы освободиться. Тем же вечером я привел Джульетту в домашнюю часовню и заставил прикоснуться к священным реликвиям – я разбередил ее детское сердце, осквернил ее детские уста клятвой, что она будет моей, и только моей.
Что ж, те дни миновали. Спустя несколько лет Торелья вернулся и зажил в еще большем богатстве и процветании, чем прежде. Я был семнадцатилетним юнцом, когда мой отец, который купался в роскоши, граничившей с мотовством, умер; Торелья радовался тому, что мое несовершеннолетие позволяет ему заняться обустройством моих дел. Мы с Джульеттой обручились у отцовского смертного одра, Торелье предстояло сделаться для меня приемным родителем.
Я жаждал повидать мир – и принялся утолять эту жажду. Я отправился во Флоренцию, Рим, Неаполь; оттуда проследовал в Тулон и наконец достиг заветной цели своих стремлений – Парижа. В ту пору там творилось нечто невообразимое. Несчастный король Карл VI, то пребывавший в здравом уме, то впадавший в безумие, выглядевший то монархом, то презренным рабом, был поистине насмешкой над человечеством. Королева, дофин и герцог Бургундский, попеременно друзья и враги, то вместе восседали на богатых пирах, то вступали в кровопролитное соперничество друг с другом; погрязшие в распутстве и в ожесточенных распрях, они оставались слепы к бедственному положению страны и нависшим над нею опасностям. Мой нрав по-прежнему давал знать о себе. Я был высокомерен и своеволен; я любил быть на виду и, что еще важнее, отбросил всякую сдержанность. Кто смог бы обуздать меня в Париже? Юные друзья с готовностью потакали моим страстям, которые служили для них источником наслаждений. Я считался привлекательным; я слыл образцом всех мыслимых рыцарских достоинств. Я не принадлежал ни к одной политической партии. Я сделался всеобщим любимцем, которому в силу юного возраста прощались заносчивость и гордыня; я превратился в избалованного ребенка. Что могло усмирить меня? Уж конечно, не письма и советы Торельи – разве что острая нужда, являвшаяся мне в виде отвратительной тени пустого кошелька. Однако существовало средство заполнить эту пустоту. Я продавал – акр за акром, имение за имением. Моим нарядам, драгоценностям, лошадям и их снаряжению почти не было равных в блистательном Париже, меж тем как мои наследные земли переходили в чужие руки.
Герцог Орлеанский попал в засаду и был убит герцогом Бургундским. Страх и ужас охватили весь Париж. Дофин и королева затворились в своих покоях; все развлечения были на некоторое время отменены. Такое положение дел мало-помалу утомило меня, и я устремился душою к местам, любимым с детства. Почти что нищий, я все же намеревался воротиться туда, заявить свои права на Джульетту и восстановить свое состояние. Несколько удачных торговых сделок должны были вернуть мне богатство. При этом возвращаться в обличии бедняка не входило в мои планы. Напоследок я продал остававшееся у меня имение вблизи Альбаро, выручив всего половину его стоимости, зато наличными деньгами. Потом отправил различные украшения, гобелены и по-королевски роскошную мебель в свой дворец в Генуе – единственное обиталище, уцелевшее из моего наследного имущества. Сам же я еще ненадолго задержался, стыдясь той роли воротившегося блудного сына, которую, как я опасался, мне предстояло сыграть. Отослал я и лошадей, отправив одного несравненного испанского скакуна своей нареченной невесте; его чепрак пламенел драгоценными камнями и золотой парчой, в которую я распорядился вплести инициалы Джульетты и ее Гвидо. И она, и ее отец благосклонно приняли мой подарок.
Но и вернуться отъявленным мотом, стать предметом бесцеремонного, возможно, глумливого интереса сограждан, оказаться один на один с их укорами и издевками было не самой заманчивой перспективой. Дабы защититься от враждебной молвы, я попросил нескольких наиболее беспутных своих приятелей сопровождать меня; и затем отправился в дорогу, вооруженный против целого мира, скрывающий мучительное чувство – наполовину страх, наполовину раскаяние, – ведомый бравадой и с дерзким видом удовлетворенного тщеславия.
Я прибыл в Геную; прошелся по мозаичному полу фамильного дворца. Моя горделивая поступь пребывала в разладе с моими чувствами, ибо, несмотря на окружавшую меня роскошь, в глубине души я ощущал себя нищим. Все и каждый узнают об этом, стоит только мне заявить свои права на Джульетту. Во взглядах встречных я читал презрение или жалость. Мне представлялось (столь склонна наша совесть воображать те муки, коих она заслуживает), что все вокруг – и стар и млад, и богач и бедняк – насмехаются надо мной. Торелья не приходил, и это было неудивительно: приемный отец, вероятно, полагал, что я должен выказать сыновнюю почтительность и сам явиться к нему. Однако, глубоко уязвленный сознанием своих безрассудств и пороков, я попытался переложить вину на других. Еженощно мы предавались оргиям в Палаццо Карега. За этими бессонными, разгульными ночами следовали полные апатии утра. Когда читали молитву Богородице, наши утонченные особы показывались на улицах, глумясь над добропорядочными обывателями и вызывающе глядя на робевших женщин. Джульетты среди них не было – нет, нет; появись она там, стыд прогнал бы меня прочь, если бы только любовь не побудила пасть к ее ногам.
Постепенно мне все это наскучило. Без предупреждения я навестил маркиза. Он был у себя на вилле, одной из многих, украшавших окрестности Сан-Пьетро-д’Арена. Стоял месяц май – май в этом благодатном уголке мира; цветки фруктовых деревьев увядали среди пышной зеленой листвы; виноградные лозы простирались повсюду; земля была усыпана опавшими лепестками олив; светляки населяли миртовую изгородь; небеса и землю одевал покров необыкновенной красоты. Торелья приветствовал меня с дружелюбным, хотя и серьезным видом, и даже эта тень неудовольствия вскоре растаяла. Черты сходства с отцом – выражение и тон юношеского простосердечия, по-прежнему дремавшего во мне, несмотря на мои проступки, – смягчили сердце доброго старика. Он послал за дочерью – и представил ей меня в качестве жениха. Покой озарился неземным светом при ее появлении. Ее лицо, с большими ласковыми глазами, пухлыми, в ямочках, щеками, младенчески-нежными устами, было лицом херувима и выражало редкое единение счастья и любви. В первый момент меня охватило восхищение. «Она моя!» – подумал я в следующий миг в порыве самодовольства, и мои губы искривила усмешка, исполненная горделивого торжества. Я не был бы enfant g?te[2 - Слуга (фр.).] французских красавиц, не овладей я искусством угождать отзывчивым женским сердцам. В мужском кругу я выказывал властность – что лишь выразительнее подчеркивало ту почтительность, с какой я относился к женщинам. И теперь я начал свои ухаживания, расточая тысячу любезностей Джульетте, которая, дав мне в детстве клятву, никогда не позволяла себе увлечься кем-то другим и, хотя и привыкла быть предметом восхищенного преклонения, не владела языком влюбленных.
В продолжение нескольких дней все складывалось как нельзя лучше. Торелья ни разу не помянул о моем мотовстве и держался со мной как с любимым сыном. Но когда мы принялись обсуждать предварительные условия моего союза с его дочерью, эта благообразная картина с неизбежностью омрачилась. Еще при жизни моего отца был составлен брачный договор. В сущности, я сделал его недействительным, растранжирив без остатка состояние, каковое должен был разделить с Джульеттой. Посему Торелья предложил считать этот договор расторгнутым и взамен заключить другой, согласно которому приданое его дочери возрастало безмерно, однако на расходы налагалось великое множество ограничений. Почитая независимостью одни лишь свободные проявления своей властной воли, я упрекнул маркиза в том, что он пытается извлечь выгоду из моего бедственного положения, и напрочь отверг названные условия. Старик начал было мягко увещевать меня, призывая проявить благоразумие. Взыгравшая гордость овладела моими мыслями: я выслушал его с негодованием – и отринул с пренебрежением.
– Джульетта, ты – моя! Разве в пору невинного детства мы не обменялись клятвами верности? Разве не едины мы в очах Господних? Неужели твой бессердечный, жестокий отец разлучит нас? Будь же великодушна, любовь моя, будь справедлива; не отбирай дара, составляющего последнее сокровище твоего Гвидо, – не отрекайся от своих клятв; позволь нам бросить вызов миру и, презрев расчеты и предписания старости, найти в нашей взаимной любви убежище от всякого зла.
Вероятно, пытаясь отравить подобными софизмами это святилище праведной мысли и нежной любви, я напоминал дьявола. Джульетта в ужасе отпрянула от меня. Отец был для нее самым лучшим и добрым из людей, и она стремилась доказать мне, что покорность ему приносит одно лишь благо. Он примет мое запоздалое смирение с сердечной приязнью, и ответом на мои покаянные слова станет великодушное прощение. Напрасны увещевания юной и нежной девы в адрес человека, привыкшего считать свою волю законом, человека, в душе которого обитал ужасный, непреклонный тиран, способный покориться только собственным властным желаниям! Сопротивление лишь сильнее распаляло меня; мои сумасбродные приятели всегда готовы были подлить масла в огонь. Мы замыслили похитить Джульетту. Поначалу наша затея как будто увенчалась успехом. Но на обратном пути мы столкнулись с терзаемым муками отцом и его слугами. Произошла стычка, и, еще до того как вмешательство городской стражи позволило нашим противникам одержать верх, двое людей Торельи получили опасные ранения.
Эта часть моей истории тяготит меня сильнее всего. Ныне, став другим, я с отвращением вспоминаю себя в ту пору. Не приведи бог никому из внимающих этому рассказу когда-нибудь ощутить то, что чувствовал я. Конь, принуждаемый к неистовой скачке всадником с острыми шпорами, был свободнее, чем я – раб жестокой тирании собственной натуры. Моей душой завладел дьявол, язвивший ее до безумия. Голос совести взывал ко мне, но едва я поддавался его увещеваниям, как меня – игрушку страстей, порожденных гордыней, – подхватывал и уносил вдаль поток неимоверной ярости, подобный урагану. Я был заключен в тюрьму, но, по требованию Торельи, освобожден и вновь вернулся, чтобы силой увезти обоих – и отца, и его дитя – во Францию; эта несчастная страна, где в ту пору промышляли грабежом шайки разбойников и орды вышедших из повиновения солдат, могла стать благоприятным убежищем для преступника вроде меня. Наш замысел был раскрыт. Меня приговорили к изгнанию, и, так как мои долги уже достигли колоссальной величины, остававшаяся у меня собственность была передана в качестве уплаты специальным уполномоченным. Торелья опять предложил свое посредничество, потребовав взамен только одного – обещания не предпринимать новых бесплодных покушений на него и на его дочь. Я презрительно отверг это предложение и возомнил себя победителем, когда оказался одиноким изгнанником без гроша за душой, выдворенным за пределы Генуи. Приятели оставили меня: они покинули город несколькими неделями раньше и теперь уже находились во Франции. Я был один – без друзей, без меча на поясе, без единого дуката в кошельке.
Я бродил по берегу моря, объятый и жестоко терзаемый вихрем страстей. Казалось, внутри меня пылают раскаленные угли. Поначалу я предался размышлениям о том, что мне следует делать. Я намеревался примкнуть к разбойничьей шайке. Месть! Это слово представлялось мне бальзамом – я обнимал его, ласкал, – покуда оно не ужалило меня, подобно змее. Нет, мне нужно презреть и забыть Геную, этот невзрачный закоулок мира. Лучше вернуться в Париж, где у меня полным-полно друзей; где мои услуги найдут радушный прием; где я мечом проложу себе путь к счастью и, преуспев, смогу заставить свою ничтожную родину и лживого Торелью пожалеть о том дне, когда они изгнали меня, нового Кориолана, за пределы городских стен. Вернуться в Париж – вот так, пешком – полностью разоренным – и предстать во всей своей нищете перед теми, кого я прежде тешил ослепительной роскошью? От одной только мысли об этом во мне закипала желчь.
Постепенно осознавая истинное положение вещей, я преисполнялся отчаяния. Лишения, которые я претерпел за несколько месяцев, проведенных в узилище, распалили мою душу до безумия, но ослабили ее телесную оболочку. Я был изнурен и безволен. Дабы обеспечить мне сносные условия в тюрьме, Торелья использовал множество ухищрений; однако я распознал и пренебрежительно отверг их все – и теперь пожинал плоды собственного упрямства. Что я должен был сделать? Пасть к ногам своего врага и умолять о прощении? – Да лучше умереть десятью тысячами смертей! Никогда не добиться им этой победы! Ненависть – я принес клятву вечной ненависти! Ненависти – чьей? К кому? – Бродяги-изгнанника к могущественному вельможе. И я, и мои чувства были для них ничто: они уже позабыли о столь недостойном человеке. А Джульетта! Ее ангельское лицо и грациозная фигура напрасно сияли красотой среди туч моего отчаяния – ибо я потерял ее, потерял гордость и цвет этого мира! Другой назовет ее своею! Эта неземная улыбка сделает счастливым другого!
Даже теперь сердце мое замирает, случись мне припомнить те мрачные думы. То почти обессилев от слез, то заходясь яростью, вызванной душевными муками, я продолжал бродить по каменистому берегу, который с каждым моим шагом выглядел все более диким и безотрадным. Отвесные скалы и побелевшие от времени утесы вздымались над спокойными водами океана; зияли чернотой входы пещер; из бухт, источенных морем, непрестанно доносился шелестящий плеск волн. Неожиданно на моем пути возникла преграда – крутой мыс, практически неприступный из-за нагромождения рухнувших сверху обломков камней. Близился вечер, когда в направлении океана вытянулась возникшая словно по мановению волшебного жезла темная пелена туч, которая омрачила еще недавно синее небо и накрыла тревожной тенью дотоле мирные воды. Странные, фантастические очертания этих туч изменялись, сливались друг с другом; казалось, ими движет какое-то властное заклинание. На волнах появились белые гребни; гром, сперва глухо пророкотавший, вскоре мощно загремел из-за темно-багряной водной пустыни, испещренной пятнами пены. Местность, где я находился, одной стороной была обращена к раскинувшемуся во всю ширь океану, с другой же ее ограничивал внушительного вида мыс. Внезапно из-за его оконечности появилось гонимое ветром судно. Тщетно моряки силились направить свой корабль в открытое море – шторм влек его прямо на скалы. Он погибнет! Все на его борту погибнут! Если бы я мог оказаться среди них! Мое юное сердце впервые встретило с радостью мысль о смерти. Страшно было наблюдать за тем, как это судно пытается противостоять судьбе. Я с трудом мог разглядеть моряков, но до меня долетали их возгласы. Скоро все будет кончено! Скала, скрытая бурными волнами и потому незаметная, лежала в засаде, поджидая свою жертву. Удар грома раздался у меня над головой в тот самый миг, когда челн с ужасным содроганием наскочил на незримого врага. Не прошло и минуты, как судно разнесло в щепки. Я был в безопасности – а мои собратья тем временем вели безнадежную борьбу за жизнь. Мне чудилось, что я и в самом деле вижу, как они борются, – до того реальны были их крики, в пронзительной агонии перекрывавшие рев и грохот валов. Обломки разбитого судна, кидаемые взад и вперед темными бурунами, вскоре пропали из виду. Я наблюдал за происходящим до самого конца, не в силах отвести взор; потом опустился на колени и закрыл лицо руками. Затем вновь взглянул на море: что-то колыхалось на волнах неподалеку от берега и мало-помалу приближалось к нему. Неужели это человек? Очертания становились все явственнее; и наконец мощная волна вознесла свой груз и выбросила его на скалу. Человек, сидящий верхом на матросском сундучке! – Человек! – В самом ли деле? Определенно, среди людей такого еще не бывало: уродливый карлик, косоглазый, с безобразными чертами и искривленным туловищем, создание, облик которого вызывал ужас. Я уже было начал проникаться сочувствием к ближнему, вырвавшемуся из водной могилы, – и вот в мгновение ока кровь застыла в моих жилах. Карлик слез с сундучка и откинул назад прямые, растрепанные волосы, открыв гнусную физиономию.