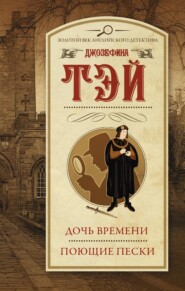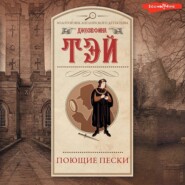По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дочь времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дочь времени
Джозефина Тэй
Алан Грант #5Эксклюзивная классика (АСТ)
«Дочь времени» – самый известный роман Джозефины Тэй. Ассоциация детективных писателей Англии официально считает его величайшим английским детективом.
Сможет ли прикованный к постели инспектор Скотленд-Ярда раскрыть убийство, которое произошло почти пятьсот лет назад? Алан Грант лежит в больнице со сломанной ногой и от скуки решает разгадать тайну самого запутанного преступления средневековой Англии – гибели двух маленьких принцев, – в котором обвиняют короля-узурпатора и горбатого чудовища из детских сказок Ричарда III. Сыщик пытается разобраться так ли был ужасен король, как о нем пишут Шекспир и Томас Мор. Как истинный полицейский, он начинает расследование с вопроса: кому было выгодно убийство племянников Ричарда III?
Джозефина Тэй
Дочь времени
Правда – дочь времени.
Пословица
Серия «Эксклюзивная классика»
Josephine Tey
THE DAUGHTER OF TIME
Перевод с английского Л. Володарской
Стихи в переводе Н. Сидемон-Эристави
© Перевод. Л. Володарская, наследники, 2022
© Перевод, стихи. Н. Сидемон-Эристави, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2023
1
Грант лежал на высокой койке, заправленной белоснежным бельем, и смотрел в потолок. Смотрел, надо сказать, с отвращением, потому что уже давно мог бы с закрытыми глазами перечислить все трещины, из которых составил карту с реками, островами и континентами для своих нескончаемых мысленных путешествий. Он постоянно задавал себе самые разные задачки, искал спрятанные на чистом потолке лица людей, фигурки птиц и рыб. Делал в уме сложные математические расчеты и вновь открывал для себя мир детства. У него отняли все, кроме потолка, и он возненавидел его лютой ненавистью.
Не выдержав, Грант попросил Пигалицу как-нибудь передвинуть кровать, чтобы он мог заняться другой частью потолка, но оказалось, что это непоправимо нарушит симметрию в палате, а в больничной системе ценностей симметрия незначительно уступает чистоте, зато стоит намного выше сострадания. А вот что вне всякой конкуренции, так это невежество.
– Почему бы вам не почитать? – спросила Пигалица. – Смотрите, сколько новых дорогих книжек!
– На земле слишком много людей, и почти все что-нибудь пишут. Каждую минуту типографские машины печатают бог знает сколько миллионов слов. Ужасно!
– Похоже, у вас опять начинается запор, – задумчиво произнесла Пигалица, которую на самом деле звали сестрой Ингхэм.
Грациозное создание ростом пять футов и два дюйма, похожее на ожившую статуэтку из мейсенского фарфора. Поднять ее Грант мог бы одной рукой, будь он на ногах, и его унижало даже не то, что Пигалица указывала ему, что и когда делать, но тот факт, что она крутила его, мужчину под шесть футов. А матрасами она манипулировала с беззаботной грацией жонглера. В отсутствие Пигалицы Грант переходил во власть Амазонки, богини с руками, напоминавшими ветви бука. Амазонка, или сестра Даррелл, была родом из Глостершира и каждую весну, когда зацветали нарциссы[1 - Нарцисс – национальная эмблема валлийцев. – Здесь и далее примеч. пер.], изнывала от тоски по дому. (Пигалица же выросла в Литаме, в приюте Святой Анны, и не оставила места в своей жизни такой чепухе, как нарциссы.) У Амазонки были большие ласковые руки, большие ласковые коровьи глаза, с лица не сходило жалостливое выражение, при малейшем физическом усилии она начинала пыхтеть, как испорченный насос, – и все-таки ощущать себя невесомой пушинкой менее унизительно, чем неподъемной колодой.
Порученный заботам Пигалицы и Амазонки, Грант был прикован к кровати, потому что провалился в люк. И это тоже было унижением, естественным следствием которого стало пыхтение Амазонки и грациозные манипуляции Пигалицы. Падение в люк – величайшая глупость со всех точек зрения. Тогда Грант уже почти догнал Бенни Скола, но провалился в люк, и сейчас лишь мысль, что, ускользнув от него, Бенни прямиком попал в объятия сержанта Уильямса, несколько утешала сыщика.
Судья дал Бенни всего три года, к великой радости его клана, а хорошим поведением он может уменьшить и этот срок, тогда как в больнице, как себя ни веди, пролежишь, сколько положено.
Грант перевел взгляд с потолка на стопку книг в ярких обложках, о которых ему постоянно напоминала Пигалица. Верхняя, с прелестной фотографией молодой женщины в чем-то неправдоподобно розовом, содержала очередной ежегодный отчет Лавинии Фитч о страданиях героини, совершенной во всех отношениях. Судя по тому, что фоном для красавицы на обложке служил большой порт, нынешняя Валерия (Анжела, Сесилия или Дениза) была женой капитана.
«Пот и пахота» – опус в семьсот страниц Сайласа Уикли, вечно озабоченного тем, как бы его не обвинили в хорошем вкусе. Грант пробежал глазами несколько фраз и еще раз убедился в том, что Уикли есть Уикли: женщина лежит в комнате наверху и рожает одиннадцатого ребенка, ее муж лежит в нижней комнате со времени появления на свет девятого дитяти, старший сын, накачавшись спиртным, лежит в хлеву, старшая дочь лежит с любовником на сеновале, все остальные лежат в сарае. Протекает соломенная крыша, от навозной кучи поднимаются зловонные пары. Что-что, а навоз Сайлас никогда не забывает, и не его вина, что пары поднимаются вверх. Если бы ему показали пар, уходящий в землю, он бы и это описал.
Под книжкой Сайласа – упакованное в броскую обложку сочинение Руперта Ружа «Колокольчики на башмаках», смесь эдвардианских изысков с причудами барокко. Остроумие, с которым автор живописует порок, поначалу вызывает у читателя безудержный смех, но уже на третьей странице становится ясно, что Руперт – послушный ученик Джорджа Бернарда Шоу и пользуется приемом парадокса, открытым классиком, как самым простым и выгодным способом прослыть остроумным. Дальше читать неинтересно.
Зеленая ночь, красная вспышка выстрела – на обложке последней книжки Оскара Оукли. Бандиты у него цедят слова сквозь зубы, но слова эти, заимствованные из американских триллеров, не в силах выразить ни мысль, ни чувство, зато автор выдает полный набор блондинок, кастетов, головокружительных погонь и прочей чуши.
«Случай с пропавшим консервным ножом» Джона Джеймса благодаря юридическим ошибкам на первых двух страницах доставил Гранту несколько приятных минут, в течение которых он мысленно составлял автору язвительное письмо.
А вот о чем тоненькая голубая книжка в самом низу стопки, Грант никак не мог вспомнить. Кажется, что-то реальное, без художественных выкрутасов. О мухах цеце, о калориях, о сексе? Но даже тут все известно заранее. Неужели нет автора, который не следует раз и навсегда найденной формуле? Неужели никому больше не хочется хоть изредка менять пластинку? Конечно, авторы знают, чего ждет от них публика, которой подавай «еще одного Сайласа Уикли» или «еще одну Лавинию Фитч», словно какой-нибудь «новый кирпич» или «новую щетку для волос». Публике не нужна настоящая новизна. Она знает, чего хочет.
Отведя утомленный взгляд от пестрой стопки, Грант подумал, что неплохо бы перекрыть книжный поток минимум лет на двадцать. Или, например, ввести мораторий на романы. Или дать задание какому-нибудь Супермену изобрести луч, который остановит всех писателей. Тогда уж человеку, прикованному к постели, никто не пришлет подобной чепухи и очаровательной мейсенской статуэтке не придет в голову требовать, чтобы он эту чепуху читал.
Услышав, что открывается дверь, Грант не только закрыл глаза, но и мысленно отвернулся к стенке. Кто-то уже стоял возле него, но он решил быть непоколебимым, не желая ни глостерширского великодушия, ни ланкаширского жизнелюбия.
В затянувшемся молчании Грант вдруг ощутил едва уловимый чарующий аромат. Он посмаковал его и задумался. От Пигалицы пахло лавандой, от Амазонки – мылом и йодоформом, а этими духами «Энклос нумеро синк», несущими в себе полузабытый аромат всех полей Грасса, пользовалась только одна из его знакомых – Марта Халлард.
Грант приоткрыл один глаз. Так и есть. Марта наклонилась над ним посмотреть, спит он или нет, и в этой несколько неуверенной позе (если с Мартой вообще хоть как-нибудь сочетается слово «неуверенная») она разглядывала стопку совершенно новеньких нечитаных книг. В одной руке у нее были еще две книги, в другой – огромный букет белой сирени, и Грант задумался: принесла она сирень потому, что лишь ее считала достойной для украшения жилища в зимнюю пору (сирень царила в ее театральной гримерной с декабря по март) или же цветы просто гармонировали с ее бело-черным туалетом. Марта показалась ему настоящей парижанкой, и, к счастью, в ее облике не было ничего от больницы.
– Я тебя разбудила, Алан?
– Нет, я не спал.
– Кажется, я принесла тебе то, что у тебя и так в излишке, – сказала она, пристраивая новые книги рядом с уже отвергнутыми. – Надеюсь, этим повезет больше. Неужели даже наша прелестная Лавиния тебя не увлекает?
– Не могу я читать.
– Очень болит?
– Очень. Только не нога и не спина.
– Тогда что?
– Как говорит моя кузина Лора, меня замучили колючки скуки.
– Бедняжка Алан! А Лора права. – Марта вынула нарциссы из слишком большой для них вазы и жестом, исполненным изящества, положила их в раковину, после чего поставила на их место сирень. – Конечно, хотелось бы, чтобы скука была великой усыпительницей. Но… она не более чем глумливая букашка.
– Букашечное пустое место. Глумливое ничто. А ощущение, будто меня хорошенько отхлестали крапивой.
– Может, тебе что-нибудь попринимать?
– Чтобы стало ясно на душе?
– Чтобы проветрить мозги и заодно поднять настроение. Послушай, а не заняться ли тебе философией? Йогой, например? Хотя с твоим аналитическим умом вряд ли ты склонен к абстрактным построениям.
– Я уже думал об алгебре. У меня всегда было чувство, что в школе я мало ею занимался. Но я, кажется, слишком увлекся геометрией, изучая этот чертов потолок. Пожалуй, надо немного отдохнуть от математики.
– Ну а как насчет кроссвордов? Могу принести тебе целую книжку.
Джозефина Тэй
Алан Грант #5Эксклюзивная классика (АСТ)
«Дочь времени» – самый известный роман Джозефины Тэй. Ассоциация детективных писателей Англии официально считает его величайшим английским детективом.
Сможет ли прикованный к постели инспектор Скотленд-Ярда раскрыть убийство, которое произошло почти пятьсот лет назад? Алан Грант лежит в больнице со сломанной ногой и от скуки решает разгадать тайну самого запутанного преступления средневековой Англии – гибели двух маленьких принцев, – в котором обвиняют короля-узурпатора и горбатого чудовища из детских сказок Ричарда III. Сыщик пытается разобраться так ли был ужасен король, как о нем пишут Шекспир и Томас Мор. Как истинный полицейский, он начинает расследование с вопроса: кому было выгодно убийство племянников Ричарда III?
Джозефина Тэй
Дочь времени
Правда – дочь времени.
Пословица
Серия «Эксклюзивная классика»
Josephine Tey
THE DAUGHTER OF TIME
Перевод с английского Л. Володарской
Стихи в переводе Н. Сидемон-Эристави
© Перевод. Л. Володарская, наследники, 2022
© Перевод, стихи. Н. Сидемон-Эристави, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2023
1
Грант лежал на высокой койке, заправленной белоснежным бельем, и смотрел в потолок. Смотрел, надо сказать, с отвращением, потому что уже давно мог бы с закрытыми глазами перечислить все трещины, из которых составил карту с реками, островами и континентами для своих нескончаемых мысленных путешествий. Он постоянно задавал себе самые разные задачки, искал спрятанные на чистом потолке лица людей, фигурки птиц и рыб. Делал в уме сложные математические расчеты и вновь открывал для себя мир детства. У него отняли все, кроме потолка, и он возненавидел его лютой ненавистью.
Не выдержав, Грант попросил Пигалицу как-нибудь передвинуть кровать, чтобы он мог заняться другой частью потолка, но оказалось, что это непоправимо нарушит симметрию в палате, а в больничной системе ценностей симметрия незначительно уступает чистоте, зато стоит намного выше сострадания. А вот что вне всякой конкуренции, так это невежество.
– Почему бы вам не почитать? – спросила Пигалица. – Смотрите, сколько новых дорогих книжек!
– На земле слишком много людей, и почти все что-нибудь пишут. Каждую минуту типографские машины печатают бог знает сколько миллионов слов. Ужасно!
– Похоже, у вас опять начинается запор, – задумчиво произнесла Пигалица, которую на самом деле звали сестрой Ингхэм.
Грациозное создание ростом пять футов и два дюйма, похожее на ожившую статуэтку из мейсенского фарфора. Поднять ее Грант мог бы одной рукой, будь он на ногах, и его унижало даже не то, что Пигалица указывала ему, что и когда делать, но тот факт, что она крутила его, мужчину под шесть футов. А матрасами она манипулировала с беззаботной грацией жонглера. В отсутствие Пигалицы Грант переходил во власть Амазонки, богини с руками, напоминавшими ветви бука. Амазонка, или сестра Даррелл, была родом из Глостершира и каждую весну, когда зацветали нарциссы[1 - Нарцисс – национальная эмблема валлийцев. – Здесь и далее примеч. пер.], изнывала от тоски по дому. (Пигалица же выросла в Литаме, в приюте Святой Анны, и не оставила места в своей жизни такой чепухе, как нарциссы.) У Амазонки были большие ласковые руки, большие ласковые коровьи глаза, с лица не сходило жалостливое выражение, при малейшем физическом усилии она начинала пыхтеть, как испорченный насос, – и все-таки ощущать себя невесомой пушинкой менее унизительно, чем неподъемной колодой.
Порученный заботам Пигалицы и Амазонки, Грант был прикован к кровати, потому что провалился в люк. И это тоже было унижением, естественным следствием которого стало пыхтение Амазонки и грациозные манипуляции Пигалицы. Падение в люк – величайшая глупость со всех точек зрения. Тогда Грант уже почти догнал Бенни Скола, но провалился в люк, и сейчас лишь мысль, что, ускользнув от него, Бенни прямиком попал в объятия сержанта Уильямса, несколько утешала сыщика.
Судья дал Бенни всего три года, к великой радости его клана, а хорошим поведением он может уменьшить и этот срок, тогда как в больнице, как себя ни веди, пролежишь, сколько положено.
Грант перевел взгляд с потолка на стопку книг в ярких обложках, о которых ему постоянно напоминала Пигалица. Верхняя, с прелестной фотографией молодой женщины в чем-то неправдоподобно розовом, содержала очередной ежегодный отчет Лавинии Фитч о страданиях героини, совершенной во всех отношениях. Судя по тому, что фоном для красавицы на обложке служил большой порт, нынешняя Валерия (Анжела, Сесилия или Дениза) была женой капитана.
«Пот и пахота» – опус в семьсот страниц Сайласа Уикли, вечно озабоченного тем, как бы его не обвинили в хорошем вкусе. Грант пробежал глазами несколько фраз и еще раз убедился в том, что Уикли есть Уикли: женщина лежит в комнате наверху и рожает одиннадцатого ребенка, ее муж лежит в нижней комнате со времени появления на свет девятого дитяти, старший сын, накачавшись спиртным, лежит в хлеву, старшая дочь лежит с любовником на сеновале, все остальные лежат в сарае. Протекает соломенная крыша, от навозной кучи поднимаются зловонные пары. Что-что, а навоз Сайлас никогда не забывает, и не его вина, что пары поднимаются вверх. Если бы ему показали пар, уходящий в землю, он бы и это описал.
Под книжкой Сайласа – упакованное в броскую обложку сочинение Руперта Ружа «Колокольчики на башмаках», смесь эдвардианских изысков с причудами барокко. Остроумие, с которым автор живописует порок, поначалу вызывает у читателя безудержный смех, но уже на третьей странице становится ясно, что Руперт – послушный ученик Джорджа Бернарда Шоу и пользуется приемом парадокса, открытым классиком, как самым простым и выгодным способом прослыть остроумным. Дальше читать неинтересно.
Зеленая ночь, красная вспышка выстрела – на обложке последней книжки Оскара Оукли. Бандиты у него цедят слова сквозь зубы, но слова эти, заимствованные из американских триллеров, не в силах выразить ни мысль, ни чувство, зато автор выдает полный набор блондинок, кастетов, головокружительных погонь и прочей чуши.
«Случай с пропавшим консервным ножом» Джона Джеймса благодаря юридическим ошибкам на первых двух страницах доставил Гранту несколько приятных минут, в течение которых он мысленно составлял автору язвительное письмо.
А вот о чем тоненькая голубая книжка в самом низу стопки, Грант никак не мог вспомнить. Кажется, что-то реальное, без художественных выкрутасов. О мухах цеце, о калориях, о сексе? Но даже тут все известно заранее. Неужели нет автора, который не следует раз и навсегда найденной формуле? Неужели никому больше не хочется хоть изредка менять пластинку? Конечно, авторы знают, чего ждет от них публика, которой подавай «еще одного Сайласа Уикли» или «еще одну Лавинию Фитч», словно какой-нибудь «новый кирпич» или «новую щетку для волос». Публике не нужна настоящая новизна. Она знает, чего хочет.
Отведя утомленный взгляд от пестрой стопки, Грант подумал, что неплохо бы перекрыть книжный поток минимум лет на двадцать. Или, например, ввести мораторий на романы. Или дать задание какому-нибудь Супермену изобрести луч, который остановит всех писателей. Тогда уж человеку, прикованному к постели, никто не пришлет подобной чепухи и очаровательной мейсенской статуэтке не придет в голову требовать, чтобы он эту чепуху читал.
Услышав, что открывается дверь, Грант не только закрыл глаза, но и мысленно отвернулся к стенке. Кто-то уже стоял возле него, но он решил быть непоколебимым, не желая ни глостерширского великодушия, ни ланкаширского жизнелюбия.
В затянувшемся молчании Грант вдруг ощутил едва уловимый чарующий аромат. Он посмаковал его и задумался. От Пигалицы пахло лавандой, от Амазонки – мылом и йодоформом, а этими духами «Энклос нумеро синк», несущими в себе полузабытый аромат всех полей Грасса, пользовалась только одна из его знакомых – Марта Халлард.
Грант приоткрыл один глаз. Так и есть. Марта наклонилась над ним посмотреть, спит он или нет, и в этой несколько неуверенной позе (если с Мартой вообще хоть как-нибудь сочетается слово «неуверенная») она разглядывала стопку совершенно новеньких нечитаных книг. В одной руке у нее были еще две книги, в другой – огромный букет белой сирени, и Грант задумался: принесла она сирень потому, что лишь ее считала достойной для украшения жилища в зимнюю пору (сирень царила в ее театральной гримерной с декабря по март) или же цветы просто гармонировали с ее бело-черным туалетом. Марта показалась ему настоящей парижанкой, и, к счастью, в ее облике не было ничего от больницы.
– Я тебя разбудила, Алан?
– Нет, я не спал.
– Кажется, я принесла тебе то, что у тебя и так в излишке, – сказала она, пристраивая новые книги рядом с уже отвергнутыми. – Надеюсь, этим повезет больше. Неужели даже наша прелестная Лавиния тебя не увлекает?
– Не могу я читать.
– Очень болит?
– Очень. Только не нога и не спина.
– Тогда что?
– Как говорит моя кузина Лора, меня замучили колючки скуки.
– Бедняжка Алан! А Лора права. – Марта вынула нарциссы из слишком большой для них вазы и жестом, исполненным изящества, положила их в раковину, после чего поставила на их место сирень. – Конечно, хотелось бы, чтобы скука была великой усыпительницей. Но… она не более чем глумливая букашка.
– Букашечное пустое место. Глумливое ничто. А ощущение, будто меня хорошенько отхлестали крапивой.
– Может, тебе что-нибудь попринимать?
– Чтобы стало ясно на душе?
– Чтобы проветрить мозги и заодно поднять настроение. Послушай, а не заняться ли тебе философией? Йогой, например? Хотя с твоим аналитическим умом вряд ли ты склонен к абстрактным построениям.
– Я уже думал об алгебре. У меня всегда было чувство, что в школе я мало ею занимался. Но я, кажется, слишком увлекся геометрией, изучая этот чертов потолок. Пожалуй, надо немного отдохнуть от математики.
– Ну а как насчет кроссвордов? Могу принести тебе целую книжку.