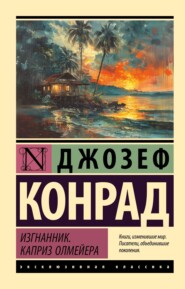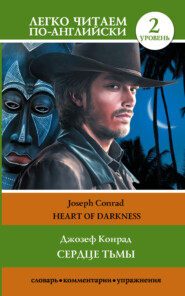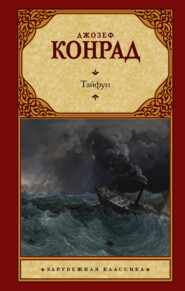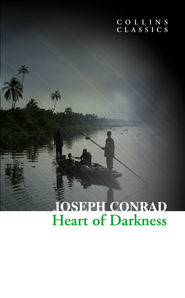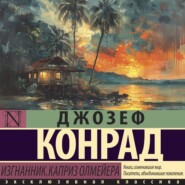По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Теневая черта
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я только таращил на него глаза.
Его тон стал чуточку более таинственным. Как только этот субъект (подразумевался стюард) получил записку, он бросился за своей шляпой и выбежал из дому. Но не потому, чтобы записка призывала его в портовое управление. Туда он и не ходил. Для этого он отсутствовал слишком короткое время. Очень скоро он снова влетел в столовую, швырнул в угол шляпу и стал бегать взад и вперед, охая и хлопая себя по лбу. Все эти волнующие факты и действия были замечены капитаном Джайлсом. По-видимому, он с тех пор все время размышлял над ними.
Я почувствовал к нему глубокое сострадание. И тоном, который я постарался сделать как можно менее саркастическим, я выразил радость по поводу того, что он нашел, чем занять свои утренние часы.
Он же с обезоруживающей простотой обратил мое внимание – как будто это было важным обстоятельством – на то, как странно, что он вообще провел утро дома. Обычно он уходит до завтрака, чтобы зайти в ту или иную контору, повидаться с друзьями в порту и так далее. Сегодня же ему было что-то не по себе. Ничего особенного. Но все-таки напала лень.
Все это – а также упорный, пристальный взгляд и нелепость рассказа создавало впечатление тихого унылого помешательства. А когда он немного придвинул свой стул и понизил голос до таинственного шепота, у меня мелькнула мысль, что превосходная профессиональная репутация не всегда является гарантией здравого рассудка.
Мне тогда не пришло в голову, что я не знаю, в чем же, собственно, заключается здравость рассудка и какая это деликатная и, в сущности, неважная материя. Чтобы не оскорбить его чувств, я смотрел на него с заинтересованным видом. Но когда он таинственно спросил меня, помню ли я, что произошло сейчас между нашим стюардом и «этим Гамильтоном», я только хмуро буркнул «да» и отвернулся.
– Да. Но вы помните каждое слово? – тактично настаивал он.
– Не знаю. Это меня не касается, – отрезал я и громко послал стюарда и Гамильтона ко всем чертям.
Я хотел этой энергичной выходкой положить конец всей истории, но капитан Джайлс продолжал задумчиво смотреть на меня. Ничто не могло его остановить. Он начал указывать на то, что в этот разговор была впутана моя личность. Когда я попытался сохранить притворное равнодушие, он стал положительно жесток. Я слышал, что сказал этот человек? Да? Что же я об этом думаю, хотелось бы ему знать.
Так как наружность капитана Джайлса исключала подозрение в хитром злорадстве, то я пришел к заключению, что он попросту самый бестактный идиот на земле. Я почти презирал себя за слабость, выразившуюся в попытках немножко просветить его ум. Я постарался объяснить, что ничего решительно об этом не думаю. Гамильтон не стоит того, чтобы им занимались. Что думает или говорит такой грубиян и бездельник… «Вот именно!» – вставил капитан Джайлс… не заслуживает даже презрения со стороны порядочного человека, и я не собираюсь обращать на него ни малейшего внимания.
Эта позиция казалась мне такой простой и очевидной, что я искренно удивился, не найдя сочувствия в капитане Джайлсе. Такая законченная тупость была почти интересна.
– Что вы хотите, чтобы я сделал? – со смехом спросил я. – Не могу же я затеять ссору из-за мнения, которое он составил себе обо мне. Конечно, я слышал, что он отзывается обо мне презрительно. Но своего презрения он мне не навязывает. Он никогда не выражал его в моем присутствии. Ведь и теперь он не знал, что мы его слышим.
Я только показался бы смешным.
Неисправимый Джайлс продолжал задумчиво пыхтеть своей трубкой. Вдруг лицо его прояснилось, и он заговорил:
– Вы не поняли самого главного.
– В самом деле? Очень рад это слышать, – сказал я.
Все больше оживляясь, он снова подтвердил, что я не понял самого главного… Совершенно не понял. И со все возрастающим самодовольством он сообщил мне, что мало что ускользает от его внимания, а все замеченное он привык обдумывать и обычно благодаря знанию жизни и людей приходит к правильным заключениям.
Такое самовосхваление, разумеется, прекрасно подходило к нарочитой бессмысленности всего разговора.
Вся эта история усиливала во мне то смутное ощущение жизни, как простой траты времени, которое полусознательно погнало меня с хорошего места, прочь от приятных мне людей, заставив бежать от угрожающей пустоты… чтобы на первом же повороте найти бессмыслицу. Вот тут передо мной человек признанной репутации и достоинств оказывается нелепым и жалким болтуном. И, вероятно, везде то же самое – на востоке и на западе, снизу и до верху социальной лестницы.
Мною овладело уныние. Умственная сонливость. Голос Джайлса звучал все так же благодушно: голос всемирного пустого самодовольства. И я больше не сердился на него. От мира нельзя ждать ничего оригинального, ничего нового, поражающего, расширяющего кругозор; нечего ждать случая узнать что-нибудь о самом себе, обрести мудрость или поразвлечься. Все было глупым и раздутым, как сам капитан Джайлс. Да будет так.
Вдруг моего слуха коснулось имя Гамильтона, и я очнулся.
– Я думал, мы покончили с ним, – с величайшим отвращением сказал я.
– Да. Но, принимая во внимание то, что нам пришлось только что услышать, я полагаю, вам следовало бы так поступить.
– Следовало бы так поступить? – Я растерянно выпрямился на стуле. – Как поступить?
Капитан Джайлс с удивлением уставился на меня.
– Как? Да так, как я вам советую. Подите и спросите у стюарда, что было в этом письме из портового управления. Спросите его прямо.
На миг у меня отнялся язык. Я услышал нечто столь неожиданное и оригинальное, что решительно ничего не мог понять. Я изумленно пробормотал:
– Но я думал, что это вы Гамильтона…
– Именно. Не подпускайте его. Сделайте то, что я вам говорю. Насядьте на стюарда. Держу пари, что он у вас попрыгает, – настаивал капитан Джайлс, выразительно размахивая у меня под носом дымящейся трубкой. Затем он быстро затянулся три раза подряд.
Его вид, торжествующий и проницательный, был неописуем. И, однако, этот человек оставался странно симпатичным существом. Благожелательность так и излучалась из него, комично, мягко, трогательно. Было в этом и что-то раздражающее. Но я холодно, как человек, имеющий дело с чем-то непонятным, указал, что не вижу оснований подвергать себя риску встретить отпор со стороны этого субъекта. Он – весьма посредственный стюард и к тому же жалкое создание, но говорить с ним мне хочется не больше, чем ущипнуть его за нос.
– Ущипнуть его за нос, – повторил капитан Джайлс скандализованным тоном. – Много пользы принесло бы это вам!
Это замечание казалось столь неуместным, что на него нечего было ответить. Но чувство нелепости начинало наконец оказывать свое хорошо известное действие. Я почувствовал, что не должен больше позволять этому человеку разговаривать со мной. Я встал, сухо заметив, что все это не по мне – что я не могу его понять.
Не успел я отойти, как он снова заговорил изменившимся упрямым тоном, нервно попыхивая трубкой.
– Правда… он… нестоящий малый… конечно. Но вы все-таки… спросите его. Спросите, и больше ничего.
Эта новая манера произвела на меня впечатление – или, вернее, заставила меня помедлить. Но здравый смысл сейчас же взял верх, и я покинул веранду, подарив его невеселой улыбкой. Пройдя несколько шагов, я очутился в столовой, теперь убранной и пустой. Но в течение этого короткого времени в голову мне пришли самые разнообразные мысли, как-то: что Джайлс потешался надо мной, думая позабавиться за мой счет, что я, вероятно, произвожу впечатление легковерного дурака, что я знаю жизнь очень мало…
К моему крайнему удивлению, дверь в конце столовой распахнулась. Это была дверь с надписью «стюард», и он сам выбежал из своей душной, филистерской берлоги с нелепым видом загнанного зверя и бросился к двери в сад.
Я по сей день не знаю, что заставило меня крикнуть ему вслед: «Послушайте! Подождите минутку!» Может быть, это объясняется брошенным им на меня искоса взглядом, или же я все еще находился под влиянием загадочной настойчивости капитана Джайлса. Словом, это был какой-то толчок; действие той внутренней силы, которая так или иначе формирует нашу жизнь. Потому что, если бы эти слова не сорвались с моих уст (моя воля была здесь ни при чем), то моя жизнь, безусловно, была бы все-таки жизнью моряка, но пошла бы в совершенно непостижимом для меня теперь русле.
Да. Моя воля была здесь ни при чем. И не успел я произнести те роковые слова, как уже горько пожалел о них.
Если бы этот человек остановился и встретил меня лицом к лицу, мне пришлось бы с позором ретироваться. Ибо у меня не было ни малейшего желания проделать идиотскую шутку капитана Джайлса ни за свой собственный счет, ни за счет стюарда.
Но здесь в дело вмешался старый человеческий инстинкт погони. Стюард притворился глухим, и я, не задумываясь ни на секунду, обежал обеденный стол и у самой двери преградил ему путь.
– Почему вы не отвечаете, когда с вами говорят? – грубо спросил я.
Он прислонился к притолоке. Вид у него был самый несчастный. Боюсь, что человеческая натура не очень-то благородна. В ней есть отвратительные пятна. Я начинал сердиться, – думаю, только потому, что у моей дичи был такой удрученный вид. Жалкое существо!
Я сразу перешел в наступление:
– Я слышал, что сегодня утром получено официальное сообщение из портового управления. Это верно?
Он не сказал мне, чтобы я не мешался не в свое дело, а вместо того начал хныкать, но не без нахальства. Он нигде не мог найти меня сегодня утром. Нельзя же требовать, чтобы он бегал за мной по всему городу.
– Да кто этого требует? – вскричал я. И тут мои глаза раскрылись на внутренний смысл поступков и речей, тривиальность которых была так поразительна и так надоедлива.
Я сказал ему, что хочу знать, что было в том письме. Суровость моего тона и манер была притворной только наполовину. Любопытство может быть очень злобным чувством – иногда.
Он стал что-то бормотать, ища спасения в глупо-надутом виде. Меня это не касается, мямлил он. Я сказал ему, что еду домой. А раз я еду домой, он не понимает, зачем ему…
Таковы были его аргументы, настолько бессвязные, что казались почти оскорбительными. То есть оскорбительными для человеческого разума.
В этот сумеречный период между молодостью и зрелостью, в котором я находился тогда, человек особенно чувствителен к такого рода оскорблениям. Боюсь, что я вел себя со стюардом очень грубо. Но не в его привычках было давать кому-нибудь или чему-нибудь отпор. Употребление наркотиков или, может быть, одинокое пьянство…
Его тон стал чуточку более таинственным. Как только этот субъект (подразумевался стюард) получил записку, он бросился за своей шляпой и выбежал из дому. Но не потому, чтобы записка призывала его в портовое управление. Туда он и не ходил. Для этого он отсутствовал слишком короткое время. Очень скоро он снова влетел в столовую, швырнул в угол шляпу и стал бегать взад и вперед, охая и хлопая себя по лбу. Все эти волнующие факты и действия были замечены капитаном Джайлсом. По-видимому, он с тех пор все время размышлял над ними.
Я почувствовал к нему глубокое сострадание. И тоном, который я постарался сделать как можно менее саркастическим, я выразил радость по поводу того, что он нашел, чем занять свои утренние часы.
Он же с обезоруживающей простотой обратил мое внимание – как будто это было важным обстоятельством – на то, как странно, что он вообще провел утро дома. Обычно он уходит до завтрака, чтобы зайти в ту или иную контору, повидаться с друзьями в порту и так далее. Сегодня же ему было что-то не по себе. Ничего особенного. Но все-таки напала лень.
Все это – а также упорный, пристальный взгляд и нелепость рассказа создавало впечатление тихого унылого помешательства. А когда он немного придвинул свой стул и понизил голос до таинственного шепота, у меня мелькнула мысль, что превосходная профессиональная репутация не всегда является гарантией здравого рассудка.
Мне тогда не пришло в голову, что я не знаю, в чем же, собственно, заключается здравость рассудка и какая это деликатная и, в сущности, неважная материя. Чтобы не оскорбить его чувств, я смотрел на него с заинтересованным видом. Но когда он таинственно спросил меня, помню ли я, что произошло сейчас между нашим стюардом и «этим Гамильтоном», я только хмуро буркнул «да» и отвернулся.
– Да. Но вы помните каждое слово? – тактично настаивал он.
– Не знаю. Это меня не касается, – отрезал я и громко послал стюарда и Гамильтона ко всем чертям.
Я хотел этой энергичной выходкой положить конец всей истории, но капитан Джайлс продолжал задумчиво смотреть на меня. Ничто не могло его остановить. Он начал указывать на то, что в этот разговор была впутана моя личность. Когда я попытался сохранить притворное равнодушие, он стал положительно жесток. Я слышал, что сказал этот человек? Да? Что же я об этом думаю, хотелось бы ему знать.
Так как наружность капитана Джайлса исключала подозрение в хитром злорадстве, то я пришел к заключению, что он попросту самый бестактный идиот на земле. Я почти презирал себя за слабость, выразившуюся в попытках немножко просветить его ум. Я постарался объяснить, что ничего решительно об этом не думаю. Гамильтон не стоит того, чтобы им занимались. Что думает или говорит такой грубиян и бездельник… «Вот именно!» – вставил капитан Джайлс… не заслуживает даже презрения со стороны порядочного человека, и я не собираюсь обращать на него ни малейшего внимания.
Эта позиция казалась мне такой простой и очевидной, что я искренно удивился, не найдя сочувствия в капитане Джайлсе. Такая законченная тупость была почти интересна.
– Что вы хотите, чтобы я сделал? – со смехом спросил я. – Не могу же я затеять ссору из-за мнения, которое он составил себе обо мне. Конечно, я слышал, что он отзывается обо мне презрительно. Но своего презрения он мне не навязывает. Он никогда не выражал его в моем присутствии. Ведь и теперь он не знал, что мы его слышим.
Я только показался бы смешным.
Неисправимый Джайлс продолжал задумчиво пыхтеть своей трубкой. Вдруг лицо его прояснилось, и он заговорил:
– Вы не поняли самого главного.
– В самом деле? Очень рад это слышать, – сказал я.
Все больше оживляясь, он снова подтвердил, что я не понял самого главного… Совершенно не понял. И со все возрастающим самодовольством он сообщил мне, что мало что ускользает от его внимания, а все замеченное он привык обдумывать и обычно благодаря знанию жизни и людей приходит к правильным заключениям.
Такое самовосхваление, разумеется, прекрасно подходило к нарочитой бессмысленности всего разговора.
Вся эта история усиливала во мне то смутное ощущение жизни, как простой траты времени, которое полусознательно погнало меня с хорошего места, прочь от приятных мне людей, заставив бежать от угрожающей пустоты… чтобы на первом же повороте найти бессмыслицу. Вот тут передо мной человек признанной репутации и достоинств оказывается нелепым и жалким болтуном. И, вероятно, везде то же самое – на востоке и на западе, снизу и до верху социальной лестницы.
Мною овладело уныние. Умственная сонливость. Голос Джайлса звучал все так же благодушно: голос всемирного пустого самодовольства. И я больше не сердился на него. От мира нельзя ждать ничего оригинального, ничего нового, поражающего, расширяющего кругозор; нечего ждать случая узнать что-нибудь о самом себе, обрести мудрость или поразвлечься. Все было глупым и раздутым, как сам капитан Джайлс. Да будет так.
Вдруг моего слуха коснулось имя Гамильтона, и я очнулся.
– Я думал, мы покончили с ним, – с величайшим отвращением сказал я.
– Да. Но, принимая во внимание то, что нам пришлось только что услышать, я полагаю, вам следовало бы так поступить.
– Следовало бы так поступить? – Я растерянно выпрямился на стуле. – Как поступить?
Капитан Джайлс с удивлением уставился на меня.
– Как? Да так, как я вам советую. Подите и спросите у стюарда, что было в этом письме из портового управления. Спросите его прямо.
На миг у меня отнялся язык. Я услышал нечто столь неожиданное и оригинальное, что решительно ничего не мог понять. Я изумленно пробормотал:
– Но я думал, что это вы Гамильтона…
– Именно. Не подпускайте его. Сделайте то, что я вам говорю. Насядьте на стюарда. Держу пари, что он у вас попрыгает, – настаивал капитан Джайлс, выразительно размахивая у меня под носом дымящейся трубкой. Затем он быстро затянулся три раза подряд.
Его вид, торжествующий и проницательный, был неописуем. И, однако, этот человек оставался странно симпатичным существом. Благожелательность так и излучалась из него, комично, мягко, трогательно. Было в этом и что-то раздражающее. Но я холодно, как человек, имеющий дело с чем-то непонятным, указал, что не вижу оснований подвергать себя риску встретить отпор со стороны этого субъекта. Он – весьма посредственный стюард и к тому же жалкое создание, но говорить с ним мне хочется не больше, чем ущипнуть его за нос.
– Ущипнуть его за нос, – повторил капитан Джайлс скандализованным тоном. – Много пользы принесло бы это вам!
Это замечание казалось столь неуместным, что на него нечего было ответить. Но чувство нелепости начинало наконец оказывать свое хорошо известное действие. Я почувствовал, что не должен больше позволять этому человеку разговаривать со мной. Я встал, сухо заметив, что все это не по мне – что я не могу его понять.
Не успел я отойти, как он снова заговорил изменившимся упрямым тоном, нервно попыхивая трубкой.
– Правда… он… нестоящий малый… конечно. Но вы все-таки… спросите его. Спросите, и больше ничего.
Эта новая манера произвела на меня впечатление – или, вернее, заставила меня помедлить. Но здравый смысл сейчас же взял верх, и я покинул веранду, подарив его невеселой улыбкой. Пройдя несколько шагов, я очутился в столовой, теперь убранной и пустой. Но в течение этого короткого времени в голову мне пришли самые разнообразные мысли, как-то: что Джайлс потешался надо мной, думая позабавиться за мой счет, что я, вероятно, произвожу впечатление легковерного дурака, что я знаю жизнь очень мало…
К моему крайнему удивлению, дверь в конце столовой распахнулась. Это была дверь с надписью «стюард», и он сам выбежал из своей душной, филистерской берлоги с нелепым видом загнанного зверя и бросился к двери в сад.
Я по сей день не знаю, что заставило меня крикнуть ему вслед: «Послушайте! Подождите минутку!» Может быть, это объясняется брошенным им на меня искоса взглядом, или же я все еще находился под влиянием загадочной настойчивости капитана Джайлса. Словом, это был какой-то толчок; действие той внутренней силы, которая так или иначе формирует нашу жизнь. Потому что, если бы эти слова не сорвались с моих уст (моя воля была здесь ни при чем), то моя жизнь, безусловно, была бы все-таки жизнью моряка, но пошла бы в совершенно непостижимом для меня теперь русле.
Да. Моя воля была здесь ни при чем. И не успел я произнести те роковые слова, как уже горько пожалел о них.
Если бы этот человек остановился и встретил меня лицом к лицу, мне пришлось бы с позором ретироваться. Ибо у меня не было ни малейшего желания проделать идиотскую шутку капитана Джайлса ни за свой собственный счет, ни за счет стюарда.
Но здесь в дело вмешался старый человеческий инстинкт погони. Стюард притворился глухим, и я, не задумываясь ни на секунду, обежал обеденный стол и у самой двери преградил ему путь.
– Почему вы не отвечаете, когда с вами говорят? – грубо спросил я.
Он прислонился к притолоке. Вид у него был самый несчастный. Боюсь, что человеческая натура не очень-то благородна. В ней есть отвратительные пятна. Я начинал сердиться, – думаю, только потому, что у моей дичи был такой удрученный вид. Жалкое существо!
Я сразу перешел в наступление:
– Я слышал, что сегодня утром получено официальное сообщение из портового управления. Это верно?
Он не сказал мне, чтобы я не мешался не в свое дело, а вместо того начал хныкать, но не без нахальства. Он нигде не мог найти меня сегодня утром. Нельзя же требовать, чтобы он бегал за мной по всему городу.
– Да кто этого требует? – вскричал я. И тут мои глаза раскрылись на внутренний смысл поступков и речей, тривиальность которых была так поразительна и так надоедлива.
Я сказал ему, что хочу знать, что было в том письме. Суровость моего тона и манер была притворной только наполовину. Любопытство может быть очень злобным чувством – иногда.
Он стал что-то бормотать, ища спасения в глупо-надутом виде. Меня это не касается, мямлил он. Я сказал ему, что еду домой. А раз я еду домой, он не понимает, зачем ему…
Таковы были его аргументы, настолько бессвязные, что казались почти оскорбительными. То есть оскорбительными для человеческого разума.
В этот сумеречный период между молодостью и зрелостью, в котором я находился тогда, человек особенно чувствителен к такого рода оскорблениям. Боюсь, что я вел себя со стюардом очень грубо. Но не в его привычках было давать кому-нибудь или чему-нибудь отпор. Употребление наркотиков или, может быть, одинокое пьянство…