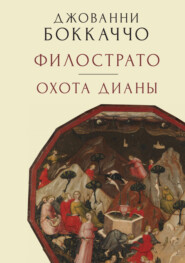По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Декамерон. Пир во время чумы
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Владыке своему, что скрыто в глубине,
То я молю тебя, мой повелитель милый,
Пойти к нему, о том ему напомнить дне,
Когда увидела его я на коне,
С копьем и со щитом, на доблестном турнире,
И стал он мне с тех пор всего дороже в мире,
И боль сердечную лишь смертью я уйму.
Эти слова Минуччио тотчас же положил на нежную и жалобную мелодию, какую требовало их содержание, и на третий день отправился ко двору, когда король Пьетро был еще за столом; король и попросил Минуччио спеть ему что-нибудь под звуки своей скрипки. Потому он начал петь свою канцону, так нежно себе подыгрывая, что все, сколько их ни было в королевском покое, были, казалось, поражены и слушали молча и внимательно, а король чуть ли не более других. Когда Минуччио кончил свою песню, король спросил его, откуда она взялась, ибо ему казалось, что он никогда ее не слыхал. «Государь мой, – отвечал Минуччио, – не прошло и трех дней с тех пор, как сложены были и слова и музыка», а когда король спросил, для кого, он ответил: «Я никому не смею открыть этого, кроме вас». Желая о том узнать, король, когда убрали со стола, позвал его в свою комнату, где Минуччио по порядку рассказал ему все, что слышал. Король сильно тому порадовался, много похвалил девушку и сказал, что такой достойной девушке следует оказать сострадание; пусть отправится к ней от его имени, утешит ее и скажет, что в тот же день под вечер он непременно придет посетить ее.
Минуччио, очень счастливый тем, что понесет девушке столь приятную весть, отправился к ней, не останавливаясь, со своей виолой и в беседе с ней наедине передал все, что было, а затем спел и песню под звуки виолы. Девушка была так обрадована и довольна этим, что тотчас же явственно обнаружились громадные признаки ее выздоровления, и, тогда как никто из домашних ничего не знал и не подозревал, принялась со страстным желанием поджидать вечера, когда надеялась увидеть самого повелителя.
Король, как государь великодушный и добрый, несколько раз передумывал потом обо всем, слышанном от Минуччио, и, отлично зная и девушку и ее красоту, ощутил еще более сострадания, чем прежде; сев на коня в вечерний час, будто выехал на прогулку, он прибыл к месту, где находился дом аптекаря; попросив, чтобы ему открыли прелестный сад, принадлежавший аптекарю, он слез с коня и по некотором времени спросил Бернардо, как поживает его дочь и не выдал ли он ее замуж. Бернардо отвечал: «Государь мой, она не замужем, к тому же была, да еще и теперь, больна; правда, начиная с девятого часа она удивительно как поправилась». Король тотчас же понял, что означает это улучшение, и сказал: «Клянусь, большой было бы утратой, если бы свет лишился теперь столь прелестного создания, мы желаем пойти посетить ее». Вскоре затем, сопровождаемый двумя лишь спутниками и Бернардо, он вошел в ее комнату и, вступив в нее, приблизился к постели, где, несколько поднявшись, девушка ожидала его с нетерпением; взяв ее за руку, он сказал: «Мадонна, что это значит? Вы молоды и должны были бы утешать других, а вы позволяете себе болеть! Мы просим вас, чтобы из любви к нам вам угодно было ободриться настолько, чтобы вам поскорее выздороветь». Девушка, почувствовав, что ее рук коснулся тот, кого она более всего любила, хотя и застыдилась несколько, тем не менее ощутила такую радость в душе, как будто побывала в раю, и как сумела ответила: «Государь мой, желание перенести при моих слабых силах страшную тяжесть было причиной этого недуга, от которого, по вашей милости, вы скоро увидите меня свободной». Один лишь король понимал тайный смысл речей девушки и все более ценил ее и несколько раз внутренне проклинал судьбу, сделавшую ее дочерью такого человека; оставшись с ней некоторое время и еще более утешив ее, он удалился.
Это человеколюбие короля очень похвалили и вменили его в большую честь аптекарю и его дочке, которая была так счастлива, как когда-либо была счастлива дама со своим милым. Поддержанная надеждой на лучшее, она, выздоровев в несколько дней, стала красивее, чем когда-либо. Когда она поправилась, король, обсудив с королевой, какую награду следует ей воздать за такую любовь, сев однажды на коня в сопровождении многих из своих баронов, отправился к дому аптекаря и, войдя в сад, велел позвать аптекаря и его дочь; между тем явилась и королева со многими дамами, приняли девушку в свое общество, и пошло большое веселье. По некотором времени король и королева позвали Лизу, и король сказал ей: «Достойная девушка, великая любовь, которую вы к нам питали, заслужила вам от нас великую честь, и мы желаем, чтобы ради любви к нам вы ею удовлетворились; а честь эта в том, что, так как вы девушка на выданье, мы желаем, чтобы вы избрали мужем того, кого мы вам дадим, причем я намерен, несмотря на это, всегда называться вашим рыцарем, ничего иного не требуя от такой любви, кроме одного поцелуя». Девушка, лицо которой все раскраснелось от стыда, принимая желание короля за свое собственное, ответила тихим голосом: «Государь мой, я совершенно уверена, что если бы узнали, что я в вас влюбилась, большинство признало бы меня помешанной, полагая, быть может, что я сошла с ума и не понимаю моего положения, да к тому же и вашего; но Господь, который один ведает сердца смертных, знает, что в то мгновение, когда вы мне впервые понравились, я сознавала, что вы король, а я дочь Бернардо-аптекаря и что мне плохо пристало устремлять пыл души к такой высоте. Но, как вам лучше меня известно, никто не влюбляется по должному выбору, а по вожделению и желанию; силы мои несколько раз противились этому закону, но не имея возможности противиться, я вас любила, люблю и буду всегда любить. Правда, когда я почувствовала, что любовь к вам овладела мною, я тотчас же решила всегда делать ваше желание моим; поэтому я не только охотно приму и буду чтить мужа, которого вам угодно будет мне дать и который доставит мне честь и положение, но если б вы сказали, чтобы я пребывала в огне и была уверена, что это вам угодно, мне это было бы в удовольствие. Иметь короля своим рыцарем – вы сами знаете, насколько это мне пристало, потому на это я ничего более и не отвечу; а поцелуй, единственный, которого вы желаете от моей любви, не будет вам предоставлен без позволения государыни королевы. Тем не менее за такую ко мне благость, какую оказали мне вы и государыня королева, здесь присутствующая, Господь да пошлет вам за меня и милости и награду, потому что мне нечем воздать вам». И она умолкла.
Королеве очень понравился ответ девушки, и она показалась ей столь умной, как говорил король. Велев позвать отца и мать девушки и узнав, что они довольны тем, что он намеревался сделать, король призвал одного молодого человека, родовитого, но бедного, по имени Пердиконе, и, подав ему кольца, велел ему, не отнекивавшемуся, обручиться с Лизой. Кроме многих дорогих украшений, которые подарили девушке король и королева, король тотчас же дал жениху Чеффалу и Калатабеллоту, два хороших и доходных поместья, говоря: «Это мы даруем тебе в приданое за женой; что мы намерены сделать для тебя, это ты увидишь со временем». Так сказав и обратившись к девушке, он прибавил: «Теперь мы желаем сорвать тот плод, какой подобает нам взять от вашей любви». И, взяв в обе руки ее голову, он поцеловал ее в лоб. Пердиконе, отец и мать Лизы и она сама, довольные, устроили великий пир и веселую свадьбу, и, как утверждают иные, король очень точно соблюл обещание, данное девушке, потому что, пока был жив, всегда назывался ее рыцарем и на какое бы военное дело ни отправился, никогда не носил другого знамения, кроме того, какое посылала ему молодая женщина.
Такими-то поступками уловляются сердца подданных, другим же дается повод к благому деянию и приобретается вечная слава. А на такие дела немногие ныне или лучше никто не направляет стрел своего духа, ибо большая часть властителей сделалась жестокими и тиранами.
Новелла восьмая
Софрония, считающая себя женой Джизиппо, замужем за Титом Квинцием Фульвом; с ним она отправляется в Рим, куда Джизиппо приходит в нищем виде; полагая, что Тит презирает его, он утверждает, с целью умереть, что убил человека. Признав Джизиппо и желая его спасти, Тит говорит, что убийца – он; услышав это, совершивший преступление выдает себя сам, вследствие чего Октавиян всех освобождает. Тит выдает за Джизиппо свою сестру и делит с ним все свое достояние.
Когда Пампинея перестала сказывать и каждая из дам, а всех более та, что была гибеллинкой, похвалили короля Пьетро, Филомена начала по приказу короля:
– Великодушные дамы, кто не знает, что во власти королей сделать, лишь бы они захотели, великие дела и что от них особенно требуют великодушия? Итак, кто, имея возможность, делает, что ему надлежит, поступает хорошо, но не следует тому слишком удивляться, ни возвышать его великими похвалами, как надлежало бы то делать относительно другого, от которого вследствие его малой мощи менее и требуется. Потому, если вы так многословно восхваляете деяния короля и они представляются вам прекрасными, я ничуть не сомневаюсь, что вам должны еще более нравиться и быть вами одобрены деяния людей, нам подобных, когда они равны поступкам короля или и превосходят их; оттого я и решилась рассказать вам в новелле об одном похвальном и великодушном деле, бывшем между двумя гражданами-друзьями.
Итак, в то время, когда Октавиян Цезарь, еще не прозванный Августом, правил Римской империей в должности, называемой триумвиратом, жил в Риме родовитый человек, по имени Публий Квинций Фульв, который, имея одного сына, Тита Квинция Фульва, одаренного удивительными способностями, отправил его в Афины изучать философию, поручив его, как только мог, одному именитому человеку, по имени Кремет, своему старинному другу. Тот поместил Тита в своем собственном доме, в сообществе со своим сыном, по имени Джизиппо, и оба они, Тит и Джизиппо, были отданы Креметом в обучение философу, по имени Аристипп[88 - Аристипп (род. ок. 435 г. до н. э.; год смерти неизвестен) – древнегреческий философ-идеалист, считавший наслаждение целью жизни человека.]. Когда молодые люди, жили и общались вместе, их характеры оказались настолько сходными, что между ними возникло великое братство и дружба, никогда впоследствии ничем не нарушавшаяся, кроме смерти. Ни у одного из них не было ни радости, ни покоя, как лишь когда они бывали вместе. Вместе они начали свои занятия, и каждый из них при одинаково блестящих способностях восходил на славную высоту философии ровным шагом и с великой похвалой.
Такую жизнь продолжали они вести к величайшему утешению Кремета, почти не считавшего одного из них более себе сыном, чем другого, в течение трех лет, в конце которых случилось, как то бывает со всеми живущими, что Кремет, уже старый, скончался, чем одинаково опечалились оба юноши, точно они теряли общего отца, и друзья и родные Кремета не знали, кого из них двух следовало более утешать в приключившейся утрате. По прошествии нескольких месяцев случилось, что друзья Джизиппо и его родные пришли к нему и вместе с Титом стали его убеждать взять себе жену и нашли ему девушку удивительной красоты, происходившую от именитых родителей и афинскую гражданку, лет около пятнадцати, по имени Софронию. Когда приблизилось время, назначенное для свадьбы, Джизиппо попросил однажды Тита пойти вместе посмотреть на нее, так как он ее еще не видал; прибыв в ее дом, когда девушка села между ними, Тит, будто судья красоты невесты своего друга, стал внимательно ее разглядывать, и так как все в ней безмерно ему нравилось и он много расхваливал ее про себя, он, не дав того заметить никому, так сильно воспылал к ней, как не пламенел еще никогда ни один влюбленный в женщину.
Пробыв с ней некоторое время, они вернулись домой. Здесь Тит, войдя в одиночку в свою комнату, начал размышлять о понравившейся ему девушке, пылая тем больше, чем более останавливался на этой мысли. Заметив это и глубоко вздохнув, он начал говорить сам с собою так: «О, как жалка твоя жизнь, Тит! Куда и во что вложил ты свою душу, любовь и надежду? Разве не понимаешь ты, что за привет Кремета и его семьи, за тесную дружбу между тобой и Джизиппо, с которым она обручена, тебе следует чтить эту девушку, как сестру? Почему же ты любишь? Куда позволяешь увлечь себя обманчивой любви, куда обольщающей надежде? Открой духовные очи и прозри самого себя, несчастный! Дай место разуму, обуздай похотливое вожделение, умерь болезненные желания и направь на другое твои мысли; воспротивься в самом начале своему сладострастию и побори самого себя, пока еще есть время; ты не должен желать этого, это нечестно; того, чему ты намерен следовать, если б ты даже был уверен, что его достигнешь (а ты не уверен), тебе надлежало бы бежать, приняв во внимание, чего требуют истинная дружба и долг. Что же ты намерен делать, Тит? Ты оставишь бесчестную любовь, если захочешь поступить, как должно». Затем, вспомнив Софронию, он изменял свои мысли в обратные и, осуждая все сказанное, говорил: «Законы любви могущественнее всех других; они разрушают не только законы дружбы, но даже и Божеские: сколько раз случалось, что отец любил свою дочь, брат – сестру, мачеха – пасынка? Это дела более чудовищные, чем любовь к жене друга, приключавшаяся тысячу раз. Кроме того, я молод, а молодость всецело подчинена законам любви. То, что нравится Амуру, должно нравиться и мне; честные дела пристали более зрелым людям, я же не могу желать ничего иного, как чего желает Амур. Красота ее достойна любви каждого, и если я ее люблю, а я молод, кто может по справедливости порицать меня? Я люблю ее не потому, что она принадлежит Джизиппо, а люблю я ее и стал бы любить, кому бы она ни принадлежала. В том вина судьбы, что отдала она ее моему другу Джизиппо, а не кому-либо другому, и если она должна быть любима (а она должна, и по праву, за свою красоту), Джизиппо, узнав о том, должен быть более доволен, что люблю ее я, а не кто-либо другой».
От этих рассуждений он возвращался, высмеивая себя, к противоположным, от этих к тем, от тех к этим; так он провел не только эти день и ночь, но многие другие, пока не утратил с того сон и аппетит и слабость не принудила его слечь. Джизиппо, который уже несколько дней видел его задумчивым и теперь увидал больным, был крайне этим огорчен, не отходил от него ни на шаг, старался всяким способом и попечением ободрить его, часто и настоятельно спрашивая его о причине его задумчивости и недуга. Но так как Тит не однажды отвечал ему побасенками, что Джизиппо заметил, а Тит чувствовал, что его понуждают, среди слез и вздохов ответил таким образом: «Джизиппо, если бы богам было угодно, мне было бы гораздо приятнее умереть, чем жить, как подумаю я, что судьба поставила меня в необходимость проявить мою доблесть, а я вижу, к величайшему моему стыду, что она побеждена; конечно, я в скором времени ожидаю подобающего мне за то воздаяния, то есть смерти, что мне милее, чем жизнь, памятуя о моей низости, которую я, не могущий и не долженствующий скрывать от тебя что бы то ни было, открою тебе не без великой краски стыда». И, начав сначала, он открыл ему причину своих дум и самые думы и их борьбу, и какие из них взяли окончательно верх и как он погибает из-за любви к Софронии, причем утверждал, что так как он понимает, насколько это ему неприлично, он решился, в виде покаяния, умереть и уверен, что вскоре того добьется.
Когда Джизиппо услышал это и увидел его плачущим, некоторое время призадумался, ибо и он был увлечен красотою девушки, хотя и не так сильно, но затем немедленно решил, что жизнь друга должна быть ему дороже Софронии. Итак, вызванный к слезам его слезами, он ответил ему, плача: «Тит, если бы ты сам не нуждался в утешении, как нуждаешься, я принес бы тебе жалобу на тебя самого, как на человека, нарушившего нашу дружбу тем, что так долго скрывал от меня твою роковую страсть; и хотя это казалось тебе нечестным, тем не менее и нечестные дела также не следует скрывать от друга, как и честные, ибо кто друг, тот радуется вместе с другом о честном, а нечестное тщится удалить из души друга. Но в настоящее время я этим ограничусь, а обращусь к тому, что, по моему мнению, наиболее необходимо. Что ты страстно любишь Софронию, мою невесту, я тому не удивляюсь, скорее удивился бы, если б того не было, зная ее красоту и благородство твоего духа, тем более способного увлечься страстью, чем превосходнее то, что нравится. И как ты по праву любишь Софронию, так несправедливо жалуешься (хотя того не выражаешь) на судьбу, что она предоставила ее мне, ибо твоя любовь показалась бы тебе честной, если бы она принадлежала кому-либо другому, а не мне; но если ты рассудителен, как всегда, скажи мне, мог ли бы ты более благодарить судьбу, если бы она предоставила ее кому-либо другому, а не мне? Кто бы ни обладал ею и как бы честна ни была твоя любовь, тот любил бы ее скорее для себя, чем для тебя, чего не следует ожидать от меня, если ты считаешь меня другом, каков я есть; причина та, что с тех пор как мы в дружбе, я не помню, чтобы у меня было что-либо, что не было бы одинаково твоим, как и моим. Если бы дело зашло так далеко, что его нельзя было бы устроить иначе, я поступил бы с ним так же, как поступал с другими, но оно еще не в таком положении, и я могу сделать ее исключительно твоей, что и сделаю, ибо я не понимаю, почему стал бы ты дорожить моей дружбой, если бы в деле, которое можно честно устроить, я не сумел бы сделать мое желание твоим. Правда, Софрония – моя невеста, и я сильно любил ее и с большой радостью ожидал свадьбы; но так как ты, как более меня понимающий, с большей страстностью стремишься к такому сокровищу, как она, будь уверен, что она вступит в мой покой твоей, а не моей женой. Потому оставь твои думы, прогони печаль, верни утраченное здоровье, бодрость и веселье и отныне весело ожидай награды за твою любовь, более достойную, чем моя».
Когда Тит услышал такие речи Джизиппо, то насколько их ласкающая надежда приносила ему радости, настолько устыдило его справедливое соображение, раскрывавшее ему, что чем большее было великодушие Джизиппо, тем неприличнее казалось воспользоваться им. Потому, не переставая плакать, он, с трудом говоря, ответил ему: «Джизиппо, твоя великодушная и истинная дружба ясно указывает, что надлежит делать моей; да не попустит Бог, чтобы ту, которую он даровал тебе, как более достойному, я когда-либо принял от тебя, как свою. Если бы он усмотрел, что она подобает мне, то ни ты, ни кто другой не должны сомневаться, что он никогда не предоставил бы ее тебе. Итак, пользуйся радостно твоим избранием, разумным советом и его даром и предоставь мне изнывать в слезах, которые он мне уготовил как недостойному такого блага; эти слезы я либо поборю, и это будет тебе приятно, либо они поборют меня, и я буду вне мучения».
На это Джизиппо отвечал: «Тит, если наша дружба может дать мне право заставить тебя последовать моему желанию, а тебя побудить исполнить его, вот то, на чем я хочу особенно проявить ее; если ты не согласишься добровольно на мои просьбы, я устрою при помощи того насилия, какое дозволено употребить на пользу друга, что Софрония будет твоей. Я знаю, как могучи силы любви, знаю, что не однажды, а много раз они доводили любящих до бедственной смерти, и вижу тебя столь близким к ней, что ты не был бы в состоянии ни вернуться вспять, ни побороть слезы, а, идя далее, пал бы побежденный, – и я без всякого сомнения вскоре последовал бы за тобой. Итак, если бы я не любил тебя вообще, твоя жизнь дорога мне уже потому, чтобы я сам мог жить. Софрония будет твоей, ибо другой, которая так бы понравилась тебе, не легко найти, а я, без усилия, обратив свою любовь на другую, удовлетворю и тебя и себя; может быть, я не был бы в этом деле столь великодушным, если б жены встречались так же редко и с таким же трудом, как встречаются друзья, но так как мне легко найти другую жену, не иного друга, я предпочитаю (не скажу: утратить ее, ибо, уступив ее тебе, я ее не утрачу, а отдам другому, от хорошего к лучшему) передать ее, чем потерять тебя. Потому, если мои просьбы в состоянии на тебя подействовать, прошу тебя, прекратив это горевание, в одно и то же время утешить себя и меня и с надеждой на лучшее приготовиться насладиться тою радостью, которой жаждет твоя горячая любовь к любимому предмету».
Хотя Тит и стыдился согласиться, чтобы Софрония стала его женой, и потому еще оставался непоколебимым, но любовь увлекала его, с одной стороны, с другой – побуждали уговоры Джизиппо, и он сказал: «Вот что, Джизиппо, я не знаю, что и сказать, побуждает ли меня скорее мое или твое желание, если я исполню то, что, как ты, уговаривая меня, утверждаешь, столь тебе приятно; так как твое великодушие таково, что побеждает мой понятный стыд, я так и поступлю, но будь уверен в одном, что я делаю это не как человек, не сознающий, что получает от тебя не только любимую женщину, но с нею и свою жизнь. Да устроят, коли возможно, боги, чтобы к твоей чести и благу я еще мог показать тебе, как приятно мне то, что ты делаешь относительно меня, сострадая мне более, чем я сам».
На эти речи Джизиппо сказал: «Тит, если мы желаем, чтобы это дело удалось, следует, по моему мнению, держаться такого пути. Как тебе известно, после долгих переговоров моих родственников с родственниками Софронии она стала моей невестой, потому, если б я теперь же пошел сказать, что не хочу ее себе в жены, вышла бы величайшая неприятность, и я разгневал бы и ее и моих родных; до этого мне было бы мало дела, если бы я был уверен, что через это она станет твоей, но я опасаюсь, если покину ее таким образом, чтобы ее родители не выдали ее тотчас же за кого-нибудь другого, которым окажешься, быть может, не ты, и таким образом ты утратишь то, чего я не приобрел. Потому мне кажется, если ты на это согласен, что мне следует продолжать уже начатое, ввести ее в мой дом, как мою жену, и сыграть свадьбу, а затем мы сумеем устроить, что ты будешь тайно спать с ней, как со своей женой. Впоследствии, в свое время и в своем месте мы объявим о совершившемся; если оно будет им по нраву, то хорошо, если нет, то дело все же будет сделано, и так как его нельзя будет переделать обратно, им придется поневоле удовлетвориться».
Этот совет понравился Титу, вследствие чего Джизиппо принял ее в свой дом, как жену, когда Тит уже выздоровел и был в силах. После большого пиршества, когда настала ночь, женщины оставили молодую на ложе ее мужа и удалились. Комната Тита была рядом с комнатой Джизиппо, из одной можно было перейти в другую; потому, когда Джизиппо был у себя и потушил все свечи, он, потихоньку отправившись к Титу, сказал ему, чтобы он шел лечь со своей женой. Увидев это и пораженный стыдом, Тит готов был раскаяться и отказывался идти, но Джизиппо, готовый всей душой, не только на словах, угодить его желанию, все же направил его туда после долгого спора. Едва Тит улегся в постель, обнял девушку и, словно шутя с нею, тихо ее спросил, хочет ли она быть его женой. Та, полагая, что это мессер Джизиппо, сказала: да, после чего он надел ей на палец красивый богатый перстень со словами: «А я желаю быть твоим мужем». Затем, совершив брак, он долго и любовно наслаждался с нею, причем ни она и никто другой не догадался, что с ней спал кто-то другой, а не Джизиппо.
Пока брак Софронии и Тита находился в таком положении, отец его Публий скончался, вследствие чего ему написали, чтобы он немедленно вернулся в Рим присмотреть за своими делами; потому он решил с Джизиппо отправиться туда, взяв с собою Софронию. А этого нельзя, да и невозможно, было сделать прилично, не открыв ей положения дела. И вот, позвав ее однажды в комнату, они откровенно объяснили ей все, как есть, в чем Тит удостоверил ее, рассказав о многом бывшем между ними обоими. Она, посмотрев на того и на другого с выражением некоторого негодования, принялась плакать навзрыд, жалуясь на обман, учиненный ей Джизиппо, и прежде чем рассказать о том в его доме, отправилась к своему отцу и здесь объяснила ему и матери, как она и они были обмануты Джизиппо, причем утверждала, что она жена Тита, а не Джизиппо, как они полагали. Это крайне оскорбило отца Софронии, и он и его родня долго и настоятельно жаловались на то родным Джизиппо, и были от того долгие и великие распри и смуты. Джизиппо стал ненавистным своим и родным Софронии, и всякий говорил, что он заслуживает не только порицания, но и сурового наказания, а он утверждал, что поступил честно и что родные Софронии должны были бы благодарить его за то, ибо он выдал Софронию за лучшего, чем он сам. С другой стороны, Тит все это слышал и переносил с большим огорчением, а так как он знал нравы греков, что они продолжают шуметь и грозить, пока не встретят человека, который бы им ответил, и тогда становятся не только скромными, но и униженными, он и решил, что не следует более оставлять их брань без ответа; обладая мужеством римлянина и разумом афинянина, ловким способом собрав родителей Джизиппо и Софронии в одном храме, он вошел туда, в сопровождении одного лишь Джизиппо, и стал так говорить поджидавшим его: «Многие философы полагают, что все, совершаемое смертными, делается по распоряжению и промышлению бессмертных богов, почему некоторые думают, что все, что происходит или когда-либо произойдет, совершается по необходимости, хотя и есть иные, вменяющие эту необходимость лишь совершившемуся. Если взглянуть на эти мнения с некоторым вниманием, ясно будет, что порицать дело, которое уже нельзя изменить, не что иное, как желать показаться мудрее богов, относительно которых нам следует верить, что они вечно разумно и без всякого заблуждения располагают и правят нами и всеми нашими делами. Потому вы легко можете усмотреть, сколь неразумным и глупым высокомерием представляется порицание их действий, и каких, и каковых оков заслуживают те, которые позволяют своей дерзости увлечь себя до этого. По моему мнению, все вы таковы, если правда, что, как я слышал, вы говорили и постоянно говорите по поводу того, что Софрония стала моей женой, тогда как вы отдали ее за Джизиппо, не принимая в соображение, что от века ей было назначено стать женой не Джизиппо, а моей, как теперь обнаружилось на деле. Но так как разговоры о сокровенном провидении и промысле богов кажутся многим трудными и тяжелыми для понимания, то, предположив, что они не вмешиваются ни в какие наши дела, я хочу снизойти к людским решениям, говоря о которых мне придется совершить два деяния, крайне противные моему обыкновению: во-первых, похвалить несколько самого себя, а во-вторых, несколько попрекнуть или унизить других. Но так как ни в том, ни в другом случае я не желаю удаляться от истины и того требует настоящее дело, я так и поступлю.
Ваши сетования, вызванные более гневом, чем разумом, с вечным ропотом и даже криками поносят, язвят и осуждают Джизиппо за то, что он по своему усмотрению отдал мне в жены ту, которую вы по вашему усмотрению отдали ему, тогда как я думаю, что его надо за это много похвалить, и вот по каким причинам: во-первых, за то, что он поступил, как подобает поступить другу, во-вторых, потому, что он поступил разумнее, чем поступили вы. То, что священные законы дружбы требуют, чтобы один друг делал для другого, объяснять это не входит теперь в мое намерение, и я довольствуюсь лишь тем напоминанием, что узы дружбы гораздо сильнее связи кровной или родственной, ибо друзьями мы имеем таких, каких выбрали сами, а родственников, каких дает судьба. Потому если Джизиппо ценил более мою жизнь, чем ваше благоволение, так как я ему друг, каковым я себя считаю, никто не должен тому удивляться.
Но перейдем ко второй причине, по поводу которой мне придется с большей настоятельностью доказать вам, что он был разумнее вас, ибо, мне кажется, вы мало разумеете о промысле богов, еще менее понимаете дела дружбы. Итак, говорю, что по вашему усмотрению, совету и решению Софрония была отдана Джизиппо, юноше-философу, решение Джизиппо отдало ее тоже юноше-философу; по вашему совету она была отдана афинянину, а по совету Джизиппо – римлянину; по вашему – родовитому юноше, а по совету Джизиппо еще более родовитому; по вашему – богатому юноше, а по совету Джизиппо – еще более богатому; по вашему – молодому человеку, не только не любившему, но едва знавшему ее, по совету же Джизиппо – юноше, который любил ее больше всякого своего счастья и своей жизни.
А что все, сказанное мною, правда и более достойно поощрения, нежели то, что сделали вы, это мы разберем в частностях. Что я так же молод и такой же философ, как Джизиппо, это могут засвидетельствовать без долгих разговоров и мое лицо и мои занятия. Мы одного возраста и в занятиях всегда шли равным шагом. Правда, он афинянин, а я римлянин. Если стать спорить о славе городов, я скажу, что я из города свободного, он из города, обязанного данью; скажу, что я из города, властвующего над всем миром, он из города, подвластного моему; скажу, что я из города, цветущего военной славой, властью и ученостью, тогда как свой он сможет похвалить за одну лишь ученость. Кроме того, хотя вы и видите здесь во мне лишь очень скромного ученика, я произошел не из подонков римской черни: мои дома и публичные места Рима наполнены древними изображениями моих предков, и вы найдете, что римские летописи полны многих триумфов, которые Квинции водили на римский Капитолий; слава нашего имени не только не пришла в ветхость, но в настоящее время цветет более, чем когда-либо. Я умолчу из стыдливости о моих богатствах, памятуя, что честная бедность – древнее и богатое наследие благородных граждан Рима и хотя она и осуждается во мнении простых людей и превозносятся сокровища, ими я изобилую не как скупец, а как любимец судьбы.
Я хорошо знаю, что вам было и должно быть приятно породниться здесь с Джизиппо, но нет никакой причины, чтобы вы менее дорожили мною в Риме, приняв во внимание, какого гостеприимного хозяина вы будете иметь там во мне, полезного, заботливого и сильного покровителя как в делах общественных, так и в частных. Итак, кто же, оставив в стороне свое желание и сообразуясь с рассудком, похвалит ваши решения, а не решения моего Джизиппо? Уж, конечно, никто. Стало быть, Софрония достойным образом выдана замуж за Тита Квинция Фульва, родовитого, древнего и богатого гражданина Рима и друга Джизиппо, и потому тот, кто о том горюет и на то жалуется, не поступает, как должно, и не знает того, что делает.
Найдутся, быть может, такие, которые скажут, что они пеняют не на то, что Софрония стала женой Тита, а на способ, каким это сталось, тайно, украдкой, без ведома о том друзей или родичей. Это не чудо и не новость. Я охотно оставлю в стороне тех, которые избирали себе мужей против воли отцов, и тех, которые бежали со своими любовниками, быв любовницами, прежде чем стать женами, и тех, которые обнаружили свой брак беременностью или родами ранее, чем признанием, и тем сделали его необходимым; всего этого не случилось с Софронией, напротив, Джизиппо отдал ее Титу в порядке, скромно и честно.
Иные скажут, что выдал ее замуж, кто не имел на то права. Это глупые, женские жалобы, происходящие от малого разумения. Не в первый раз судьба пользуется различными путями и новыми орудиями, чтобы привести дела к определенным целям. Какое мне дело, если башмачник, а не философ распорядился моим делом по своему разумению, тайно или открыто, если оно окончилось хорошо? Следует остеречься, если башмачник неразумен, чтобы он более не брался за дело, а за сделанное поблагодарить его. Если Джизиппо удачно выдал замуж Софронию, то жаловаться на него и на тот способ, каким он это сделал, излишняя глупость. Если вы не доверяете его разуму, берегитесь, чтобы он более не выдавал замуж других, а на этот раз поблагодарите.
Тем не менее вы должны знать, что я не искал ни хитростью, ни обманом запятнать честь и чистоту вашей крови в лице Софронии, и хотя я тайно взял ее себе в жены, я явился не как вор похитить ее девственность и не как враг желал овладеть ею бесчестно, отказываясь от вашего родства, а как горячо влюбленный в ее чарующую красоту и добродетель, и зная, что если бы я искал ее тем порядком, который вы, быть может, имеете в виду, я не получил бы ее, много любимую вами, из опасения, что я увезу ее в Рим. Итак, я воспользовался тайной сноровкой, которая может быть открыта вам в настоящее время, и побудил Джизиппо согласиться от моего имени на то, к чему сам он не был расположен; затем, хотя я и любил ее горячо, я искал соединения с ней не как любовник, а как муж, приблизившись к ней, как то она сама может поистине свидетельствовать, не прежде, как обручившись с ней, с произнесением обычных слов, кольцом, спросив ее, желает ли она иметь меня своим мужем, на что она отвечала утвердительно. Если ей кажется, что она обманута, то порицать подобает не меня, а ее, не спросившую меня, кто я.
Вот то великое зло, великое прегрешение и великий проступок, содеянный Джизиппо, другом, и мною, любящим, – что Софрония тайно стала супругой Тита Квинция; за это вы его терзаете, угрожаете ему и строите ему ковы! Что бы вы могли учинить ему большее, если бы он отдал ее простолюдину, проходимцу или слуге? Какие цепи, тюрьмы и пытки сочли бы вы достаточными? Но оставим это пока; наступило время, которого я еще не чаял, ибо отец мой умер и мне необходимо вернуться в Рим; вот почему, желая взять с собой Софронию, я открыл вам то, что, быть может, держал бы еще в тайне от вас; если вы разумны, вы перенесете это добродушно, если бы я захотел вас обмануть или оскорбить, то, наглумившись над ней, мог бы покинуть ее; но сохрани Бог, чтобы такая подлость могла когда-либо посетить душу римлянина!
Итак, Софрония – моя и по соизволению богов, и в силу человеческих законов, и по похвальному разумению моего Джизиппо, и по моей любовной хитрости, а вы, считающие себя, быть может, более мудрыми, чем боги и другие люди, все это, как видно, неразумно осуждаете и притом двояким способом, крайне мне неприятным: во-первых, удерживая Софронию, на которую у вас не более прав, чем сколько дозволю я, а во-вторых, относясь к Джизиппо, которому вы по справедливости обязаны, как к врагу. Я не предполагаю в данное время раскрывать вам долее, как глупо вы поступаете во всем этом, но хочу посоветовать вам, как друзьям, оставить ваше негодование, отложить всецело гнев и возвратить мне Софронию, дабы я уехал радостно, как ваш родственник, и остался бы вашим; будьте, однако, уверены, что нравится ли вам то, что сделано, или нет, но если вы думаете поступить иначе, я возьму у вас Джизиппо, и если доберусь до Рима, без сомнения, хотя бы и против вашей воли, верну себе ту, которая моя по праву; а что в состоянии сделать негодование римлян, я, постоянно враждуя с вами, покажу вам то на опыте».
Сказав это, Тит встал с разгневанным лицом и, взяв за руку Джизиппо, показывая, с каким небрежением он относится к тем, кто находился в храме, вышел, покачивая головою и угрожая. Те, что остались в храме, частью увлеченные доводами Тита к мысли о родстве и дружбе с ним, частью испуганные его последними словами, решили с общего согласия, что лучше иметь Тита родственником, так как Джизиппо не захотел быть таковым, чем, утеряв для родства Джизиппо, обрести врага в Тите. Потому, отправившись за Титом и найдя его, они выразили ему свое согласие, чтобы Софрония была его женой, он – их дорогим родственником, а Джизиппо – добрым другом; устроив родственный и дружеский пир, они удалились и отправили ему Софронию, а та, как женщина умная, обратив необходимость в долг, быстро перенесла на Тита ту любовь, которую питала к Джизиппо, и отправилась с ним в Рим, где была принята с большим почетом.
Джизиппо остался в Афинах, будучи почти у всех в малом почете; спустя немного времени, вследствие внутренних распрей со всеми своими родичами, бедный и несчастный, он был выслан из Афин и осужден на вечное изгнание. В таком положении, став не только бедняком, но и нищим, Джизиппо кое-как добрался до Рима, чтобы попытать, вспомнит ли его Тит; узнав, что он жив и уважаем всеми римлянами, проведав, где его дом, он стал насупротив, поджидая, чтобы Тит вышел, не осмеливаясь заговорить с ним в нищем образе, в каком обретался, но рассчитывая показаться ему, дабы, признав его, Тит велел позвать его к себе. Но Тит прошел мимо, а Джизиппо, вообразивший, что он его видел и погнушался им, вспомнив, что он когда-то сделал для него, ушел возмущенный и полный отчаяния.
Была уже ночь, а он голодный и без денег, не зная, куда идти, чая более смерти, чем чего иного, зашел случайно в одно очень пустынное место города, где, увидав большую пещеру, остался в ней заночевать и заснул на голой земле, в рубищах, истощенный долгим гореванием. В эту-то пещеру пришли под утро со своей добычей два человека, совершившие ночью покражу, и когда между ними возникла ссора, один из них, более сильный, убил другого и удалился. Все это Джизиппо видел и слышал, и ему показалось, что, не прибегая к самоубийству, он обрел путь к столь желанной им смерти; потому, не уходя оттуда, он остался, пока служители суда, которые уже узнали о случившемся, не явились туда и, свирепые, не увлекли с собой Джизиппо. Он же при допросе показал, что убил – он и не имел потом возможности уйти из пещеры, почему претор[89 - Претор – представитель высшей судебной власти в Древнем Риме.], по имени Марк Варрон, приказал казнить его на кресте, по тогдашнему обычаю.
Тит случайно пришел в это время в преторию; взглянув в лицо несчастному осужденному и услыхав причину его осуждения, он тотчас же признал Джизиппо, удивился его жалкой судьбе и тому, как он здесь очутился; страстно желая помочь ему и не видя иного пути к его спасению, как обвинив себя и оправдав его, он быстро выдвинулся вперед и закричал: «Марк Варрон, вороти того несчастного человека, которого ты осудил, ибо он невинен. Я уже и одной виной достаточно оскорбил богов, убив того, которого твои служители нашли мертвым сегодня поутру, и не хочу оскорбить их теперь смертью другого невинного».
Изумился Варрон, и ему было неприятно, что вся претория слышала это, но так как он не мог с честью избегнуть исполнения того, чего требовали законы, то и велел вернуть Джизиппо и в присутствии Тита сказал: «Как мог ты быть столь неразумным, чтобы без пытки сознаться в том, чего ты не совершал, когда дело шло о жизни? Ты показал, что это ты ночью убил человека, а вот он теперь приходит и говорит, что не ты, а он убил его».
Джизиппо, взглянув, узнал, что тот, о котором шла речь, был Тит, и отлично понял, что делал он это для его спасения в благодарность за услугу, полученную от него. Потому, растроганный, он сказал, плача: «Варрон, я в самом деле убил его, и сострадание Тита пришло слишком поздно для моего спасения». Тит же говорил со своей стороны: «Претор, ты видишь, это чужестранец, его нашли безоружным возле убитого; знать, его нищета дает ему повод желать смерти, потому освободи его, а меня, как я того заслужил, накажи».
Варрон дивился настоятельным заявлениям их обоих и, уже предполагая, что ни один из них не преступен, помышлял о способе оправдать их, когда вдруг явился юноша, по имени Публий Амбуст, человек потерянный, известный всем римлянам за отъявленного разбойника, который действительно совершил убийство и знал, что ни один из них не был виновен в том, в чем каждый себя обвинял, но их невинность вложила в его душу такое сострадание, что, побуждаемый им, он приблизился к Варрону и сказал: «Претор, моя судьба понуждает меня разрешить трудный спор между этими людьми; я не знаю, какой из богов побуждает и возбуждает меня внутренне объявить тебе мой проступок; потому знай, что ни один из них не виновен в том, в чем каждый обвиняет себя. Я действительно тот, который убил сегодня под утро того человека, а этого несчастного я видел там спящим, пока я делил воровскую добычу с тем, которого умертвил. Тит не нуждается в моем оправдании, его имя слишком известно, чтобы он мог быть способным на такое дело. Итак, освободи его и наложи на меня наказание, требуемое законами».
Октавиян, уже знавший об этом, велел им явиться всем троим, желая услышать, какая причина побуждала каждого желать быть осужденным, что каждый и рассказал, а он тех двоих освободил, как невиновных, а третьего – ради них. Тит взял с собою своего Джизиппо и, попрекнув его порядком за его робость и недоверие, обнаружил живейшую радость и повел его в свой дом, где Софрония, растроганная до слез, приняла его как брата, утешив его несколько и приодев и вновь обставив, как того требовали его доблести и благородство. Тит прежде всего поделил с ним все свои сокровища и имения и затем дал ему в жены свою молоденькую сестру, по имени Фульвию, после чего сказал ему: «Джизиппо! От тебя теперь зависит, захочешь ли ты жить здесь со мною, или пожелаешь вернуться в Ахайю со всем тем, что я дал тебе». Джизиппо, побуждаемый, с одной стороны, изгнанием из своего города, с другой – любовью, которую питал к благодарной дружбе Тита, решился сделаться римлянином. Так он со своей Фульвией, а Тит с Софронией долгое время весело жили одним домом, становясь изо дня в день, если только это было возможно, все большими друзьями.
Итак, дружба – это дело священнейшее, достойное не только собственного почитания, но и вечной похвалы, как мудрая мать – великодушия и честности, сестра – благодарности и милосердия, враг – ненависти и скупости, всегда готовая, не ожидая просьб, проявить для других те действия, какие желали бы, чтобы проявили для нее. Ее священнейшее влияние крайне редко обнаруживается ныне между двумя лицами, к вине и стыду презренного любостяжания смертных, которое, помышляя лишь о собственной пользе, осудило ее на вечное изгнание за самые крайние пределы земли. Какая любовь, какие богатства, какое родство заставили бы отозваться в сердце Джизиппо страсть, слезы и вздохи Тита с такою силою, что он красивую, благородную, любимую им невесту отдал Титу, – если не дружба? Какие законы, какие угрозы, какой страх могли удержать молодые руки Джизиппо в местах уединенных, темных, на собственном ложе от объятий красивой девушки, может быть, и вызывавшей на то порой, – если не дружба? Какие почести, какие награды, какие выгоды заставили бы Джизиппо не заботиться о потере своих родных и родных Софронии, не обращать внимания на оскорбительный ропот черни, пренебрегать издевательствами и насмешками, лишь бы удовлетворить друга, – если не дружба? С другой стороны, что побудило Тита (хотя у него был приличный предлог представиться, что он ничего не видел), рьяно, не колеблясь, искать своей собственной смерти, чтобы спасти Джизиппо от креста, который он сам себе уготовлял, – если не дружба? Что сделало Тита столь великодушным, чтобы разделить без малейшего колебания свое громадное наследие с Джизиппо, у которого судьба отняла его собственное, – если не дружба? Что заставило Тита отдать с готовностью, без всяких сомнений, свою сестру Джизиппо, которого он видел бедняком, дошедшим до крайней нищеты, – коли не дружба? Итак, пусть люди желают себе множества родственников, толпы братьев, большого количества детей, пусть с помощью денег увеличивают количество слуг и пусть не видят, что каждый из них более страшится малейшей опасности и для себя, нежели заботится об устранении больших опасностей отцу или брату, или хозяину, – тогда как друг поступает наоборот.
Новелла девятая
Саладин под видом купца учествован мессером Торелло. Наступает крестовый поход; мессер Торелло дает своей жене срок для выхода замуж. Он взят в плен и становится известным султану своим уменьем ходить за ловчими птицами; тот, признав его и объявив ему, кто он, оказывает ему большие почести. Мессер Торелло заболел и в одну ночь перенесен при помощи волшебства в Павию; во время торжества, которое совершалось по поводу брака его жены, он узнан ею и возвращается с нею к себе домой.
Уже Филомена положила конец своему рассказу, и все единодушно восхваляли великодушную благодарность Тита, когда король, предоставляя последнее слово Дионео, так начал говорить:
– Прелестные дамы, Филомена, рассуждая о дружбе, несомненно, говорит правду и справедливо посетовала в конце своих речей на то, что ныне она столь мало ценится смертными. Если бы мы были здесь с целью исправлять людские недостатки, либо хотя бы за тем, чтобы порицать их, я продолжил бы ее речи подробным рассуждением; но так как наша цель иная, мне взбрело на ум показать вам в несколько длинном, быть может, но все же занимательном рассказе один из великодушных поступков Саладина, дабы, услышав содержание моей новеллы, если б по недостаткам нашим мы и не могли всецело приобрести чьей-либо дружбы, то по крайней мере ощутили бы наслаждение оказать услугу в надежде, что когда бы то ни было за это нам воспоследует награда.
Итак, скажу, что, как утверждают иные, во времена императора Фридриха Первого христиане устроили всеобщий поход для освобождения святой земли. Услышав о том несколько ранее, Саладин, мужественнейший государь и тогда султан Вавилонии, вознамерился лично посмотреть на снаряжения к этому походу христианских властителей, чтобы лучше успеть приготовиться. Приведя в порядок все свои дела в Египте и делая вид, что собрался в паломничество, он отправился в путь переодетый купцом, взяв с собой только двух главных и самых умных придворных и трех служителей. Он уже проехал многие христианские области и путешествовал по Ломбардии, чтобы перебраться через горы, когда им случилось, на пути между Миланом и Павией, уже вечером повстречать одного дворянина, по имени мессер Торелло д’Истрия, из Павии, который со своими слугами, собаками и соколами ехал в свое прекрасное поместье, находившееся на Тессино, чтобы там пожить. Когда мессер Торелло увидел их, то понял, что они – знатные люди и чужестранцы, и пожелал учествовать их. Потому, когда Саладин спросил у одного из его служителей, сколько еще осталось до Павии и успеет ли он войти в нее, Торелло не дал ответить слуге, а ответил сам: «Господа, вы не успеете добраться до Павии вовремя, чтобы вам можно было вступить в нее». – «В таком случае, – сказал Саладин, – будьте любезны указать нам, так как мы чужестранцы, где бы нам лучше пристать». Мессер Торелло ответил: «Это я сделаю охотно. Я только что хотел отправить одного из моих людей по соседству с Павией по кое-какому делу; я пошлю его с вами, и он отведет вас в такое место, где вы очень удобно пристанете на ночь». Приблизившись к самому сметливому из своих слуг, он наказал ему все, что тому следовало сделать, и отправил его с ними, а сам, поспешив в свое поместье, велел приготовить, как мог лучше, прекрасный ужин и накрыть столы в своем саду; когда все было готово, он вышел к воротам поджидать гостей.
Слуга, рассуждая со знатными людьми о всякой всячине, провел их разными окольными путями в поместье своего господина, так что они того не заметили. Лишь только мессер Торелло увидел их, как вышел им навстречу и сказал, смеясь: «Добро пожаловать, господа!» Саладин, будучи очень проницательным, понял, что рыцарь опасался, что они не примут приглашения, если он пригласит их при встрече, потому и привел их к себе в дом хитростью, дабы они не могли отказать ему провесть с ним вечер; ответив на его приветствие, он сказал: «Мессере, если бы можно было сетовать на учтивых людей, мы посетовали бы на вас, принудившего нас (не говоря о том, что вы замедлили наш путь), ничем не заслуживших вашего расположения, разве одним поклоном, принять столь высокое одолжение, каково ваше». Рыцарь, умный и речистый, отвечал: «Господа, внимание, которое я оказываю вам, будет ничтожно в сравнении с тем, какое, судя по вашему виду, вам подобает, но, в самом деле, вне Павии вы не могли бы пристать ни в одном месте, которое было бы удобно; потому не посетуйте, если вы несколько свернули с пути, дабы у вас было немного менее неудобств».
Пока он говорил, слуги подошли к ним и, когда те слезли с лошадей, приняли и поставили их, а мессер Торелло повел трех знатных мужей в комнаты, для них приготовленные, где приказал их разуть, подать им освежиться тонкими винами и в приятной беседе продержал их до часа, когда можно было и ужинать. Саладин, его спутники и все слуги знали латинский язык, почему они все очень хорошо понимали и их разумели, и каждому из них казалось, что рыцарь – самый приятный, самый учтивый и красноречивый из всех, кого они до тех пор видели, а мессеру Торелло представлялось, со своей стороны, что то были более именитые и важные люди, чем он предполагал ранее, почему он внутренне горевал, что не может учествовать их в этот вечер большим пиром и обществом; он и задумал вознаградить их на следующее утро. Наставив одного из своих слуг относительно того, что он затеял сделать, он послал его к своей жене, женщине умнейшей и великодушной, в Павию, которая была совсем вблизи и где ни одни ворота не запирались; после того, проводив именитых людей в сад, он вежливо спросил их, кто они, на что Саладин ответил: «Мы кипрские купцы, прибыли из Кипра и по нашим делам отправляемся в Париж». Тогда мессер Торелло сказал: «Да будет угодно Богу, чтобы наша страна производила таких же родовитых людей, каких, видно, Кипр производит купцов». Пока разговор переходил от одного предмета к другому, наступило время ужина, почему он пригласил их пожаловать к столу, и, хотя ужин был не предусмотрен, их угостили очень хорошо и в большом порядке. Не прошло много времени, как убрали со стола, а мессер Торелло, заметив их усталость, уложил их отдохнуть в великолепные постели, да и сам вскоре за тем пошел спать.
То я молю тебя, мой повелитель милый,
Пойти к нему, о том ему напомнить дне,
Когда увидела его я на коне,
С копьем и со щитом, на доблестном турнире,
И стал он мне с тех пор всего дороже в мире,
И боль сердечную лишь смертью я уйму.
Эти слова Минуччио тотчас же положил на нежную и жалобную мелодию, какую требовало их содержание, и на третий день отправился ко двору, когда король Пьетро был еще за столом; король и попросил Минуччио спеть ему что-нибудь под звуки своей скрипки. Потому он начал петь свою канцону, так нежно себе подыгрывая, что все, сколько их ни было в королевском покое, были, казалось, поражены и слушали молча и внимательно, а король чуть ли не более других. Когда Минуччио кончил свою песню, король спросил его, откуда она взялась, ибо ему казалось, что он никогда ее не слыхал. «Государь мой, – отвечал Минуччио, – не прошло и трех дней с тех пор, как сложены были и слова и музыка», а когда король спросил, для кого, он ответил: «Я никому не смею открыть этого, кроме вас». Желая о том узнать, король, когда убрали со стола, позвал его в свою комнату, где Минуччио по порядку рассказал ему все, что слышал. Король сильно тому порадовался, много похвалил девушку и сказал, что такой достойной девушке следует оказать сострадание; пусть отправится к ней от его имени, утешит ее и скажет, что в тот же день под вечер он непременно придет посетить ее.
Минуччио, очень счастливый тем, что понесет девушке столь приятную весть, отправился к ней, не останавливаясь, со своей виолой и в беседе с ней наедине передал все, что было, а затем спел и песню под звуки виолы. Девушка была так обрадована и довольна этим, что тотчас же явственно обнаружились громадные признаки ее выздоровления, и, тогда как никто из домашних ничего не знал и не подозревал, принялась со страстным желанием поджидать вечера, когда надеялась увидеть самого повелителя.
Король, как государь великодушный и добрый, несколько раз передумывал потом обо всем, слышанном от Минуччио, и, отлично зная и девушку и ее красоту, ощутил еще более сострадания, чем прежде; сев на коня в вечерний час, будто выехал на прогулку, он прибыл к месту, где находился дом аптекаря; попросив, чтобы ему открыли прелестный сад, принадлежавший аптекарю, он слез с коня и по некотором времени спросил Бернардо, как поживает его дочь и не выдал ли он ее замуж. Бернардо отвечал: «Государь мой, она не замужем, к тому же была, да еще и теперь, больна; правда, начиная с девятого часа она удивительно как поправилась». Король тотчас же понял, что означает это улучшение, и сказал: «Клянусь, большой было бы утратой, если бы свет лишился теперь столь прелестного создания, мы желаем пойти посетить ее». Вскоре затем, сопровождаемый двумя лишь спутниками и Бернардо, он вошел в ее комнату и, вступив в нее, приблизился к постели, где, несколько поднявшись, девушка ожидала его с нетерпением; взяв ее за руку, он сказал: «Мадонна, что это значит? Вы молоды и должны были бы утешать других, а вы позволяете себе болеть! Мы просим вас, чтобы из любви к нам вам угодно было ободриться настолько, чтобы вам поскорее выздороветь». Девушка, почувствовав, что ее рук коснулся тот, кого она более всего любила, хотя и застыдилась несколько, тем не менее ощутила такую радость в душе, как будто побывала в раю, и как сумела ответила: «Государь мой, желание перенести при моих слабых силах страшную тяжесть было причиной этого недуга, от которого, по вашей милости, вы скоро увидите меня свободной». Один лишь король понимал тайный смысл речей девушки и все более ценил ее и несколько раз внутренне проклинал судьбу, сделавшую ее дочерью такого человека; оставшись с ней некоторое время и еще более утешив ее, он удалился.
Это человеколюбие короля очень похвалили и вменили его в большую честь аптекарю и его дочке, которая была так счастлива, как когда-либо была счастлива дама со своим милым. Поддержанная надеждой на лучшее, она, выздоровев в несколько дней, стала красивее, чем когда-либо. Когда она поправилась, король, обсудив с королевой, какую награду следует ей воздать за такую любовь, сев однажды на коня в сопровождении многих из своих баронов, отправился к дому аптекаря и, войдя в сад, велел позвать аптекаря и его дочь; между тем явилась и королева со многими дамами, приняли девушку в свое общество, и пошло большое веселье. По некотором времени король и королева позвали Лизу, и король сказал ей: «Достойная девушка, великая любовь, которую вы к нам питали, заслужила вам от нас великую честь, и мы желаем, чтобы ради любви к нам вы ею удовлетворились; а честь эта в том, что, так как вы девушка на выданье, мы желаем, чтобы вы избрали мужем того, кого мы вам дадим, причем я намерен, несмотря на это, всегда называться вашим рыцарем, ничего иного не требуя от такой любви, кроме одного поцелуя». Девушка, лицо которой все раскраснелось от стыда, принимая желание короля за свое собственное, ответила тихим голосом: «Государь мой, я совершенно уверена, что если бы узнали, что я в вас влюбилась, большинство признало бы меня помешанной, полагая, быть может, что я сошла с ума и не понимаю моего положения, да к тому же и вашего; но Господь, который один ведает сердца смертных, знает, что в то мгновение, когда вы мне впервые понравились, я сознавала, что вы король, а я дочь Бернардо-аптекаря и что мне плохо пристало устремлять пыл души к такой высоте. Но, как вам лучше меня известно, никто не влюбляется по должному выбору, а по вожделению и желанию; силы мои несколько раз противились этому закону, но не имея возможности противиться, я вас любила, люблю и буду всегда любить. Правда, когда я почувствовала, что любовь к вам овладела мною, я тотчас же решила всегда делать ваше желание моим; поэтому я не только охотно приму и буду чтить мужа, которого вам угодно будет мне дать и который доставит мне честь и положение, но если б вы сказали, чтобы я пребывала в огне и была уверена, что это вам угодно, мне это было бы в удовольствие. Иметь короля своим рыцарем – вы сами знаете, насколько это мне пристало, потому на это я ничего более и не отвечу; а поцелуй, единственный, которого вы желаете от моей любви, не будет вам предоставлен без позволения государыни королевы. Тем не менее за такую ко мне благость, какую оказали мне вы и государыня королева, здесь присутствующая, Господь да пошлет вам за меня и милости и награду, потому что мне нечем воздать вам». И она умолкла.
Королеве очень понравился ответ девушки, и она показалась ей столь умной, как говорил король. Велев позвать отца и мать девушки и узнав, что они довольны тем, что он намеревался сделать, король призвал одного молодого человека, родовитого, но бедного, по имени Пердиконе, и, подав ему кольца, велел ему, не отнекивавшемуся, обручиться с Лизой. Кроме многих дорогих украшений, которые подарили девушке король и королева, король тотчас же дал жениху Чеффалу и Калатабеллоту, два хороших и доходных поместья, говоря: «Это мы даруем тебе в приданое за женой; что мы намерены сделать для тебя, это ты увидишь со временем». Так сказав и обратившись к девушке, он прибавил: «Теперь мы желаем сорвать тот плод, какой подобает нам взять от вашей любви». И, взяв в обе руки ее голову, он поцеловал ее в лоб. Пердиконе, отец и мать Лизы и она сама, довольные, устроили великий пир и веселую свадьбу, и, как утверждают иные, король очень точно соблюл обещание, данное девушке, потому что, пока был жив, всегда назывался ее рыцарем и на какое бы военное дело ни отправился, никогда не носил другого знамения, кроме того, какое посылала ему молодая женщина.
Такими-то поступками уловляются сердца подданных, другим же дается повод к благому деянию и приобретается вечная слава. А на такие дела немногие ныне или лучше никто не направляет стрел своего духа, ибо большая часть властителей сделалась жестокими и тиранами.
Новелла восьмая
Софрония, считающая себя женой Джизиппо, замужем за Титом Квинцием Фульвом; с ним она отправляется в Рим, куда Джизиппо приходит в нищем виде; полагая, что Тит презирает его, он утверждает, с целью умереть, что убил человека. Признав Джизиппо и желая его спасти, Тит говорит, что убийца – он; услышав это, совершивший преступление выдает себя сам, вследствие чего Октавиян всех освобождает. Тит выдает за Джизиппо свою сестру и делит с ним все свое достояние.
Когда Пампинея перестала сказывать и каждая из дам, а всех более та, что была гибеллинкой, похвалили короля Пьетро, Филомена начала по приказу короля:
– Великодушные дамы, кто не знает, что во власти королей сделать, лишь бы они захотели, великие дела и что от них особенно требуют великодушия? Итак, кто, имея возможность, делает, что ему надлежит, поступает хорошо, но не следует тому слишком удивляться, ни возвышать его великими похвалами, как надлежало бы то делать относительно другого, от которого вследствие его малой мощи менее и требуется. Потому, если вы так многословно восхваляете деяния короля и они представляются вам прекрасными, я ничуть не сомневаюсь, что вам должны еще более нравиться и быть вами одобрены деяния людей, нам подобных, когда они равны поступкам короля или и превосходят их; оттого я и решилась рассказать вам в новелле об одном похвальном и великодушном деле, бывшем между двумя гражданами-друзьями.
Итак, в то время, когда Октавиян Цезарь, еще не прозванный Августом, правил Римской империей в должности, называемой триумвиратом, жил в Риме родовитый человек, по имени Публий Квинций Фульв, который, имея одного сына, Тита Квинция Фульва, одаренного удивительными способностями, отправил его в Афины изучать философию, поручив его, как только мог, одному именитому человеку, по имени Кремет, своему старинному другу. Тот поместил Тита в своем собственном доме, в сообществе со своим сыном, по имени Джизиппо, и оба они, Тит и Джизиппо, были отданы Креметом в обучение философу, по имени Аристипп[88 - Аристипп (род. ок. 435 г. до н. э.; год смерти неизвестен) – древнегреческий философ-идеалист, считавший наслаждение целью жизни человека.]. Когда молодые люди, жили и общались вместе, их характеры оказались настолько сходными, что между ними возникло великое братство и дружба, никогда впоследствии ничем не нарушавшаяся, кроме смерти. Ни у одного из них не было ни радости, ни покоя, как лишь когда они бывали вместе. Вместе они начали свои занятия, и каждый из них при одинаково блестящих способностях восходил на славную высоту философии ровным шагом и с великой похвалой.
Такую жизнь продолжали они вести к величайшему утешению Кремета, почти не считавшего одного из них более себе сыном, чем другого, в течение трех лет, в конце которых случилось, как то бывает со всеми живущими, что Кремет, уже старый, скончался, чем одинаково опечалились оба юноши, точно они теряли общего отца, и друзья и родные Кремета не знали, кого из них двух следовало более утешать в приключившейся утрате. По прошествии нескольких месяцев случилось, что друзья Джизиппо и его родные пришли к нему и вместе с Титом стали его убеждать взять себе жену и нашли ему девушку удивительной красоты, происходившую от именитых родителей и афинскую гражданку, лет около пятнадцати, по имени Софронию. Когда приблизилось время, назначенное для свадьбы, Джизиппо попросил однажды Тита пойти вместе посмотреть на нее, так как он ее еще не видал; прибыв в ее дом, когда девушка села между ними, Тит, будто судья красоты невесты своего друга, стал внимательно ее разглядывать, и так как все в ней безмерно ему нравилось и он много расхваливал ее про себя, он, не дав того заметить никому, так сильно воспылал к ней, как не пламенел еще никогда ни один влюбленный в женщину.
Пробыв с ней некоторое время, они вернулись домой. Здесь Тит, войдя в одиночку в свою комнату, начал размышлять о понравившейся ему девушке, пылая тем больше, чем более останавливался на этой мысли. Заметив это и глубоко вздохнув, он начал говорить сам с собою так: «О, как жалка твоя жизнь, Тит! Куда и во что вложил ты свою душу, любовь и надежду? Разве не понимаешь ты, что за привет Кремета и его семьи, за тесную дружбу между тобой и Джизиппо, с которым она обручена, тебе следует чтить эту девушку, как сестру? Почему же ты любишь? Куда позволяешь увлечь себя обманчивой любви, куда обольщающей надежде? Открой духовные очи и прозри самого себя, несчастный! Дай место разуму, обуздай похотливое вожделение, умерь болезненные желания и направь на другое твои мысли; воспротивься в самом начале своему сладострастию и побори самого себя, пока еще есть время; ты не должен желать этого, это нечестно; того, чему ты намерен следовать, если б ты даже был уверен, что его достигнешь (а ты не уверен), тебе надлежало бы бежать, приняв во внимание, чего требуют истинная дружба и долг. Что же ты намерен делать, Тит? Ты оставишь бесчестную любовь, если захочешь поступить, как должно». Затем, вспомнив Софронию, он изменял свои мысли в обратные и, осуждая все сказанное, говорил: «Законы любви могущественнее всех других; они разрушают не только законы дружбы, но даже и Божеские: сколько раз случалось, что отец любил свою дочь, брат – сестру, мачеха – пасынка? Это дела более чудовищные, чем любовь к жене друга, приключавшаяся тысячу раз. Кроме того, я молод, а молодость всецело подчинена законам любви. То, что нравится Амуру, должно нравиться и мне; честные дела пристали более зрелым людям, я же не могу желать ничего иного, как чего желает Амур. Красота ее достойна любви каждого, и если я ее люблю, а я молод, кто может по справедливости порицать меня? Я люблю ее не потому, что она принадлежит Джизиппо, а люблю я ее и стал бы любить, кому бы она ни принадлежала. В том вина судьбы, что отдала она ее моему другу Джизиппо, а не кому-либо другому, и если она должна быть любима (а она должна, и по праву, за свою красоту), Джизиппо, узнав о том, должен быть более доволен, что люблю ее я, а не кто-либо другой».
От этих рассуждений он возвращался, высмеивая себя, к противоположным, от этих к тем, от тех к этим; так он провел не только эти день и ночь, но многие другие, пока не утратил с того сон и аппетит и слабость не принудила его слечь. Джизиппо, который уже несколько дней видел его задумчивым и теперь увидал больным, был крайне этим огорчен, не отходил от него ни на шаг, старался всяким способом и попечением ободрить его, часто и настоятельно спрашивая его о причине его задумчивости и недуга. Но так как Тит не однажды отвечал ему побасенками, что Джизиппо заметил, а Тит чувствовал, что его понуждают, среди слез и вздохов ответил таким образом: «Джизиппо, если бы богам было угодно, мне было бы гораздо приятнее умереть, чем жить, как подумаю я, что судьба поставила меня в необходимость проявить мою доблесть, а я вижу, к величайшему моему стыду, что она побеждена; конечно, я в скором времени ожидаю подобающего мне за то воздаяния, то есть смерти, что мне милее, чем жизнь, памятуя о моей низости, которую я, не могущий и не долженствующий скрывать от тебя что бы то ни было, открою тебе не без великой краски стыда». И, начав сначала, он открыл ему причину своих дум и самые думы и их борьбу, и какие из них взяли окончательно верх и как он погибает из-за любви к Софронии, причем утверждал, что так как он понимает, насколько это ему неприлично, он решился, в виде покаяния, умереть и уверен, что вскоре того добьется.
Когда Джизиппо услышал это и увидел его плачущим, некоторое время призадумался, ибо и он был увлечен красотою девушки, хотя и не так сильно, но затем немедленно решил, что жизнь друга должна быть ему дороже Софронии. Итак, вызванный к слезам его слезами, он ответил ему, плача: «Тит, если бы ты сам не нуждался в утешении, как нуждаешься, я принес бы тебе жалобу на тебя самого, как на человека, нарушившего нашу дружбу тем, что так долго скрывал от меня твою роковую страсть; и хотя это казалось тебе нечестным, тем не менее и нечестные дела также не следует скрывать от друга, как и честные, ибо кто друг, тот радуется вместе с другом о честном, а нечестное тщится удалить из души друга. Но в настоящее время я этим ограничусь, а обращусь к тому, что, по моему мнению, наиболее необходимо. Что ты страстно любишь Софронию, мою невесту, я тому не удивляюсь, скорее удивился бы, если б того не было, зная ее красоту и благородство твоего духа, тем более способного увлечься страстью, чем превосходнее то, что нравится. И как ты по праву любишь Софронию, так несправедливо жалуешься (хотя того не выражаешь) на судьбу, что она предоставила ее мне, ибо твоя любовь показалась бы тебе честной, если бы она принадлежала кому-либо другому, а не мне; но если ты рассудителен, как всегда, скажи мне, мог ли бы ты более благодарить судьбу, если бы она предоставила ее кому-либо другому, а не мне? Кто бы ни обладал ею и как бы честна ни была твоя любовь, тот любил бы ее скорее для себя, чем для тебя, чего не следует ожидать от меня, если ты считаешь меня другом, каков я есть; причина та, что с тех пор как мы в дружбе, я не помню, чтобы у меня было что-либо, что не было бы одинаково твоим, как и моим. Если бы дело зашло так далеко, что его нельзя было бы устроить иначе, я поступил бы с ним так же, как поступал с другими, но оно еще не в таком положении, и я могу сделать ее исключительно твоей, что и сделаю, ибо я не понимаю, почему стал бы ты дорожить моей дружбой, если бы в деле, которое можно честно устроить, я не сумел бы сделать мое желание твоим. Правда, Софрония – моя невеста, и я сильно любил ее и с большой радостью ожидал свадьбы; но так как ты, как более меня понимающий, с большей страстностью стремишься к такому сокровищу, как она, будь уверен, что она вступит в мой покой твоей, а не моей женой. Потому оставь твои думы, прогони печаль, верни утраченное здоровье, бодрость и веселье и отныне весело ожидай награды за твою любовь, более достойную, чем моя».
Когда Тит услышал такие речи Джизиппо, то насколько их ласкающая надежда приносила ему радости, настолько устыдило его справедливое соображение, раскрывавшее ему, что чем большее было великодушие Джизиппо, тем неприличнее казалось воспользоваться им. Потому, не переставая плакать, он, с трудом говоря, ответил ему: «Джизиппо, твоя великодушная и истинная дружба ясно указывает, что надлежит делать моей; да не попустит Бог, чтобы ту, которую он даровал тебе, как более достойному, я когда-либо принял от тебя, как свою. Если бы он усмотрел, что она подобает мне, то ни ты, ни кто другой не должны сомневаться, что он никогда не предоставил бы ее тебе. Итак, пользуйся радостно твоим избранием, разумным советом и его даром и предоставь мне изнывать в слезах, которые он мне уготовил как недостойному такого блага; эти слезы я либо поборю, и это будет тебе приятно, либо они поборют меня, и я буду вне мучения».
На это Джизиппо отвечал: «Тит, если наша дружба может дать мне право заставить тебя последовать моему желанию, а тебя побудить исполнить его, вот то, на чем я хочу особенно проявить ее; если ты не согласишься добровольно на мои просьбы, я устрою при помощи того насилия, какое дозволено употребить на пользу друга, что Софрония будет твоей. Я знаю, как могучи силы любви, знаю, что не однажды, а много раз они доводили любящих до бедственной смерти, и вижу тебя столь близким к ней, что ты не был бы в состоянии ни вернуться вспять, ни побороть слезы, а, идя далее, пал бы побежденный, – и я без всякого сомнения вскоре последовал бы за тобой. Итак, если бы я не любил тебя вообще, твоя жизнь дорога мне уже потому, чтобы я сам мог жить. Софрония будет твоей, ибо другой, которая так бы понравилась тебе, не легко найти, а я, без усилия, обратив свою любовь на другую, удовлетворю и тебя и себя; может быть, я не был бы в этом деле столь великодушным, если б жены встречались так же редко и с таким же трудом, как встречаются друзья, но так как мне легко найти другую жену, не иного друга, я предпочитаю (не скажу: утратить ее, ибо, уступив ее тебе, я ее не утрачу, а отдам другому, от хорошего к лучшему) передать ее, чем потерять тебя. Потому, если мои просьбы в состоянии на тебя подействовать, прошу тебя, прекратив это горевание, в одно и то же время утешить себя и меня и с надеждой на лучшее приготовиться насладиться тою радостью, которой жаждет твоя горячая любовь к любимому предмету».
Хотя Тит и стыдился согласиться, чтобы Софрония стала его женой, и потому еще оставался непоколебимым, но любовь увлекала его, с одной стороны, с другой – побуждали уговоры Джизиппо, и он сказал: «Вот что, Джизиппо, я не знаю, что и сказать, побуждает ли меня скорее мое или твое желание, если я исполню то, что, как ты, уговаривая меня, утверждаешь, столь тебе приятно; так как твое великодушие таково, что побеждает мой понятный стыд, я так и поступлю, но будь уверен в одном, что я делаю это не как человек, не сознающий, что получает от тебя не только любимую женщину, но с нею и свою жизнь. Да устроят, коли возможно, боги, чтобы к твоей чести и благу я еще мог показать тебе, как приятно мне то, что ты делаешь относительно меня, сострадая мне более, чем я сам».
На эти речи Джизиппо сказал: «Тит, если мы желаем, чтобы это дело удалось, следует, по моему мнению, держаться такого пути. Как тебе известно, после долгих переговоров моих родственников с родственниками Софронии она стала моей невестой, потому, если б я теперь же пошел сказать, что не хочу ее себе в жены, вышла бы величайшая неприятность, и я разгневал бы и ее и моих родных; до этого мне было бы мало дела, если бы я был уверен, что через это она станет твоей, но я опасаюсь, если покину ее таким образом, чтобы ее родители не выдали ее тотчас же за кого-нибудь другого, которым окажешься, быть может, не ты, и таким образом ты утратишь то, чего я не приобрел. Потому мне кажется, если ты на это согласен, что мне следует продолжать уже начатое, ввести ее в мой дом, как мою жену, и сыграть свадьбу, а затем мы сумеем устроить, что ты будешь тайно спать с ней, как со своей женой. Впоследствии, в свое время и в своем месте мы объявим о совершившемся; если оно будет им по нраву, то хорошо, если нет, то дело все же будет сделано, и так как его нельзя будет переделать обратно, им придется поневоле удовлетвориться».
Этот совет понравился Титу, вследствие чего Джизиппо принял ее в свой дом, как жену, когда Тит уже выздоровел и был в силах. После большого пиршества, когда настала ночь, женщины оставили молодую на ложе ее мужа и удалились. Комната Тита была рядом с комнатой Джизиппо, из одной можно было перейти в другую; потому, когда Джизиппо был у себя и потушил все свечи, он, потихоньку отправившись к Титу, сказал ему, чтобы он шел лечь со своей женой. Увидев это и пораженный стыдом, Тит готов был раскаяться и отказывался идти, но Джизиппо, готовый всей душой, не только на словах, угодить его желанию, все же направил его туда после долгого спора. Едва Тит улегся в постель, обнял девушку и, словно шутя с нею, тихо ее спросил, хочет ли она быть его женой. Та, полагая, что это мессер Джизиппо, сказала: да, после чего он надел ей на палец красивый богатый перстень со словами: «А я желаю быть твоим мужем». Затем, совершив брак, он долго и любовно наслаждался с нею, причем ни она и никто другой не догадался, что с ней спал кто-то другой, а не Джизиппо.
Пока брак Софронии и Тита находился в таком положении, отец его Публий скончался, вследствие чего ему написали, чтобы он немедленно вернулся в Рим присмотреть за своими делами; потому он решил с Джизиппо отправиться туда, взяв с собою Софронию. А этого нельзя, да и невозможно, было сделать прилично, не открыв ей положения дела. И вот, позвав ее однажды в комнату, они откровенно объяснили ей все, как есть, в чем Тит удостоверил ее, рассказав о многом бывшем между ними обоими. Она, посмотрев на того и на другого с выражением некоторого негодования, принялась плакать навзрыд, жалуясь на обман, учиненный ей Джизиппо, и прежде чем рассказать о том в его доме, отправилась к своему отцу и здесь объяснила ему и матери, как она и они были обмануты Джизиппо, причем утверждала, что она жена Тита, а не Джизиппо, как они полагали. Это крайне оскорбило отца Софронии, и он и его родня долго и настоятельно жаловались на то родным Джизиппо, и были от того долгие и великие распри и смуты. Джизиппо стал ненавистным своим и родным Софронии, и всякий говорил, что он заслуживает не только порицания, но и сурового наказания, а он утверждал, что поступил честно и что родные Софронии должны были бы благодарить его за то, ибо он выдал Софронию за лучшего, чем он сам. С другой стороны, Тит все это слышал и переносил с большим огорчением, а так как он знал нравы греков, что они продолжают шуметь и грозить, пока не встретят человека, который бы им ответил, и тогда становятся не только скромными, но и униженными, он и решил, что не следует более оставлять их брань без ответа; обладая мужеством римлянина и разумом афинянина, ловким способом собрав родителей Джизиппо и Софронии в одном храме, он вошел туда, в сопровождении одного лишь Джизиппо, и стал так говорить поджидавшим его: «Многие философы полагают, что все, совершаемое смертными, делается по распоряжению и промышлению бессмертных богов, почему некоторые думают, что все, что происходит или когда-либо произойдет, совершается по необходимости, хотя и есть иные, вменяющие эту необходимость лишь совершившемуся. Если взглянуть на эти мнения с некоторым вниманием, ясно будет, что порицать дело, которое уже нельзя изменить, не что иное, как желать показаться мудрее богов, относительно которых нам следует верить, что они вечно разумно и без всякого заблуждения располагают и правят нами и всеми нашими делами. Потому вы легко можете усмотреть, сколь неразумным и глупым высокомерием представляется порицание их действий, и каких, и каковых оков заслуживают те, которые позволяют своей дерзости увлечь себя до этого. По моему мнению, все вы таковы, если правда, что, как я слышал, вы говорили и постоянно говорите по поводу того, что Софрония стала моей женой, тогда как вы отдали ее за Джизиппо, не принимая в соображение, что от века ей было назначено стать женой не Джизиппо, а моей, как теперь обнаружилось на деле. Но так как разговоры о сокровенном провидении и промысле богов кажутся многим трудными и тяжелыми для понимания, то, предположив, что они не вмешиваются ни в какие наши дела, я хочу снизойти к людским решениям, говоря о которых мне придется совершить два деяния, крайне противные моему обыкновению: во-первых, похвалить несколько самого себя, а во-вторых, несколько попрекнуть или унизить других. Но так как ни в том, ни в другом случае я не желаю удаляться от истины и того требует настоящее дело, я так и поступлю.
Ваши сетования, вызванные более гневом, чем разумом, с вечным ропотом и даже криками поносят, язвят и осуждают Джизиппо за то, что он по своему усмотрению отдал мне в жены ту, которую вы по вашему усмотрению отдали ему, тогда как я думаю, что его надо за это много похвалить, и вот по каким причинам: во-первых, за то, что он поступил, как подобает поступить другу, во-вторых, потому, что он поступил разумнее, чем поступили вы. То, что священные законы дружбы требуют, чтобы один друг делал для другого, объяснять это не входит теперь в мое намерение, и я довольствуюсь лишь тем напоминанием, что узы дружбы гораздо сильнее связи кровной или родственной, ибо друзьями мы имеем таких, каких выбрали сами, а родственников, каких дает судьба. Потому если Джизиппо ценил более мою жизнь, чем ваше благоволение, так как я ему друг, каковым я себя считаю, никто не должен тому удивляться.
Но перейдем ко второй причине, по поводу которой мне придется с большей настоятельностью доказать вам, что он был разумнее вас, ибо, мне кажется, вы мало разумеете о промысле богов, еще менее понимаете дела дружбы. Итак, говорю, что по вашему усмотрению, совету и решению Софрония была отдана Джизиппо, юноше-философу, решение Джизиппо отдало ее тоже юноше-философу; по вашему совету она была отдана афинянину, а по совету Джизиппо – римлянину; по вашему – родовитому юноше, а по совету Джизиппо еще более родовитому; по вашему – богатому юноше, а по совету Джизиппо – еще более богатому; по вашему – молодому человеку, не только не любившему, но едва знавшему ее, по совету же Джизиппо – юноше, который любил ее больше всякого своего счастья и своей жизни.
А что все, сказанное мною, правда и более достойно поощрения, нежели то, что сделали вы, это мы разберем в частностях. Что я так же молод и такой же философ, как Джизиппо, это могут засвидетельствовать без долгих разговоров и мое лицо и мои занятия. Мы одного возраста и в занятиях всегда шли равным шагом. Правда, он афинянин, а я римлянин. Если стать спорить о славе городов, я скажу, что я из города свободного, он из города, обязанного данью; скажу, что я из города, властвующего над всем миром, он из города, подвластного моему; скажу, что я из города, цветущего военной славой, властью и ученостью, тогда как свой он сможет похвалить за одну лишь ученость. Кроме того, хотя вы и видите здесь во мне лишь очень скромного ученика, я произошел не из подонков римской черни: мои дома и публичные места Рима наполнены древними изображениями моих предков, и вы найдете, что римские летописи полны многих триумфов, которые Квинции водили на римский Капитолий; слава нашего имени не только не пришла в ветхость, но в настоящее время цветет более, чем когда-либо. Я умолчу из стыдливости о моих богатствах, памятуя, что честная бедность – древнее и богатое наследие благородных граждан Рима и хотя она и осуждается во мнении простых людей и превозносятся сокровища, ими я изобилую не как скупец, а как любимец судьбы.
Я хорошо знаю, что вам было и должно быть приятно породниться здесь с Джизиппо, но нет никакой причины, чтобы вы менее дорожили мною в Риме, приняв во внимание, какого гостеприимного хозяина вы будете иметь там во мне, полезного, заботливого и сильного покровителя как в делах общественных, так и в частных. Итак, кто же, оставив в стороне свое желание и сообразуясь с рассудком, похвалит ваши решения, а не решения моего Джизиппо? Уж, конечно, никто. Стало быть, Софрония достойным образом выдана замуж за Тита Квинция Фульва, родовитого, древнего и богатого гражданина Рима и друга Джизиппо, и потому тот, кто о том горюет и на то жалуется, не поступает, как должно, и не знает того, что делает.
Найдутся, быть может, такие, которые скажут, что они пеняют не на то, что Софрония стала женой Тита, а на способ, каким это сталось, тайно, украдкой, без ведома о том друзей или родичей. Это не чудо и не новость. Я охотно оставлю в стороне тех, которые избирали себе мужей против воли отцов, и тех, которые бежали со своими любовниками, быв любовницами, прежде чем стать женами, и тех, которые обнаружили свой брак беременностью или родами ранее, чем признанием, и тем сделали его необходимым; всего этого не случилось с Софронией, напротив, Джизиппо отдал ее Титу в порядке, скромно и честно.
Иные скажут, что выдал ее замуж, кто не имел на то права. Это глупые, женские жалобы, происходящие от малого разумения. Не в первый раз судьба пользуется различными путями и новыми орудиями, чтобы привести дела к определенным целям. Какое мне дело, если башмачник, а не философ распорядился моим делом по своему разумению, тайно или открыто, если оно окончилось хорошо? Следует остеречься, если башмачник неразумен, чтобы он более не брался за дело, а за сделанное поблагодарить его. Если Джизиппо удачно выдал замуж Софронию, то жаловаться на него и на тот способ, каким он это сделал, излишняя глупость. Если вы не доверяете его разуму, берегитесь, чтобы он более не выдавал замуж других, а на этот раз поблагодарите.
Тем не менее вы должны знать, что я не искал ни хитростью, ни обманом запятнать честь и чистоту вашей крови в лице Софронии, и хотя я тайно взял ее себе в жены, я явился не как вор похитить ее девственность и не как враг желал овладеть ею бесчестно, отказываясь от вашего родства, а как горячо влюбленный в ее чарующую красоту и добродетель, и зная, что если бы я искал ее тем порядком, который вы, быть может, имеете в виду, я не получил бы ее, много любимую вами, из опасения, что я увезу ее в Рим. Итак, я воспользовался тайной сноровкой, которая может быть открыта вам в настоящее время, и побудил Джизиппо согласиться от моего имени на то, к чему сам он не был расположен; затем, хотя я и любил ее горячо, я искал соединения с ней не как любовник, а как муж, приблизившись к ней, как то она сама может поистине свидетельствовать, не прежде, как обручившись с ней, с произнесением обычных слов, кольцом, спросив ее, желает ли она иметь меня своим мужем, на что она отвечала утвердительно. Если ей кажется, что она обманута, то порицать подобает не меня, а ее, не спросившую меня, кто я.
Вот то великое зло, великое прегрешение и великий проступок, содеянный Джизиппо, другом, и мною, любящим, – что Софрония тайно стала супругой Тита Квинция; за это вы его терзаете, угрожаете ему и строите ему ковы! Что бы вы могли учинить ему большее, если бы он отдал ее простолюдину, проходимцу или слуге? Какие цепи, тюрьмы и пытки сочли бы вы достаточными? Но оставим это пока; наступило время, которого я еще не чаял, ибо отец мой умер и мне необходимо вернуться в Рим; вот почему, желая взять с собой Софронию, я открыл вам то, что, быть может, держал бы еще в тайне от вас; если вы разумны, вы перенесете это добродушно, если бы я захотел вас обмануть или оскорбить, то, наглумившись над ней, мог бы покинуть ее; но сохрани Бог, чтобы такая подлость могла когда-либо посетить душу римлянина!
Итак, Софрония – моя и по соизволению богов, и в силу человеческих законов, и по похвальному разумению моего Джизиппо, и по моей любовной хитрости, а вы, считающие себя, быть может, более мудрыми, чем боги и другие люди, все это, как видно, неразумно осуждаете и притом двояким способом, крайне мне неприятным: во-первых, удерживая Софронию, на которую у вас не более прав, чем сколько дозволю я, а во-вторых, относясь к Джизиппо, которому вы по справедливости обязаны, как к врагу. Я не предполагаю в данное время раскрывать вам долее, как глупо вы поступаете во всем этом, но хочу посоветовать вам, как друзьям, оставить ваше негодование, отложить всецело гнев и возвратить мне Софронию, дабы я уехал радостно, как ваш родственник, и остался бы вашим; будьте, однако, уверены, что нравится ли вам то, что сделано, или нет, но если вы думаете поступить иначе, я возьму у вас Джизиппо, и если доберусь до Рима, без сомнения, хотя бы и против вашей воли, верну себе ту, которая моя по праву; а что в состоянии сделать негодование римлян, я, постоянно враждуя с вами, покажу вам то на опыте».
Сказав это, Тит встал с разгневанным лицом и, взяв за руку Джизиппо, показывая, с каким небрежением он относится к тем, кто находился в храме, вышел, покачивая головою и угрожая. Те, что остались в храме, частью увлеченные доводами Тита к мысли о родстве и дружбе с ним, частью испуганные его последними словами, решили с общего согласия, что лучше иметь Тита родственником, так как Джизиппо не захотел быть таковым, чем, утеряв для родства Джизиппо, обрести врага в Тите. Потому, отправившись за Титом и найдя его, они выразили ему свое согласие, чтобы Софрония была его женой, он – их дорогим родственником, а Джизиппо – добрым другом; устроив родственный и дружеский пир, они удалились и отправили ему Софронию, а та, как женщина умная, обратив необходимость в долг, быстро перенесла на Тита ту любовь, которую питала к Джизиппо, и отправилась с ним в Рим, где была принята с большим почетом.
Джизиппо остался в Афинах, будучи почти у всех в малом почете; спустя немного времени, вследствие внутренних распрей со всеми своими родичами, бедный и несчастный, он был выслан из Афин и осужден на вечное изгнание. В таком положении, став не только бедняком, но и нищим, Джизиппо кое-как добрался до Рима, чтобы попытать, вспомнит ли его Тит; узнав, что он жив и уважаем всеми римлянами, проведав, где его дом, он стал насупротив, поджидая, чтобы Тит вышел, не осмеливаясь заговорить с ним в нищем образе, в каком обретался, но рассчитывая показаться ему, дабы, признав его, Тит велел позвать его к себе. Но Тит прошел мимо, а Джизиппо, вообразивший, что он его видел и погнушался им, вспомнив, что он когда-то сделал для него, ушел возмущенный и полный отчаяния.
Была уже ночь, а он голодный и без денег, не зная, куда идти, чая более смерти, чем чего иного, зашел случайно в одно очень пустынное место города, где, увидав большую пещеру, остался в ней заночевать и заснул на голой земле, в рубищах, истощенный долгим гореванием. В эту-то пещеру пришли под утро со своей добычей два человека, совершившие ночью покражу, и когда между ними возникла ссора, один из них, более сильный, убил другого и удалился. Все это Джизиппо видел и слышал, и ему показалось, что, не прибегая к самоубийству, он обрел путь к столь желанной им смерти; потому, не уходя оттуда, он остался, пока служители суда, которые уже узнали о случившемся, не явились туда и, свирепые, не увлекли с собой Джизиппо. Он же при допросе показал, что убил – он и не имел потом возможности уйти из пещеры, почему претор[89 - Претор – представитель высшей судебной власти в Древнем Риме.], по имени Марк Варрон, приказал казнить его на кресте, по тогдашнему обычаю.
Тит случайно пришел в это время в преторию; взглянув в лицо несчастному осужденному и услыхав причину его осуждения, он тотчас же признал Джизиппо, удивился его жалкой судьбе и тому, как он здесь очутился; страстно желая помочь ему и не видя иного пути к его спасению, как обвинив себя и оправдав его, он быстро выдвинулся вперед и закричал: «Марк Варрон, вороти того несчастного человека, которого ты осудил, ибо он невинен. Я уже и одной виной достаточно оскорбил богов, убив того, которого твои служители нашли мертвым сегодня поутру, и не хочу оскорбить их теперь смертью другого невинного».
Изумился Варрон, и ему было неприятно, что вся претория слышала это, но так как он не мог с честью избегнуть исполнения того, чего требовали законы, то и велел вернуть Джизиппо и в присутствии Тита сказал: «Как мог ты быть столь неразумным, чтобы без пытки сознаться в том, чего ты не совершал, когда дело шло о жизни? Ты показал, что это ты ночью убил человека, а вот он теперь приходит и говорит, что не ты, а он убил его».
Джизиппо, взглянув, узнал, что тот, о котором шла речь, был Тит, и отлично понял, что делал он это для его спасения в благодарность за услугу, полученную от него. Потому, растроганный, он сказал, плача: «Варрон, я в самом деле убил его, и сострадание Тита пришло слишком поздно для моего спасения». Тит же говорил со своей стороны: «Претор, ты видишь, это чужестранец, его нашли безоружным возле убитого; знать, его нищета дает ему повод желать смерти, потому освободи его, а меня, как я того заслужил, накажи».
Варрон дивился настоятельным заявлениям их обоих и, уже предполагая, что ни один из них не преступен, помышлял о способе оправдать их, когда вдруг явился юноша, по имени Публий Амбуст, человек потерянный, известный всем римлянам за отъявленного разбойника, который действительно совершил убийство и знал, что ни один из них не был виновен в том, в чем каждый себя обвинял, но их невинность вложила в его душу такое сострадание, что, побуждаемый им, он приблизился к Варрону и сказал: «Претор, моя судьба понуждает меня разрешить трудный спор между этими людьми; я не знаю, какой из богов побуждает и возбуждает меня внутренне объявить тебе мой проступок; потому знай, что ни один из них не виновен в том, в чем каждый обвиняет себя. Я действительно тот, который убил сегодня под утро того человека, а этого несчастного я видел там спящим, пока я делил воровскую добычу с тем, которого умертвил. Тит не нуждается в моем оправдании, его имя слишком известно, чтобы он мог быть способным на такое дело. Итак, освободи его и наложи на меня наказание, требуемое законами».
Октавиян, уже знавший об этом, велел им явиться всем троим, желая услышать, какая причина побуждала каждого желать быть осужденным, что каждый и рассказал, а он тех двоих освободил, как невиновных, а третьего – ради них. Тит взял с собою своего Джизиппо и, попрекнув его порядком за его робость и недоверие, обнаружил живейшую радость и повел его в свой дом, где Софрония, растроганная до слез, приняла его как брата, утешив его несколько и приодев и вновь обставив, как того требовали его доблести и благородство. Тит прежде всего поделил с ним все свои сокровища и имения и затем дал ему в жены свою молоденькую сестру, по имени Фульвию, после чего сказал ему: «Джизиппо! От тебя теперь зависит, захочешь ли ты жить здесь со мною, или пожелаешь вернуться в Ахайю со всем тем, что я дал тебе». Джизиппо, побуждаемый, с одной стороны, изгнанием из своего города, с другой – любовью, которую питал к благодарной дружбе Тита, решился сделаться римлянином. Так он со своей Фульвией, а Тит с Софронией долгое время весело жили одним домом, становясь изо дня в день, если только это было возможно, все большими друзьями.
Итак, дружба – это дело священнейшее, достойное не только собственного почитания, но и вечной похвалы, как мудрая мать – великодушия и честности, сестра – благодарности и милосердия, враг – ненависти и скупости, всегда готовая, не ожидая просьб, проявить для других те действия, какие желали бы, чтобы проявили для нее. Ее священнейшее влияние крайне редко обнаруживается ныне между двумя лицами, к вине и стыду презренного любостяжания смертных, которое, помышляя лишь о собственной пользе, осудило ее на вечное изгнание за самые крайние пределы земли. Какая любовь, какие богатства, какое родство заставили бы отозваться в сердце Джизиппо страсть, слезы и вздохи Тита с такою силою, что он красивую, благородную, любимую им невесту отдал Титу, – если не дружба? Какие законы, какие угрозы, какой страх могли удержать молодые руки Джизиппо в местах уединенных, темных, на собственном ложе от объятий красивой девушки, может быть, и вызывавшей на то порой, – если не дружба? Какие почести, какие награды, какие выгоды заставили бы Джизиппо не заботиться о потере своих родных и родных Софронии, не обращать внимания на оскорбительный ропот черни, пренебрегать издевательствами и насмешками, лишь бы удовлетворить друга, – если не дружба? С другой стороны, что побудило Тита (хотя у него был приличный предлог представиться, что он ничего не видел), рьяно, не колеблясь, искать своей собственной смерти, чтобы спасти Джизиппо от креста, который он сам себе уготовлял, – если не дружба? Что сделало Тита столь великодушным, чтобы разделить без малейшего колебания свое громадное наследие с Джизиппо, у которого судьба отняла его собственное, – если не дружба? Что заставило Тита отдать с готовностью, без всяких сомнений, свою сестру Джизиппо, которого он видел бедняком, дошедшим до крайней нищеты, – коли не дружба? Итак, пусть люди желают себе множества родственников, толпы братьев, большого количества детей, пусть с помощью денег увеличивают количество слуг и пусть не видят, что каждый из них более страшится малейшей опасности и для себя, нежели заботится об устранении больших опасностей отцу или брату, или хозяину, – тогда как друг поступает наоборот.
Новелла девятая
Саладин под видом купца учествован мессером Торелло. Наступает крестовый поход; мессер Торелло дает своей жене срок для выхода замуж. Он взят в плен и становится известным султану своим уменьем ходить за ловчими птицами; тот, признав его и объявив ему, кто он, оказывает ему большие почести. Мессер Торелло заболел и в одну ночь перенесен при помощи волшебства в Павию; во время торжества, которое совершалось по поводу брака его жены, он узнан ею и возвращается с нею к себе домой.
Уже Филомена положила конец своему рассказу, и все единодушно восхваляли великодушную благодарность Тита, когда король, предоставляя последнее слово Дионео, так начал говорить:
– Прелестные дамы, Филомена, рассуждая о дружбе, несомненно, говорит правду и справедливо посетовала в конце своих речей на то, что ныне она столь мало ценится смертными. Если бы мы были здесь с целью исправлять людские недостатки, либо хотя бы за тем, чтобы порицать их, я продолжил бы ее речи подробным рассуждением; но так как наша цель иная, мне взбрело на ум показать вам в несколько длинном, быть может, но все же занимательном рассказе один из великодушных поступков Саладина, дабы, услышав содержание моей новеллы, если б по недостаткам нашим мы и не могли всецело приобрести чьей-либо дружбы, то по крайней мере ощутили бы наслаждение оказать услугу в надежде, что когда бы то ни было за это нам воспоследует награда.
Итак, скажу, что, как утверждают иные, во времена императора Фридриха Первого христиане устроили всеобщий поход для освобождения святой земли. Услышав о том несколько ранее, Саладин, мужественнейший государь и тогда султан Вавилонии, вознамерился лично посмотреть на снаряжения к этому походу христианских властителей, чтобы лучше успеть приготовиться. Приведя в порядок все свои дела в Египте и делая вид, что собрался в паломничество, он отправился в путь переодетый купцом, взяв с собой только двух главных и самых умных придворных и трех служителей. Он уже проехал многие христианские области и путешествовал по Ломбардии, чтобы перебраться через горы, когда им случилось, на пути между Миланом и Павией, уже вечером повстречать одного дворянина, по имени мессер Торелло д’Истрия, из Павии, который со своими слугами, собаками и соколами ехал в свое прекрасное поместье, находившееся на Тессино, чтобы там пожить. Когда мессер Торелло увидел их, то понял, что они – знатные люди и чужестранцы, и пожелал учествовать их. Потому, когда Саладин спросил у одного из его служителей, сколько еще осталось до Павии и успеет ли он войти в нее, Торелло не дал ответить слуге, а ответил сам: «Господа, вы не успеете добраться до Павии вовремя, чтобы вам можно было вступить в нее». – «В таком случае, – сказал Саладин, – будьте любезны указать нам, так как мы чужестранцы, где бы нам лучше пристать». Мессер Торелло ответил: «Это я сделаю охотно. Я только что хотел отправить одного из моих людей по соседству с Павией по кое-какому делу; я пошлю его с вами, и он отведет вас в такое место, где вы очень удобно пристанете на ночь». Приблизившись к самому сметливому из своих слуг, он наказал ему все, что тому следовало сделать, и отправил его с ними, а сам, поспешив в свое поместье, велел приготовить, как мог лучше, прекрасный ужин и накрыть столы в своем саду; когда все было готово, он вышел к воротам поджидать гостей.
Слуга, рассуждая со знатными людьми о всякой всячине, провел их разными окольными путями в поместье своего господина, так что они того не заметили. Лишь только мессер Торелло увидел их, как вышел им навстречу и сказал, смеясь: «Добро пожаловать, господа!» Саладин, будучи очень проницательным, понял, что рыцарь опасался, что они не примут приглашения, если он пригласит их при встрече, потому и привел их к себе в дом хитростью, дабы они не могли отказать ему провесть с ним вечер; ответив на его приветствие, он сказал: «Мессере, если бы можно было сетовать на учтивых людей, мы посетовали бы на вас, принудившего нас (не говоря о том, что вы замедлили наш путь), ничем не заслуживших вашего расположения, разве одним поклоном, принять столь высокое одолжение, каково ваше». Рыцарь, умный и речистый, отвечал: «Господа, внимание, которое я оказываю вам, будет ничтожно в сравнении с тем, какое, судя по вашему виду, вам подобает, но, в самом деле, вне Павии вы не могли бы пристать ни в одном месте, которое было бы удобно; потому не посетуйте, если вы несколько свернули с пути, дабы у вас было немного менее неудобств».
Пока он говорил, слуги подошли к ним и, когда те слезли с лошадей, приняли и поставили их, а мессер Торелло повел трех знатных мужей в комнаты, для них приготовленные, где приказал их разуть, подать им освежиться тонкими винами и в приятной беседе продержал их до часа, когда можно было и ужинать. Саладин, его спутники и все слуги знали латинский язык, почему они все очень хорошо понимали и их разумели, и каждому из них казалось, что рыцарь – самый приятный, самый учтивый и красноречивый из всех, кого они до тех пор видели, а мессеру Торелло представлялось, со своей стороны, что то были более именитые и важные люди, чем он предполагал ранее, почему он внутренне горевал, что не может учествовать их в этот вечер большим пиром и обществом; он и задумал вознаградить их на следующее утро. Наставив одного из своих слуг относительно того, что он затеял сделать, он послал его к своей жене, женщине умнейшей и великодушной, в Павию, которая была совсем вблизи и где ни одни ворота не запирались; после того, проводив именитых людей в сад, он вежливо спросил их, кто они, на что Саладин ответил: «Мы кипрские купцы, прибыли из Кипра и по нашим делам отправляемся в Париж». Тогда мессер Торелло сказал: «Да будет угодно Богу, чтобы наша страна производила таких же родовитых людей, каких, видно, Кипр производит купцов». Пока разговор переходил от одного предмета к другому, наступило время ужина, почему он пригласил их пожаловать к столу, и, хотя ужин был не предусмотрен, их угостили очень хорошо и в большом порядке. Не прошло много времени, как убрали со стола, а мессер Торелло, заметив их усталость, уложил их отдохнуть в великолепные постели, да и сам вскоре за тем пошел спать.