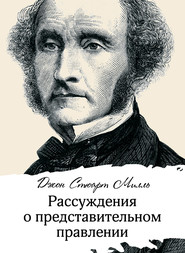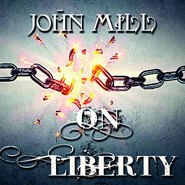По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
О свободе
Автор
Год написания книги
1859
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Все исчисленные нами влияния, враждебные индивидуальности, составляют в совокупности силу столь могучую, что нелегко сказать, каким образом индивидуальность может отстоять себя, и угрожающая ей опасность будет, без сомнения, все более и более расти, если только разумная часть общества сама не сознает наконец, что индивидуальность имеет высокую цену, – что разнообразие во всяком случае есть благо, если бы даже оно состояло в отступлении от общепринятого не только к лучшему, но и к худшему. Теперь, пока еще общая ассимиляция не совсем совершилась, – теперь более, чем когда-либо, своевременно заявить право индивидуальности; надо стараться остановить посягательство, пока еще оно не совершилось, а после будет поздно. Общее стремление подвести всех людей под один тип с каждым днем все более и более растет, и если мы раз допустим, что все живое будет подведено под один однообразный тип, тогда уже будет поздно сопротивляться, тогда всякое отступление от общего типа сделается нечестием, безнравственностью, чудовищностью, противоестественностью. Если люди не будут иметь разнообразия перед глазами, то они скоро утратят и самую способность к разнообразию.
Глава IV. О пределах власти общества над индивидуумом
Где тот предел, до которого должно простираться самодержавие индивидуума? Где должна начинаться власть общества? Какая часть индивидуальной жизни должна составлять полное достояние индивидуальности, и какая должна подлежать ведению общества?
И индивидуум, и общество, не переступят должных пределов, если будут простирать свою власть только на то, что их ближе касается. Та часть человеческой жизни, которая касается главным образом индивидуума, должна составлять достояние индивидуальности, а та, которая касается главным образом общества, должна подлежать ведению общества.
Хотя общество и не основано на контракте и вся эта контрактная гипотеза, придуманная для объяснения социальных обязанностей, совершенно бесполезна, но тем не менее каждый, пользующийся покровительством общества, обязан за это вознаграждением, и самый уже тот факт, что индивидуум живет в обществе, делает для него неизбежным существование обязанности исполнять известные правила поведения по отношению к другим людям. Эти правила состоят, во-первых, в том, чтобы не нарушать интересов других людей, или, правильнее сказать, тех их интересов, которые положительный или подразумеваемый закон признает за ними, как право; а, во-вторых, они состоят в том, что каждый должен выполнять приходящуюся на его долю часть (что должно быть определено на каком-либо справедливом основании) трудов и жертв, необходимых для защиты общества или его членов от вреда и обид. Общество имеет полное право принудить к выполнению этих обязанностей, если бы кто-либо вознамерился от них освободиться. Но не в этом только заключается власть общества над индивидуумом. Действия индивидуума, и не нарушая никаких установленных прав, могут вредить интересам других людей или могут не принимать их в должное внимание: хотя индивидуум в этом случае и не подлежит легальной каре, но справедливо может быть наказан карою общественного мнения. Как скоро поступок человека вредит интересам других людей, то общество, без сомнения, имеет право вмешаться, и здесь может возникнуть только вопрос о том, вмешательство общества в данной случае будет ли полезно для общего блага или вредно. Но никакого подобного вопроса о пользе или вреде общественного вмешательства и не может быть в том случае, когда действия индивидуума не касаются ничьих интересов, кроме его собственных, или касаются только интересов тех людей, которые сами того желают (при этом подразумевается конечно, что люди эти находятся в совершенном возрасте и полном обладании своих способностей). Во всех такого рода случаях индивидууму должна быть предоставлена полная свобода, и легальная, и социальная, действовать по своему усмотрению на свой риск.
Заключить из сказанного нами, что будто мы возводим в доктрину эгоистическую индифферентность, что будто мы признаем, что индивидууму нет никакого дела до того, как живут другие индидуумы, или что вообще поступки и благосостояние других людей касаются его только в той степени, насколько замешаны в это его личные интересы, – делать такое заключение значило бы обнаружить крайнее непонимание того, что мы говорим. Не ослабления, а напротив, усиления в индивидууме самоотверженного стремления к благу других, – вот чего хочет излагаемая нами доктрина; но при этом она признает, что не кнут и плеть (понимая это и в буквальном, и в метафорическом смысле), а другие средства должны избирать благодетели для убеждения своих ближних в том, что есть благо. Я не менее, чем кто-либо, высоко ценю личные добродетели, я утверждаю только, что по сравнению с социальными добродетелями они стоят на втором месте, если только еще не ниже. Воспитание должно иметь одинаково своей целью как социальные, так и личные добродетели. Оно обыкновенно действует столько же и насилием, сколько и убеждением; но с окончанием периода воспитания личные добродетели должны быть внушаемы индивидууму не иначе, как посредством убеждения. Люди должны помогать друг другу различать хорошее от дурного, должны поощрять друг друга предпочитать хорошее дурному и избегать дурного; они должны возбуждать друг друга к упражнению высших способностей, поддерживать один в другом те чувства и те стремления, которые имеют своим предметом умное и высокое, а не то, что глупо или что унижает человека. Но никто, будет ли этот никто один человек или какое бы то ни было число людей, не вправе препятствовать кому бы то ни было (разумеется, достигшему зрелого возраста) распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению. Благосостояние каждого индивидуума ближе всего касается его самого; тот интерес, который оно может возбуждать в других людях, ничтожен (за исключением случаев сильной личной привязанности) по сравнению с тем интересом, который оно возбуждает в нем самом; общество же имеет интерес в благосостоянии индивидуума (исключая его отношения к другим людям) только отчасти и притом косвенно. Каждый, самый даже обыкновенный человек, как мужчина, так и женщина, имеет несравненно более сильные средства, чем кто-либо, к познанию того, что для него есть благо. Вмешательство общества в те суждения и стремления индивидуума, которые касаются только его лично, необходимо должно основываться на каких-нибудь общих предположениях; но предположения эти могут быть совершенно ошибочны, а если не ошибочны, то они легко могут быть применены совершенно не кстати в таких случаях, к которым совершенно непригодны, так как самое применение их должно производиться людьми, знающими обстоятельства данного случая только поверхностно, снаружи. Эта часть человеческой жизни есть сфера индивидуальности. В отношениях своих к другим людям необходимо, чтобы индивидуум соблюдал в большей части случаев известные общие правила, дабы каждый знал, чего может ожидать от других; но в том, что касается его самого лично, индивидуум должен быть вполне самодержавен. Можно представлять ему разные соображения и доводы, для того чтобы направить так или иначе его суждение, можно увещевать его, чтобы дать то или другое направление его воле, все что можно делать, если бы даже он этого и не желал, но он во всяком случае есть высший судья того, что и как ему делать, и если он поступит вопреки всем советам и предостережениям и через это сделает сам себе вред, то этот вред далеко не может быть так велик, как велико было бы то зло, если бы он насильно принужден был поступить так, как другие признают для него благом.
Я вовсе не думаю утверждать, чтобы чувства к индивидууму других людей должны были быть совершенно независимы от личных достоинств или недостатков индивидуума. Это и невозможно, и нежелательно. Чем в высшей степени индивидуум обладает теми качествами, которые ведут к счастью, тем большее уважение внушает он к себе другим людям, тем больше приближается он к идеальному совершенству. И наоборот: если он обладает в значительной степени качествами отрицательными, то внушает к себе не уважение, а чувство, совершенно противоположное уважению. Есть известная ступень глупости, или, если можно так выразиться (хотя это выражение будет и не совсем правильно), известная степень подлости или извращения вкуса, которая хотя и не может, конечно, служить основанием для дурного обхождения с индивидуумом, но необходимо и весьма естественно внушает к нему отвращение, а в крайних случаях даже и презрение; не может это не возбуждать к себе подобных чувств в том человеке, который имеет в значительной степени качества, противоположные этим недостаткам. Даже и не причиняя никому зла, индивидуум может своими поступками сделать то, что другие люди будут смотреть на него, как на дурака или вообще как на существо низшего порядка, и будут питать к нему соответствующие этому чувства, и так как для индивидуума, конечно, не может быть желательно, чтобы о нем имели такое мнение, чтобы к нему питали подобные чувства, то предостерегая его от этого, мы окажем ему услугу, как и вообще предостерегая от всякого рода неприятных последствий, какие могут иметь для него его поступки. Весьма было бы желательно, чтобы для оказания друг другу подобного рода услуг не существовало тех преград, какие ставят этому господствующие в наше время понятия о вежливости, – чтобы люди могли честно указывать друг другу то, что считают ошибкой, не подвергая себя упреку в грубости или в самонадеянности. Мы имеем, конечно, полное право руководствоваться в поступках по отношению к известному индивидууму нашим дурным мнением о нем, – но только никак не в ущерб его индивидуальности, а не более как в пределах нашей собственной индивидуальной свободы. Так, например, мы не обязаны искать его общества, мы имеем право избегать его (но не высказывать этого явно), потому что имеем полное право избирать для себя то общество, которое нам более нравится. Мы имеем право, а может быть даже и обязанность, предостерегать от него других людей, если находим, что его пример или его разговор могут иметь дурное влияние. Во всем, в чем имеем право свободного выбора, мы можем оказывать предпочтение перед ним другим людям, с тем ограничением, впрочем, если это предпочтение не воздерживает нас от таких действий по отношению к нему, которые вели бы к его улучшению. Таким образом индивидуум может подвергаться весьма различным и весьма строгим карам от других людей за такие недостатки, которые непосредственно касаются только его самого; но он терпит эти кары только в той степени, в какой они непосредственно истекают из самих его недостатков, и подвергается им потому, что они составляют неизбежное, так сказать, естественное последствие его недостатков, а не потому, чтобы намеренно налагались на него, как наказание. Человек, который обнаруживает самонадеянность, упрямство, самодовольство, который не умеет довольствоваться умеренными средствами, не может воздержаться от вредных слабостей, предается чувственным наслаждениям в ущерб наслаждениям сердца и ума, – такой человек должен ожидать, что невысоко будет стоять во мнении других людей и не возбудит к себе большого расположения, и всякий ропот с его стороны будет совершенно неоснователен, если только не заслуживает он расположения людей какими-нибудь высокими социальными достоинствами и проявлению их не препятствуют те его личные недостоинства, которые касаются только его самого.
Я утверждаю, что все те поступки и все те качества индивидуума, которые касаются только его личные блага и не касаются блага других, – что все эти поступки и качества не могут служить основанием для других людей к каким-либо иным неблагоприятным к нему отношениям, кроме тех, которые, так сказать, естественно истекают из их дурного о нем мнения. Совершенно другое должны мы сказать о тех поступках индивидуума, которые вредны другим людям. Когда индивидуум посягает на нрава других людей, – наносит им вред или ущерб, не имея на то никакого права – обманывает их, действует двулично, – нечестно, или невеликодушно пользуется своими преимуществами перед другими людьми, – имея возможность устранить какое-нибудь зло, не делает этого из эгоизма, – все это такие поступки, которые заслуживают нравственного осуждения, а в важных случаях даже и нравственного возмездия и наказания. И не только сами эти поступки, но и те наклонности, которые располагают к совершению их, собственно говоря, безнравственны, заслуживают осуждения и могут даже внушить омерзение к индивидууму. Жестокосердие, злонамеренность, злонравие, зависть – самая антисоциальная и самая гнусная из всех страстей, скрытность и неискренность, раздражительность без достаточного основания, мстительность, не соответствующая причиненному злу, страсть господствовать над другими, желание захватить себе большую долю благ, чем какая следует, гордость греков, находящая удовольствие в унижении других, эгоизм, который себя и свои личные интересы ставит выше всего и все сомнительные вопросы решает в пользу своих интересов, – все это суть нравственные пороки, которые образуют дурной, ненавистный нравственный характер. Но те недостатки, касающиеся только самого индивидуума, о которых мы говорили выше, нельзя собственно назвать нравственными пороками, и как бы они ни были велики, они еще не делают человека дурным, не делают его достойным нравственного осуждения; они могут свидетельствовать о глупости индивидуума, об отсутствии в нем чувства собственного достоинства и самоуважения, но в таком только случае могут справедливо навлечь на него нравственное осуждение, если доводят его до забвения своих обязанностей к тем, по отношению к которым он обязан заботиться о себе. То, что называют обязанностью человека к самому себе, не имеет никакой социальной обязанности, если только по каким-либо обстоятельствам не становится в то же время и обязанностью к другим. Это выражение «обязанности к самому себе» означает обыкновенно не что иное, как только благоразумие, и во всяком случае никак не более, как самоуважение или саморазвитие; но во всем этом индивидуум не обязан никому никаким отчетом, потому что благо человечества не требует, чтобы он подлежал в этом отношении какой-либо отчетности.
Различие между потерей уважения, которой индивидуум может справедливо подвергнуться по причине своего неблагоразумия или по причине отсутствия личного достоинства, и между тем осуждением, которое он заслуживает, нарушая права других людей, – различие это не есть только номинальное. Наши чувства и наши отношения к индивидууму совершенно различны, смотря по тому, возбуждает ли он наше неудовольствие в таких предметах, которые мы считаем подлежащими нашему контролю, или же в таких, которые нашему контролю не подлежат. Если он нам не нравится, мы можем выразить свою антипатию к нему, можем держаться в стороне от него, как и вообще от всего, что нам не нравится, но это не дает нам права причинять ему за это какое-нибудь зло. Мы должны иметь в виду, что он и без того уже несет всю должную кару за свое заблуждение, или, во всяком случае, не избежит этой кары, и если он сам портит себе жизнь своими неблагоразумными поступками, то это не может служить основанием, чтоб мы портили ему жизнь еще более. Нас должно одушевлять в таком случае не желание наказать его, а скорее желание облегчить ему навлеченное им на себя наказание, указать ему, как может он от него избавиться или как может он избежать того зла, которое он навлек на себя своим поведением. Он может быть для нас предметом сострадания, даже отвращения, но никак не предметом злобы или мщения, – мы не вправе относиться к нему, как к врагу общества, и если мы не принимаем в нем особенного участия, не чувствуем к нему особенного расположения, то самое дурное, на что мы имеем право по отношению к нему, это – предоставить его самому себе. Но если индивидуум нарушает правила, соблюдение которых необходимо для индивидуального или коллективного блага других людей, если вредные последствия его поступков падают не на него только, но и на других, то в таком случае общество, как покровитель всех своих членов, должно сделать ему за это возмездие, должно подвергнуть его каре именно с той целью, чтоб наказать его, и притом такой каре, которая была бы достаточно строга, соответственна его вине. В этом случае индивидуум предстоит перед нашим судом, как виновный, – мы вправе не только произнести над ним суждение, но и вправе исполнить над ним наш приговор; в первом случае мы не вправе подвергнуть его какой-либо другой каре, кроме той, которая сама собой истекает из пользования нами такой же индивидуальной свободой, какую мы признаем и за ним.
Сделанное нами различие между той частью человеческой жизни, которая касается только самого индивидуума, и той, которая касается других людей, встретит, без сомнения, много противников. Нам могут возразить, что ни в каком случае поступки индивидуума не могут не касаться в большей или меньшей степени других индивидуумов, которые живут с ним в одном обществе, – что индивидуум ни в каком случае не может быть совершенно уединен от других людей, и если он делает себе зло, то это не может не причинять большего или меньшего вреда по крайней мере тем людям, которые к нему особенно близки, а даже нередко и тем, которые не находятся с ним ни в каких близких отношениях. Если он дурно распоряжается своим имуществом, то это делает вред тем, для которых его имущество прямо или косвенно давало средство к существованию, и во всяком случае это уменьшает в большей или меньшей степени общую сумму богатства, находящегося в обществе. Если он действует ко вреду своих физических или умственных способностей, то это не только причиняет вред всем тем, которых благо более или менее от него зависит, но кроме того, он сам может сделаться вследствие этого неспособным к тем услугам, которые обязан оказывать своим ближним, и может даже сделаться тяжестью для тех, кто его любит или кто к нему расположен, и если таких индивидуумов в обществе будет много, то едва ли что-нибудь может причинить общей сумме блага больший ущерб, чем это. Наконец, если индивидуум своими пороками или своим неблагоразумением и не делает прямо вреда другим людям, то он вредит уже тем, что подает дурной пример, и потому может справедливо быть принужден к воздержанию себя от таких поступков, которые могут совратить других с истинного пути или ввести в заблуждение.
И даже – могут прибавить мои противники – если бы последствия неблагоразумных поступков и не касались никого, кроме того порочного и неблагоразумного индивидуума, который их совершает, то и в таком случае общество не должно дозволять этому индивидууму свободно распоряжаться своими действиями, так как он очевидно оказывается к этому неспособным. Ведь никто не станет оспаривать, что дети и малолетние должны быть охраняемы от вреда, какой могут сделать сами себе, – не такая ли же обязанность лежит и на обществе по отношению к тем людям, которые хотя и достигли зрелого возраста, но также как дети и малолетние не способны к самоуправлению. Если страсть к игре, пьянство, невоздержанность, праздность, неопрятность не менее вредны для блага, составляют не меньшее препятствие к усовершествованию, как и многие, или как большая часть тех действий, которые запрещаются законом, то почему же – могут спросить наши противники – не мог бы закон преследовать и эти пороки, насколько это практически возможно и насколько это примиримо с другими требованиями общественной жизни? и почему бы в помощь закону, который не может избежать несовершенства, – почему бы ему в помощь не могло общественное мнение организоваться в могущественную полицию для преследования этих пороков и подвергать строгим социальным карам тех, кто оказывается в них виновным? Здесь идет вопрос не о том – могут они сказать – чтобы стеснить индивидуальность или воспрепятствовать испытанию каких-либо новых, оригинальных идей, а о том, чтобы предупредить совершение таких вещей, которые давно уже испытаны и давно уже осуждены самым опытом, которые уже на опыте оказались неполезными или непригодными ни для какой индивидуальности; мы знаем, что правила нравственности или благоразумия требуют для своей выработки значительного времени и значительной суммы опытов, и желаем только, чтобы новые поколения предохранялись от тех ошибок, которые были бедственны предшествовавшим поколениям.
Я совершенно согласен с тем, что зло, которое человек делает сам себе, может в значительной степени оскорблять чувства и интересы тех, которые к нему близки, и даже, хотя и в меньшей степени, чувства и интересы всего общества; но дело в том, что если человек своим поведением нарушает свои обязанности по отношению к другим индивидуумам или ко многим другим людям, то в таком случае его поступки не принадлежат уже к числу тех, которые касаются только его самого, и он подлежит за них нравственному осуждению в полном смысле этого слова. Если, например, человек по причине своей невоздержанности или расточительности не может платить долгов, или, будучи нравственно обязан заботиться о своем семействе, не может вследствие этого содержать или воспитывать членов своей семьи, то он, конечно, заслуживает осуждения и может быть справедливо подвергнут наказанию, но только никак не за невоздержанность или расточительность, а за неисполнение своей обязанности к семейству или к кредиторам; его нравственная вина была бы и не более, и не менее, если бы он и не расточал те средства, которые должен был употребить на уплату долгов или на содержание семейства, а обратил бы на самое выгодное предприятие. Барнуэль убил своего дядю, чтобы иметь деньги для своей любовницы, и за это его повесили; но если бы он убил дядю не для того, чтобы иметь деньги для любовницы, а чтобы устроить свои дела, то все равно был бы повешен. Часто случается, что человек причиняет огорчения своему семейству дурными своими привычками, и в этом случае он, конечно, заслуживает порицания за свою нечувствительность или неблагодарность; но он в такой же степени подлежал бы порицанию и в том случае, если бы предавался и таким привычкам, которые сами по себе не имеют ничего порочного, но огорчают тех, которые с ним вместе живут, или которые счастье от него зависит. Кто не соблюдает должного уважения к чувствам или интересам других людей, не будучи на то вынужден требованиями какого-либо высшего долга, или не имея для своего оправдания удовлетворение каких-либо законных личных стремлений, тот справедливо подлежит нравственному осуждению, но только за оказанное им неуважение, и никак не за те причины или за те убеждения, касающиеся только его лично, которые могли привести его к этому. Точно также если, вследствие эгоистического образа жизни, человек становится неспособен исполнять какую-либо обязанность, лежащую на нем по отношению к обществу, то он виновен перед обществом. Нельзя наказывать человека за то только, что он пьян: но следует наказать солдата или полицейского служителя, если он будет пьян при исполнении своей службы. Одним словом, все, что причиняет прямой вред индивидууму или обществу, или заключает в себе прямую опасность вреда для них, все это должно быть взято из сферы индивидуальной свободы и должно быть отнесено к сфере нравственности или закона.
Что же касается до тех действий индивидуума, которыми он не нарушает какой-либо определенной обязанности своей к обществу, и которые, будучи вредны только для него самого, не наносят прямо видимого вреда тому или другому индивидууму, то такие действия, если и могут причинять зло обществу, то зло только случайное, или, если можно так выразиться, истолковательное, и общество должно переносить это зло ради сохранения другого высшего блага, ради сохранения индивидуальной свободы. Если уже взрослые люди должны быть подвергаемы наказанию за то, что не заботятся о себе надлежащим образом, то скорее ради их собственного блага, а никак не на том основании, чтоб удержать их от порчи тех их способностей, которые им необходимы, чтоб приносить обществу ту пользу, требовать которую само общество не считает себя имеющим право. Я никак не могу признать, чтобы общество имело право в этом случае наказывать: как будто для того, чтоб возвысить даже самых слабых своих членов до обиходной рациональности в поступках, оно не имеет другого средства, как выжидать, пока они совершат какой-либо нерациональный поступок, и наказывать их за это легальной или нравственной карой. Общество имеет абсолютную власть над индивидуумом во весь период его детства и малолетства, чтобы сделать его способным к рациональности в поступках. Настоящее поколение есть полный хозяин как по воспитанию, так и вообще по устройству всей судьбы грядущего поколения, и хотя оно не может, конечно, сделать его совершенством мудрости и доброты, так как само терпит крайний недостаток и в том, и в другом, и хотя самые лучшие его стремления в этом отношении не всегда бывают в частных случаях и самые удачные, но оно имеет совершенно достаточные силы на то, чтобы сделать новое поколение столь же хорошим, как и оно само, или даже несколько лучшим. Если общество допустило, чтобы значительное число его членом дожило до зрелого возраста, оставаясь в детском состоянии, не приобретя способности руководствоваться в своих поступках рациональными соображениями, которые бы основывались не только на непосредственных, но и на более или менее отдаленных мотивах, то в таком случае общество само и виновато в последствиях этого. Оно вооружено не только всеми могущественными средствами воспитания, но и тем могущественным влиянием, какое обыкновенно имеет авторитет общепринятого мнения на умы тех, которые малоспособны иметь свои собственные мнения; кроме того, ему содействуют и те естественные кары, неизбежно падающие на каждого, кто своим поведением возбудит к себе отвращение или презрение в том, кто его знает, – и неужели же при всем этом общество может еще претендовать на необходимость для него существования такой власти, которая бы отдавала приказания и принуждала индивидуума к повиновению в том, что касается только его самого и что по всем правилам справедливости и здравой политики должно быть безраздельно предоставлено его индивидуальному решению, так как он несет на себе последствия этого решения. Ничто так не роняет кредит и не ослабляет силу имеющихся хороших средств для влияния на поступки людей, как когда прибегают для этого к дурным средствам. Если между теми людьми, которых намереваются насильственным образом принуждать к благоразумию или воздержанию, найдутся люди с такими задатками, из которых образуются сильные и независимые характеры, то неизбежно, что эти люди восстанут против такого насилия, потому что никогда не примирятся они с тем, чтобы, подобно тому как их контролируют в действиях, касающихся других людей, мог бы также кто-либо их контролировать и в том, что касается только их самих. Такое насилие имеет обыкновенно своим последствием то, что люди начинают считать за признак ума и мужества, когда кто-либо идет прямо наперекор власти и делает именно противное тому, что требует власть. Подобный пример представляет нам век Карла II, когда доходившая до фанатизма нравственная нетерпимость пуритан вызвала моду на грубость нравов. Что же касается до того возражения, что будто для общества необходимо оберегать своих членов от тех дурных примеров, какие могут им подавать порочные и распущенные люди, то я совершенно согласен с тем, что дурной пример может иметь вредное влияние, особенно же когда этот пример состоит в том, что делается зло людям и сделавший зло остается без наказания; но здесь идет дело не о таком поведении индивидуума, которое причиняет зло людям, а о таком, которое причиняет зло только ему самому, и я не вижу никакой возможности не согласиться с тем, что пример такого поведения должен иметь вообще скорее благодетельное, чем вредное действие, потому что в таком случае всегда, или по большей части, вместе с дурным поступком пример представляет и тяжелые или унизительные от него последствия для того, кто его совершил.
Но самый сильный аргумент против общественного вмешательства в сферу индивидуальности состоит в том, что такое вмешательство оказывается в большей части случаев вредным, обыкновенно совершается некстати и невпопад. Когда идет дело об общественной нравственности, или об обязанности, лежащей на индивидууме по отношению к другим людям, то в этих случаях общественное мнение, т. е. мнение господствующего большинства, хотя и бывает часто ошибочно, но имеет по крайней мере шансы быть правильным, потому что тут люди судят не о чем ином, как только о своих собственных интересах, – о том, какое влияние может иметь на их интересы, если будет дозволен индивидууму тот или другой образ действия. Но когда идет дело о таких поступках индивидуума, которые касаются только его самого, то мнение большинства, налагаемое как закон на меньшинство, имеет столько же шансов быть ошибочным, как и быть правильным; оно в таких случаях не более как мнение одних о том, что хорошо или дурно для других, а часто даже и менее, чем это, и публика руководствуется в своем суждении единственно своими собственными наклонностями, относясь с совершенным равнодушием к благу или удобству тех, чьи поступки судит. Есть много людей, которые чувствуют себя оскобленными в своих чувствах, считают для себя обидой, когда кто-либо совершает такой поступок, к которому они имеют отвращение; так один религиозный изувер на упрек, что не уважает в других религиозного чувства, ответил, что напротив, другие не уважают в нем его чувства, потому что упорствуют в своих заблуждениях. Но между чувством, которое имеет человек к своему собственному мнению, и тем чувством к этому мнению другого человека, который чувствует себя оскорбленным, между двумя этими чувствами такое же отношение, как между желанием вора взять у меня мой кошелек, и моим желанием сохранить его. Вкус человека есть его личное достояние в такой же степени, как и его мнение или его кошелек. Нетрудно представить себе в воображении такую идеальную публику, которая предоставляет каждому индивидууму полную свободу действовать по своему усмотрению во всех тех случаях, которые представляют какое-нибудь сомнение, как лучше поступать, и требует только воздержания от таких поступков, которые уже осуждены всемирным опытом; но существовала ли когда-нибудь подобная публика, которая ограничивала бы таким образом свое вмешательство? и была ли когда-нибудь такая публика, которая заботилась бы о том, что говорит всемирный опыт? Вмешиваясь в индивидуальную сферу, она обыкновенно не о чем ином и не думает, как только о чудовищности такого явления, что среди ее есть люди, которые действуют и чувствуют не так, как она; и этот критериум, едва прикрытый, предъявляют человечеству, как требование религии или философии, девять десятых пишущей братии, и моралисты, и философы. Они проповедуют нам, что такие-то вещи справедливы, потому что они справедливы, потому что мы чувствуем, что они справедливы; они учат нас, что мы должны искать в нашем собственном уме и в нашем сердце законы поведения, обязательные как для нас самих, так и для всех других людей. И что же делать бедной публике, как не применять к делу такие наставления, и если только в ней существует единодушие в степени сколько-нибудь значительной, то как же не возводить ей свои личные чувства в критерий добра и зла и не признавать их обязательными для всего мира?
Зло, о котором идет речь, не из тех зол, которые существуют только в теории, и читатель, может быть, ожидает, что я представлю примеры тому, как английская публика нашего времени возводит свои наклонности в нравственные законы. Я пишу трактат не о нравственных заблуждениях нашего времени, – это предмет слишком важный, чтоб о нем можно было говорить мимоходом, в виде пояснительных примеров. Тем не менее необходимо привести примеры, чтобы показать, что высказанный мною принцип имеет в наше время серьезное и практическое значение, и что я вооружаюсь против действительного, а не против воображаемого зла. Нетрудно доказать множеством примеров, что расширение пределов того, что можно назвать полицией нравов, составляет одну из самых всеобщих человеческих наклонностей, и что это расширение простирается до того, что захватывает даже самую бесспорную сферу индивидуальной свободы.
Я укажу прежде всего на те антипатии между людьми, которые проистекают единственно из того, что, будучи различных религиозных верований, люди исполняют неодинаковые религиозные обряды, и в особенности из того, что у них неодинаковая религиозная дисциплина. Припомните этот несколько уже избитый факт, что при всем различии и в догматах, и в обрядах ничем христианин не возбуждает в себе столь сильной ненависти со стороны магометанина, как тем, что ест свинину. Мало найдем мы примеров, чтобы что-нибудь внушало христианину или европейцу более сильное отвращение, чем какое чувствует магометанин к этому способу утолять голод. Причина этого отвращения заключается не в том, что есть свинину запрещено магометанской религией: вино также запрещается этой религией и мусульманин осуждает употребление вина, а между тем оно не возбуждает в нем отвращение. Омерзение, какое магометанин чувствует к мясу «нечистого животного», представляет ту особенность, что оно имеет совершенно характер инстинктивной антипатии; дело в том, что мысль о нечистоте, раз овладев чувствами человека, способна, по-видимому, возбуждать самое сильное омерзение к тому, что считается нечистым, даже в тех людях, которые сами вовсе не отличаются особенной чистотой. Замечательный пример подобного чувства, истекающего из представлений о религиозной нечистоте, находим мы также у индусов. Предположим теперь, что существует такой народ, которого большинство состоит из магометан, и что это большинство никому не дозволяет есть свинину. Для магометанских стран такой факт не есть что-либо небывалое.[8 - Бомбейские парсы (потомки персов-огнепоклонников) представляют в этом отношении весьма любопытный пример. Когда это трудолюбивое и предприимчивое племя бежало со своей родины от калифов и переселилось в Западную Индию, индийские владетели дозволили ему спокойно жить по его вере, но только с условием не есть говядины. Когда потом эти страны подпали под власть магометан, парсы продолжали пользоваться прежней веротерпимостью, но только с новым ограничением: не есть свинины. То, что сначала было простым исполнением приказаний власти, впоследствии обратилось во вторую натуру, и персы до сих не едят ни говядины, ни свинины; хотя религия их вовсе не требует такого воздержания, но оно вошло у них в обычай, а обычай на Востоке и есть религия.] Должны ли мы признать, что такое действие со стороны большинства будет законным пользованием той нравственной властью, какая должна принадлежать общественному мнению, а если нет, то почему? Употребление в пищу свинины на самом деле представляется большинству делом в высшей степени гнусным и большинство возмущается этим совершенно искренно, – оно совершенно искренно верит, что есть свинину запрещено Богом, что это противно Богу. На каком же основании можем мы в этом случае признать незаконным вмешательство общественного мнения? Здесь нет религиозного преследования, потому что хотя запрещение употреблять в пищу свиное мясо и имеет своим источником религию, но ведь нет такой религии, которая бы ставила кому-нибудь в обязанность есть свинину. Очевидно, что для осуждения подобных действий со стороны общества нет другого основания, кроме того, что общество не имеет права вмешиваться в то, что есть дело личного вкуса и касается только самого действующего.
Приведем другие примеры, более к нам близкие. Большинство испанцев признает величайшим нечестием, в высшей степени оскорбительным для Бога, если богослужение совершается на какой-либо другой манер, а не на римско-католический, и законы Испании не дозволяют никакого другого общественного богослужения, кроме римско-католического. Народы южной Европы не только признают брак духовным делом, противным религии, но смотрят на него, как на соблазн, как на бесстыдство, – брачное духовенство составляет для них предмет омерзения. Что могут сказать протестанты против этих совершенно искренних чувств, – против их стремления насильно подчинить своим требованиям некатоликов? Если мы признаем, что человечество имеет право вмешиваться в индивидуальную жизнь даже и в тех случаях, которые не касаются интересов других людей, то мы не можем не признать, что в обоих приведенных нами примерах нет ничего, что заслуживало бы осуждения. И на каком основании, в самом деле, можем мы в таком случае осуждать людей, когда они стремятся уничтожить то, что по их совершенно искренним убеждениям есть вместе и оскорбление Бога, и оскорбление человека? Никакое преследование какой бы то ни было индивидуальной безнравственности не может представить себе более сильное оправдание, чем какое имеет за себя то преследование, которое совершается во имя искренних религиозных чувств, и нам ничего более не остается, как или принять логику преследователей и сказать вместе с ними, что мы можем преследовать других, потому что мы нравы, а эти другие не могут преследовать нас, потому что они не правы, – или же отвергнуть такой принцип, который справедлив только тогда, когда он за нас, и составляет вопиющую несправедливость, если применяется против нас.
На приведенные мною примеры могут заметить, что они не имеют никакого практического значения и ничего подобного теперь быть не может, – что это совершенная невозможность, чтобы общественное мнение нашей страны стало кого-нибудь принуждать что-либо есть или не есть, жениться или не жениться, отправлять то или другое богослужение. Хотя такое замечание совершенно неосновательно, но мы тем не менее примем его во внимание и приведем другой пример, еще более к нам близкий и более у нас возможный. Везде, где только пуритане были достаточно могущественны, как, например, в Новой Англии и Великобритании во времена республики, они всегда стремились, и со значительным успехом, к уничтожению всех общественных и почти всех частных удовольствий, в особенности же они преследовали музыку, танцы, общественные игры, театры и вообще всякого рода увеселительные общественные собрания. До сих пор еще у нас, в Англии, очень много таких людей, которые по своим религиозным и нравственным понятиям строго осуждают все подобного рода удовольствия; люди эти принадлежат преимущественно к среднему классу, который имеет преобладающее значение при теперешнем общественном и политическом устройстве нашей страны, и нет ничего невозможного, что в один прекрасный день у них будет большинство в парламенте. Что скажут тогда члены нашего общества, которые не разделяют пуританских понятий, если их будут вынуждать сообразоваться в своем препровождении времени с религиозными и нравственными чувствами строгих кальвинистов и методистов? Не найдут ли они тогда желательным, чтобы эти благочестивые люди заботились о себе, а их оставили бы в покое? Не то ли же самое должны мы сказать и относительно всякого правительства, и относительно всякой публики, когда они предъявляют притязание запретить какое-нибудь удовольствие, потому что находят его дурным! Если раз мы признаем в принципе правильным подобное вмешательство общества в сферу индивидуальной свободы, то не будем иметь ни малейшего основания осуждать то или другое применение этого принципа, какое заблагорассудит сделать большинство парламента или вообще господствующая власть в обществе, – мы должны будем безропотно подчиниться требованиям идеальной христианской общины, как ее понимали первые колонисты Новой Англии, если только их секта или какая-нибудь другая, ей подобная, достигнет преобладания в обществе; а это не представляет никакой невозможности, потому что, как мы знаем по опыту, нередко религиозные секты, считавшиеся окончательно утратившими свое значение, вновь воскресали с полной силой.
Сделаем другое предположение, которое может быть еще более возможно, чем первое. Бесспорно, что в современном нам мире существует сильное стремление к демократическому общественному устройству. Утверждают, что будто в той стране, где это стремление успело наиболее осуществиться, где и и общество, и правительство отличаются наибольшим демократизмом, а именно, в Северо-Американских Соединенных Штатах, – утверждают, что будто бы там большинство смотрит чрезвычайно неблагоприятно на людей, дозволяющих себе более блестящий или более дорогой образ жизни, чем какой доступен самому большинству; что эти чувства большинства имеют там такое сильное влияние на общественную жизнь, как если бы и в самом деле существовали законы, регулирующие расходы, и что во многих частях Соединенных Штатов человек, имеющий большое состояние, встречает серьезное затруднение найти такой способ проживать свои доходы, который бы не навлек на него общего осуждения. Хотя подобное утверждение преувеличивает, без сомнения, то, что существует в действительности, но тем не менее оно указывает на такой факт, который не только не представляет ничего необыкновенного и не только весьма возможен, но и едва ли не составляет весьма вероятный результат, к которому может придти демократическое чувство везде, где с ним соединяются такие понятия, что общество имеет право налагать свое veto на тот или другой способ, каким индивидуум может тратить свои доходы. Если же мы при этом еще предположим значительное распространение социалистических идей, то нет ничего невозможного, что в обществах образуется такое большинство, которое будет считать позором иметь собственность выше известного незначительного размера, или жить такими доходами, которые не зарабатываются физическим трудом. Понятия, по принципу близко подходящие к этим, уже значительно преобладают в рабочем классе и видимо дают уже чувствовать свою тяжесть тем, которые находятся главным образом в зависимости от понятий, господствующих в этом классе, т. е. самим же рабочим. Известно, что между дурными работниками – а они составляют большинство во многих родах производства – установилось такое мнение, что дурной работник должен получать ту же заработную плату, как и хороший, и что не следует дозволять, чтобы один работник получал более, чем другой, под каким бы то ни было предлогом, потому ли что работает лучше, или потому что вырабатывает больше. У них образовалась даже своего рода полиция, которая старается препятствовать тому, чтобы хорошие работники получали более высшую плату, или чтобы хозяева платили им больше, чем дурным работникам, и эта полиция при случае превращается даже в настоящую полицию, которая действует не только нравственными, но и прямо физическими средствами. Если раз мы признаем, что общество имеет право на какое-нибудь вмешательство в то, что касается только самого индивидуума, то я не вижу никакого основания, почему мы могли осудить в этом случае действия рабочего класса, почему бы мы могли не признать за отдельной частью общества такой же власти над составляющими ее индивидуумами, какую признаем за всем обществом, вместе взятым, над всеми индивидуумами безразлично.
Впрочем, мы не имеем никакой надобности ограничиваться одними только предположениями; мы можем указать действительно существующие в наше время весьма грубые нарушения индивидуальной свободы, и еще более грубые нарушения, которыми нам угрожают в будущем и которые легко могут осуществиться, – и наконец мы можем указать на такие действительно существующие в наше время понятия, которые признают за обществом неограниченное право запрещать законом не только все то, что оно признает злом, но даже и то, что само по себе признается совершенно безвредным, если только это запрещение нужно для более полного искоренения преследуемого зла.
Так для того, чтобы уничтожить пьянство, в одной английской колонии и почти в целой половине Соединенных Штатов запрещено было законом употреблять крепкие напитки за исключением тех случаев, когда это нужно для лечения как лекарство; собственно говоря, закон запрещал только торговать крепкими напитками, но на практике это совершенно было равнозначно тому, как если бы запрещено было их употреблять, и сторонники закона, собственно, это и имели в виду. Хотя этот закон и оказался на практике невыполним и потому был отменен во многих штатах, которые сначала его приняли, и даже в том штате, который дал ему свое имя, но несмотря на это и у нас сделана была попытка поднять агитацию в пользу подобного закона, при чем некоторые записные филантропы выказали довольно замечательное рвение. С этой целью организовалось у нас даже особое общество, называвшееся Alliance. Общество это получило некоторую известность благодаря гласности, какая была дана переписке его секретаря с одним из тех немногих государственных людей Англии, которые признают, что мнения государственного человека должны быть основаны на принципах. Участие, какое лорд Стэнли принял в этой переписке, еще более усиливает те надежды, которые он возбудил во всех, кто знает, как редко встречаются на нашей политической арене те качества, которые он не раз уже имел случай выказать в своей общественной деятельности. Общество в лице своего секретаря выражает «глубокое сожаление, что его принцип может быть извращен для определения фанатизма и преследования» и старается доказать, что «широкая и неодолимая преграда» отделяет его от подобных принципов. «Мысль, мнение, совесть, я признаю, что все это, – говорит секретарь общества, – вне сферы закона; только то, что составляет социальный акт, что касается отношений между членами общества, только то подлежит власти не индивидуума, а государства». О тех же актах, которые суть не социальные, а индивидуальные, он и не упоминает, а между тем к этому именно разряду и принадлежит употребление крепких напитков. Но продажа крепких напитков, могут мне заметить, один из видов торговли, а торговля есть социальный акт. Я замечу на это, что зло, которое имеется в виду обществом, заключается не в свободе продавца, а в свободе покупателя и потребителя: если государство имеет право принимать меры с целью, чтоб нельзя было достать крепких напитков, то оно в таком случае имеет такое же право и прямо запретить их употребление. Но секретарь общества утверждает вот что: «…я, как гражданин, признаю за собой право на такие законы, которые бы ограждали меня от таких социальных актов со стороны моих сограждан, которые препятствуют мне пользоваться моим социальным правом». Эти социальные права он определяет так: «Ничто в такой степени не нарушает моих социальных прав, как торговля крепкими напитками; она уничтожает мое право на безопасность, потому что создает и непрестанно поддерживает беспорядки в обществе. Она нарушает мое право на равенство, обращая в свой барыш ту подать, которую я плачу на содержание бедных. Она парализует мое право на свободное, нравственное и умственное развитие, потому что окружает меня опасностями, ослабляет и деморализует общество, от которого я вправе требовать помощи и содействия». Мы здесь в первый раз встречаем подобную систему социальных прав; по крайней мере мы не знаем, чтоб она до этого была где-нибудь ясно формулирована. Сущность этой системы можно выразить так: каждый индивидуум имеет абсолютное социальное право на то, чтобы каждый другой индивидуум поступал во всем, во всех отношениях безукоризненно, так, как должен, – кто отступает в чем-либо от того, что должен, тот нарушает мое социальное право, и я имею право требовать от законодательной власти устранения этого нарушения. Такой чудовищный принцип несравненно опаснее всякого вмешательства в индивидуальную свободу, потому что нет такого нарушения свободы, которое нельзя было бы им оправдать; он не оставляет за свободой никаких прав, исключая разве только права иметь мнения, но не выражать их, так как всякое выражение такого мнения, которое я признаю вредным, будет уже нарушением моего социального права. По этой доктрине все люди имеют взаимно интерес в нравственном, умственном и даже в физическом совершенствовании друг друга, и интерес этот определяется каждым по своему собственному критерию.
Я укажу еще на другое, весьма важное нарушение индивидуальной свободы, которое не есть только угроза, но уже с давних пор и в широких размерах существует на самом деле; это – законы о праздновании воскресного дня. Конечно, отдыхать один день в неделю от ежедневных своих занятий, насколько это дозволяют необходимые требования жизни, – конечно, это весьма хороший обычай, хотя он и не составляет религиозной обязанности ни для кого, кроме евреев. Но соблюдение этого обычая возможно для рабочих только при том условии, если его будут одинаково соблюдать и все другие рабочие, потому что если часть рабочих не приостановит свои работы, то и остальные будут вынуждены сделать то же самое; поэтому можно признать дозволительным и даже справедливым, чтобы закон в этом случае вмешался и гарантировал каждому возможность иметь отдых от ежедневных своих занятий, установив общее, для всех обязательное, прекращение работ в известный день недели. Такое вмешательство закона оправдывается тем, что каждый имеет непосредственный интерес, чтобы другие соблюдали празднование воскресного дня, потому что иначе лишается возможности иметь отдых от ежедневных своих работ; но это ни в каком случае не может служить оправданием для такого вмешательства со стороны закона, которое бы препятствовало индивидууму проводить этот день по своему усмотрению, заниматься тем, чем хочет, – а тем более не может это быть оправданием для такого вмешательства, которое бы ограничивало индивидуума в свободном выборе удовольствий. Правда, есть такие удовольствия, которые иначе невозможны, как при том условии, чтобы не прекращались некоторые работы, но мы должны принять во внимание, что в этом случае работа немногих служит для доставления удовольствия, а может быть, даже и полезного препровождения времени весьма многим, и исключение в пользу этой работы совершенно оправдывается, если присоединим к этому то условие, чтоб она не была принудительной, т. е. чтоб рабочий не был вынужден непременно работать в воскресный день, если сам того не желает. Рабочие нисколько не ошибаются в своем расчете, полагая, что если все будут работать в воскресные дни, тогда заработная плата за все семь дней работы не будет больше того, чем сколько они теперь получают за шесть дней; но если все работы будут прекращены и сделано будет только исключение в пользу небольшого числа работ, необходимых для того, чтобы сделать возможным для большого числа людей пользование известными удовольствиями, то такого рода работа в день общего отдыха и при таких условиях увеличит заработки и не поставит рабочего в необходимость непременно работать, в случае если бы он пожелал променять увеличение заработка на отдых. Наконец, в случае нужды можно было бы установить такой обычай, чтобы некоторые классы рабочих имели свой особый день отдыха, а не общий с другими. Итак, стеснения личной свободы избирать для себя тот или другой род удовольствия, какой кому нравится, не имеют в свое оправдание никакого основательного довода, и защитникам этих стеснений ничего более не остается, как опереться на основание, что есть такие удовольствия, которые осуждаются религией – но подобное притязание мотивировать закон религиозными соображениями заслуживает самого энергического протеста. «Deorum iujniae Diis curae». Для того, чтоб оправдать подобное притязание, надо доказать, что общество или его представители имеют поручение свыше мстить за оскорбления.
Всемогущего, хотя бы эти оскорбления и состояли в таких действиях, которые не приносят вреда никому из людей. Такое понимание человеческих отношений, что будто люди имеют обязанность заботиться о религиозности друг друга, – такое понимание и было основанием всех когда-либо бывших религиозных преследований, и если мы признаем это понимание правильным, то должны совершенно оправдать и сами преследования. Хотя то чувство, которое в настоящее время обнаруживается в постоянно повторяемых попытках прекратить движение по железным дорогам в воскресные дни, запереть музеи и т. п., – хотя это чувство и не имеет той жестокости, какой отличались чувства религиозных преследователей прежнего времени, но оно свидетельствует об умственном состоянии, в сущности, совершенно одинаковым, с тем, которое делало людей способными на религиозные преследования. Это чувство свидетельствует о существовании желания не дозволять другим делать то, чего не дозволяет моя религия, хотя бы по их религии это и было дозволительно. Оно свидетельствует о существовании той веры, что Бог не только гневится неблагочестивыми поступками неверующего, но гневится и на нас, если мы дозволяем беспрепятственно совершать эти неблагочестивые поступки.
Я не могу удержаться, чтобы не указать еще на один факт, который свидетельствует, как вообще мало ценится у нас свобода человека, а именно, на то явное воззвание к преследованию, каким обыкновенно разражается наша пресса, как только приходится ей завести речь о мормонизме. Многое есть что сказать об этом совершенно неожиданном и весьма назидательном факте, что в наш век газет, железных дорог и электрического телеграфа могли явиться новое откровение и даже целая религия, основанная на этом откровении, и что несмотря на всю очевидность обмана, несмотря на то, что сам возвеститель откровения не имел за собой никаких необыкновенных качеств, религия эта была уверована сотнями тысяч людей и легла в основание нового общества. Для нас важно в настоящем случае то, что эта религия, как и другие лучшие религии, также имеет своих мучеников – что ее основатель и пророк был убит за свое учение, – что многие его последователи погибли также насильственной смертью за свою веру, – что, наконец, все мормоны были изгнаны из той страны, где образовалась их религия; и многие из моих соотечественников не довольствуются даже тем, что мормонизм вынужден был искать убежища в отдаленной пустыне, а открыто объявляют, что хорошо было бы (только не совсем удобно) послать туда к ним экспедицию, чтобы заставить их сообразоваться с чужими мнениями. Многоженство, – вот тот пункт мормонской доктрины, который главным образом возбуждает против них антипатию, и эта антипатия столь сильна, что по отношению к ним забываются обыкновенные правила веротерпимости; мы миримся с многоженством у магометан, у индусов, у китайцев, но не можем помириться с многоженством у людей, которые говорят по-английски и считают себя христианами. Я не менее, чем кто-либо, осуждаю многоженство мормонов, и осуждаю его по многим причинам, а между прочим и на том основании, что это учреждение не только не опирается на принцип свободы, а напротив, прямо нарушает его: оно только еще более закрепляет те оковы, а в которых находится половина общества, и освобождает другую половину от таких обязанностей по отношению к первой, которые требуются взаимностью. Однако при этом не следует забывать, что хотя положение женщины в полигамическом браке нам и представляется весьма тяжелым, но тем не менее вступление в брак у мормонов, несмотря на полигамию, составляет со стороны женщины акт, не менее свободный, чем и при всяком другом каком-либо брачном институте. Как ни кажется это поразительным с первого взгляда, но если мы примем во внимание, что идеи и обычаи, общие во всем мире, воспитывают женщин в тех понятиях, что брак для них есть необходимость, тогда для нас делается понятным, что находится много таких женщин, которые предпочитают лучше быть одною из многих жен одного мужа, чем вовсе не быть женой. Мормоны не предъявляют ни малейшего притязания навязать кому-либо свои брачные отношения или вообще свои законы; в пользу враждебного к ним чувства тех, которые не разделяют их верований, они большие сделали даже уступки, чем каких вправе были от них требовать; они удалились из тех стран, для которых их доктрины были нетерпимы, и поселились на отдаленном углу земли, который они же первые и сделали обитаемым, – после всего этого есть ли какая возможность найти какое-нибудь основание для того, чтобы препятствовать им жить под такими законами, какие им нравятся, если только они ни на кого не нападают и не препятствуют своим членам выступать обратно из общины. Один из писателей нашего времени, отличающийся во многих отношениях замечательными достоинствами, предлагает предпринять против этой полигамической общины (так он выражается) не крестовый поход, а поход цивилизации, чтобы положить конец тому, что, по его понятиям, составляет понятный шаг на пути прогресса. Я согласен с тем, что мормонизм есть понятный шаг, но я не могу согласиться, чтобы какая-нибудь община имела право насильно заставлять другую общину цивилизоваться. Когда сами те, которые терпят от дурных законов, не просят ни чьей помощи, то в таком случае я не могу допустить возможности признать, чтобы люди, совершенно этому непричастные, имели какое-нибудь право вмешаться и требовать изменения существующего порядка вещей, которым довольны все те, кого он касается непосредственно, – и требовать на том только основании, что этот порядок их скандализирует. Заметим при этом, что те люди, от имени которых предъявляется притязание на подобное право, живут на расстоянии нескольких тысяч миль от того общества, которого порядки их скандализируют, что никакие их интересы непосредственно не замешаны в том, чтобы существовал в этом обществе тот или другой порядок, и что, наконец, они даже не имеют никаких непосредственных сношений с этим обществом. Они могут, если хотят, послать миссионеров проповедовать против скандализирующих их доктрин, – могут законными средствами (заставить молчать противную сторону не принадлежит к числу этих средств) противодействовать распространению подобных доктрин среди членов своего общества. Цивилизация одержала верх над варварством, когда варварство господствовало над всем миром: может ли после этого существовать сколько-нибудь основательное опасение, что варварство воскреснет вновь и завоюет цивилизацию. Чтоб цивилизации могла действительно угрожать опасность гибели от побежденного уже ее врага, она должна прежде дойти до такого нравственного расслабления, чтобы все ее присяжные жрецы и представители, и вообще все, ей причастные, не имели ни способности, ни желания постоять за нее. Если наша цивилизация действительно такова, то, в таком случае, чем скорее она рухнет, тем лучше, – ей в таком случае ничего более не остается, как скорее перейти от своего печального положения к положению еще более худшему, для того, чтобы скорее окончательно рухнуться и потом возродиться (как Западная Империя) с помощью энергических варваров.
Глава V. Применения
Необходимо, чтобы высказанные нами принципы сделались более общепринятым базисом при обсуждении частных вопросов, и только тогда можно ожидать сколько-нибудь состоятельного их применения в различных отраслях правительственной и нравственной сферы. Те немногие замечания, которые я намерен сделать в этой главе касательно некоторых частных вопросов, имеют целью, собственно, не развитие этих принципов до их последних выводов, а только несколько большее уяснение самих принципов. Я намерен представить, собственно говоря, не применения, а образчики применений, которые бы уясняли смысл и пределы обоих основных правил, составляющих сущность изложенной нами доктрины, и которые могли бы хотя до некоторой степени руководить суждением, когда оно колеблется, которое из двух правил применить к тому или другому частному случаю.
Припомним эти правила: 1) индивидуум не подлежит никакой ответственности перед обществом в тех своих действиях, которые не касаются ничьих интересов, кроме его собственных. Советовать, наставлять, убеждать, избегать сношений, когда признает это нужным для своего блага, – вот все, чем общество может в этом случае справедливо выразить свое неудовольствие или свое осуждение; 2) в тех действиях, которые вредны для интересов других людей, индивидуум подлежит ответственности и может быть справедливо подвергнут социальным или легальным карам, если общество признает это нужным.
Сделаем прежде всего одно замечание в пояснение того принципа, что только вред или вероятность вреда могут оправдывать вмешательство общества в действия индивидуума. Неправильно было бы выводить из этого принципа то заключение, что будто бы общество имеет всегда право вмешаться, когда только усматривает, что действия индивидуума вредны для других. Есть много таких случаев, когда индивидуум, преследуя совершенно законную цель, неизбежно, а следовательно, и законно причиняет вред или ущерб другим, или препятствует им достигнуть блага, на которое они имели основание надеяться. Подобные столкновения между интересами индивидуумов происходят часто от дурных общественных учреждений и часто бывают совершенно неизбежны, пока существуют эти учреждения; но есть также такие столкновения, которые едва ли можно избежать при каких бы то ни было учреждениях. Так это бывает в случае какого-нибудь конкурса или вообще соревнования, когда многие стремятся к достижению какого-нибудь предмета и предмет этот достанется наконец какому-нибудь одному из соревнователей, – когда получается выгода от потерь, от неуспеха и вообще от неудач других. Общепризнанно, что это не только не вредит, а напротив, даже полезно для интересов человечества, чтобы люди стремились к достижению своих целей, не останавливаясь перед такого рода последствиями, т. е. не останавливаясь перед тем, что достижение ими их целей сопряжено с вредом для других. Другими словами: общество не признает никакого права, ни легального, ни нравственного, за неуспевшим соревнователем на какое бы то ни было вознаграждение за подобного рода вред, и считает себя призванным вмешиваться только в тех случаях, когда для достижения успеха в соревновании прибегают к средствам, противным общему интересу, – к обману или насилию.
Торговля, как мы уже сказали, есть акт социальный. Индивидуум, продавая какой-нибудь предмет, совершает такой акт, который касается интересов других людей или интересов всего общества; следовательно, его действия в этом случае, согласно с высказанным нами принципом, подлежат юрисдикции общества, и на этом основании некогда признавалось обязанностью правительства определять цену товаров и регулировать их производство. Но теперь, после продолжительной борьбы, пришли наконец к тому сознанию, что как дешевизна, так и хорошее качество товаров достигаются всего лучше при том условии, когда и производителю, и продавцу предоставляется полная свобода, и если при этом покупатель имеет полную свободу приобретать то, что ему нужно, там, где он хочет. Вот в чем состоит так называемая доктрина свободной торговли. Эта доктрина основана на принципе, хотя не менее прочном, совершенно различном от принципа индивидуальной свободы. Подчинение торговли или производства каким-либо ограничениям есть, конечно, стеснение и, как всякое стеснение, оно есть зло потому уже, что оно есть стеснение; но в этом случае оно относится к таким действиям индивидуума, в которые общество имеет полное право вмешаться, и если его вмешательство заслуживает осуждения, то единственно потому только, что не приводило на самом деле к тем последствиям, каких хотели достигнуть. Принцип индивидуальной свободы, будучи совершенно непричастен к доктрине свободной торговли, равно непричастен и к большей части тех вопросов, которые возникают относительно пределов этой доктрины: как например, до какой степени может быть допущен контроль общества для предупреждения подделок, какого рода санитарные предосторожности и вообще какие меры могут быть справедливо сделаны обязательными для тех хозяев, у которых рабочие занимаются работами, опасными для здоровья. Вопрос о свободе имеет разве только то отношение к этим вопросам, что всегда лучше, caeteris paribus, предоставлять людям полную свободу, чем контролировать их; но тем не менее нельзя отрицать, что в принципе контроль в тех случаях совершенно законен. Впрочем есть и такие вопросы касательно вмешательства в торговые дела, которые в сущности суть вопросы о свободе, так например, закон Мэна, о котором мы уже упоминали, – запрещение ввозить опиум в Китай, – ограничения торговли ядами, одним словом, все те случаи, когда вмешательство имеет целью сделать невозможным или затруднительным приобретение индивидуумом какого-нибудь предмета. Подобного рода вмешательство может быть предметом возражения, но не потому, что нарушает свободу производителя или торговца, а потому что нарушает свободу покупателя.
Один из указанных мною примеров, торговля ядами, наводит нас на новый вопрос, а именно: до каких пределов может простираться так называемое полицейское вмешательство, до какой степени свобода может быть справедливо стесняема ради предупреждения преступлений или несчастных случаев. Предупреждать преступления составляет в такой же степени неоспоримую обязанность правительства, как и открывать преступления и наказывать их; но дело в том, что предупредительная деятельность правительства сопряжена с большей возможностью преступления, чем его карательная деятельность, так как едва ли можно указать на такой род поступков из числа законно принадлежащих к сфере индивидуальной свободы, в котором свобода не могла бы быть истолкована, и совершенно основательно, как облегчение совершать те или иные проступки. Но, тем не менее, если общественная власть, или даже частное лицо, усматривает, что кто-либо очевидно готовится совершить какое-нибудь преступление, то оно не только не обязано оставаться в бездействии, пока преступление не будет совершено, но и может вмешаться, чтобы предупредить его совершение. Если бы яды не поучались или не употреблялись ни для каких иных целей, кроме убийства, то в этом случае было бы совершенно справедливо запретить как производство их, так и продажу; но они нужны и для таких целей, которые не только совершенно невинны, но и в высшей степени полезны, и всякое стеснение в их производстве и продаже не может не относиться одинаково, как к дурному, так и к хорошему их употреблению. Повторяю еще раз, – общественная власть должна, конечно, принимать меры предосторожности против несчастных случаев. Если должностное, или даже частное лицо усмотрит, что кто-нибудь намеревается перейти через мост, через который нельзя пройти без опасности для жизни, и при этом не будет иметь времени предупредить о существовании этой опасности, то может схватить или попятить назад идущего, и это нисколько не будет нарушением индивидуальной свободы, так как свобода состоит в том, чтоб мне не препятствовали делать то, что я желаю, а я не имею желания свалиться с моста в реку. Но если угрожает только опасность, более или менее вероятная, а не гибель неизбежная, то в таком случае сам индивидуум есть единственный компетентный судья в том, следует или не следует ему подвергать себя опасности; в этом случае можно только предостеречь его о существующей опасности, но никак не более, и никто не имеет права воспрепятствовать ему подвергать себя опасности, если он этого хочет (разумеется, если только этот индивидуум – не дитя, не сумасшедший, не находится в таком состоянии возбуждения или рассеянности, которое несовместимо с полным обладанием умственными способностями). Применение этих соображений к вопросу о торговле ядами дает нам ключ для решения, какие способы регулировать эту торговлю будут противны и какие будут не противны принципу свободы. Такая мера предосторожности, например, чтобы на ядовитом веществе наклеивался ярлык с надписью, свидетельствующей о его ядовитых свойствах, не будет нарушением свободы, потому что покупатель не может желать не знать, что покупаемая им. вещь имеет ядовитые свойства. Но требование, чтобы ядовитые вещества продавались не иначе, как только лицам, которые предъявят удостоверение патентованного медика, что эти вещества им нужны, – такое требование сделает для индивидуума во многих случаях невозможным приобрести то, что ему может быть нужно для целей совершенно законных, и во всяком случае вовлечет его в излишние издержки. По моему мнению, существует только один способ затруднить приобретение ядовитых веществ для преступных целей, не подвергая при этом сколько-нибудь значительному нарушению свободу тех, которые пожелают их приобрести для целей законных. Этот способ состоит в том, что Бентам называет «preappointed evidence». Он обыкновенно употребляется при совершении контрактов. Так почти везде принято, и совершенно справедливо, чтобы закон для признания за контрактом полной обязательной силы требовал соблюдения некоторых формальностей, как например, подписи свидетелей и т. п.: требование это имеет ту цель, чтобы, на случай могущего возникнуть впоследствии спора, обеспечить доказательства, что контракт был действительно совершен и притом совершен при таких условиях, в которых не было ничего, что могло бы лишать его законной силы: таким образом полагаются большие препятствия к тому, чтобы могли существовать фальшивые контракты или чтобы совершались такие контракты, которые не могли бы быть совершены, если бы были известны те обстоятельства, при которых они совершались. Нет, по-видимому, никакого препятствия принять подобные же предосторожности и относительно торговли такими предметами, которые могут быть употреблены как орудие преступления. Можно было бы, например, установить такое правило, чтобы торгующие ядовитыми веществами подробно записывали, когда продан товар, имя и адрес покупщика, количество и качество проданного товара, – чтобы продавец каждый раз спрашивал покупщика, для какой надобности покупает он ядовитое вещество и записывал бы его ответ; в тех случаях, когда ядовитое вещество покупается не по рецепту медика, можно было бы требовать, чтобы при продаже присутствовало какое-нибудь третье лицо, которое могло бы засвидетельствовать личность покупателя, если бы потом возникло сомнение, не было ли купленное вещество употреблено для каких-нибудь преступных целей. Подобное правило не составило бы никакого существенного затруднения для приобретения ядовитых веществ, но весьма значительно затруднило бы только безнаказанное их употребление для каких-либо преступных целей.
Право, присущее обществу, охранять себя предупредительными мерами от преступлений, которые могут быть совершены против него, – право это необходимо влечет за собой некоторые ограничения того принципа, что дурные поступки индивидуума, непосредственно касающиеся только его самого, не должны подлежать ничьему вмешательству и никакой каре. Например, пьянство, говоря вообще, не есть такой предмет, в который закон имел бы право вмешиваться, но я считаю совершенно правильным, чтобы тот человек, который уже совершил какое-нибудь насилие в пьяном состоянии, был подвергнут особенным, до него только относящимся, легальным ограничениям по употреблению крепких напитков, чтоб он был признан подлежащим наказанию, если вновь напьется допьяна, или чтобы ему угрожало более сильное против обыкновенного наказание, если он опять совершит насилие в пьяном виде. Если уже человек знает по опыту, что в пьяном состоянии причиняет обыкновенно какой-нибудь вред другим людям, то уже тем самым, что напивается пьян, он совершает проступок. То же самое можно сказать и о праздности. Если человек не получает содержания за счет общества и если он не нарушает какого-нибудь принятого им на себя условия, то праздность его не может быть предметом легальной кары; но если индивидуум, вследствие праздности или вследствие какой-нибудь другой причины, которые совершенно зависят от него самого, делается неспособен к исполнению лежащих на нем легальных обязанностей, как например, содержать своих детей, то не будет ничего несправедливого насильно сделать его способным исполнять эти обязанности, дать ему, например, какую-нибудь обязательную работу, если нет на этого другого, лучшего средства.
Кроме того, есть такие поступки, которые непосредственно вредны только для тех, кто их совершает, и следовательно, не должны подлежать легальному запрещению, но когда совершаются публично, становятся нарушением добрых нравов и, входя таким образом в категорию проступков, обидных для других людей, могут справедливо подлежать запрещению. К такого рода поступкам принадлежат нарушения приличия. Я не остановлюсь на этом, тем более что это касается предмета моего трактата только косвенным образом, – замечу только, что много таких поступков, которые сами по себе не предосудительны и не считаются предосудительными, но становятся проступками, если совершаются публично.
Нам предстоит теперь рассмотреть вопрос совершенно другого рода и найти для него такое решение, которое было бы согласно с высказанными нами принципами. Должна ли существовать такая же свобода советовать или поощрять совершение поступков, как и совершать их. когда эти поступки предосудительны, но общество не принимает против них никаких предупредительных или карательных мер единственно на том только основании, что непосредственно истекающее от них зло падает всей своей тяжестью исключительно на тех, кто их совершает? Решение этого вопроса представляет некоторые затруднения. Советовать другому совершать известный поступок – не совсем одно и то же, что самому его совершать. Давать советы или поощрять к совершению чего-нибудь есть акт социальный и потому, как и вообще все поступки индивидуума, касающиеся других людей, может справедливо подлежать общественному контролю. Так представляется с первого взгляда; при более же внимательном рассмотрении вопроса оказывается, что если рассматриваемый нами случай и не совсем точно подходит под определение индивидуальной свободы, но, тем не менее, к нему применимы те же основания, на которых утверждается, принцип индивидуальной свободы. Если индивидууму должна быть предоставлена свобода действовать по своему усмотрению, на свой собственный страх, во всем, что касается только его самого, то одинаково должна быть ему предоставлена и свобода советоваться с другими, обмениваться мнениями, сообщать другим свои мысли и воспринимать мысли от других. Что дозволительно делать, то должно быть дозволительно и советовать. Вопрос сомнителен только в том случае, когда советодатель извлекает какую-нибудь личную выгоду из своих советов, когда подстрекательство к совершению поступков, осуждаемых обществом и государством, становится ремеслом, с помощью которого снискивают себе средства к существованию или вообще добывают деньги. В этом случае вопрос усложняется; тут, очевидно, привходит новый элемент, а именно, существование такого класса людей, которых интересы противоположны тому, что признается за общественное благо, и которые самые средства свои к существованию черпают из противодействия этому благу. Должно ли быть в этом случае допущено вмешательство или нет? Любодеяние, например, или игра должны быть терпимы, но сводничество или содержание игорного дома принадлежат ли также к таким действиям, в которых должна быть предоставлена индивидууму полная свобода? Случай этот принадлежит к числу тех, которые лежат как раз на меже между этими принципами, и с первого взгляда затруднительно определить, который из этих принципов должен быть к нему применен. Есть аргументы и в пользу того, и в пользу другого. Невмешательство имеет на своей стороне тот аргумент, что такое действие, которое признается дозволительным, не может сделаться преступным вследствие только того, что становится обыкновенным занятием, обыкновенным препровождением времени или средством к существованию; одно из двух: или это действие дозволительно, или оно недозволительно, но подобные ограничения не могут быть допущены; если изложенные выше принципы свободы истинны, то общество не имеет никакого права, как общество, брать на себя решение, вредно или нет такое действие, которое касается только индивидуума, и оно может в этом случае действовать только посредством убеждения, но никак не иначе, и как одним дозволительно убеждать, так другим дозволительно разубеждать. В возражение этому аргументу может быть приведено в пользу другого принципа то основание, что хотя общество, или государство, и не вправе брать на себя решение, хорошо или вредно какое-нибудь действие, касающееся только интересов индивидуума, но если оно признает это действие вредным, то совершенно вправе, по крайней мере, считать вопрос о его вредности или невредности вопросом спорным, – и в таком случае не будет ничего несправедливого со стороны общества, или государства, если оно будет стремиться уничтожить влияние тех подстрекателей к этому действию, которые не могут обсуждать его беспристрастно, так как имеют непосредственный личный интерес быть на стороне того, что государство признает вредным, и явно руководятся совершенно посторонними личными целями. В подкрепление этого довода могут сделать еще то замечание, что тут не будет никакой утраты, никакой жертвы каким-либо благом, если люди освободятся, насколько это возможно, от влияния таких личностей, которые способны поддерживать в других те или другие наклонности единственно из-за своих только чисто эгоистических целей, и если люди, глупо или умно, но во всяком случае сами, по своему собственному усмотрению, независимо от подобных влияний, будут решать, что им делать или не делать. Таким образом, – могут сказать сторонники этого мнения, – хотя постановления касательно азартных игр и не могут быть оправданы в принципе, хотя бесспорно, что всем должна быть предоставлена полная свобода играть у себя дома, или в домах своих знакомых, или наконец, в сборных местах, устраиваемых по подписке, куда имеют право входить только одни члены и их гости, но тем не менее публичные игорные дома допущены быть не могут. Совершенно справедливо, что никакое запрещение не может прекратить азартных игр, и так бы тиранически не распоряжалась полиция, игорные дома всегда будут существовать под теми или другими предлогами; но вследствие запретительных мер они могут быть вынуждены соблюдать до некоторой степени тайну, так что их будут знать только те, которые именно ищут игры, и общество должно совершено довольствоваться достижением такого результата. Эти аргументы имеют значительную силу, но я не решаюсь высказать решительное мнение, достаточны ли они для оправдания такой нравственной аномалии, что пособник подвергается наказанию, тогда как главный виновник признается (и признается справедливо) не подлежащим никакому ответу, – сводник или содержатель игорного дома подвергаются штрафу или тюрьме, тогда как сам любодей или сам игрок не подлежат никакой ответственности. Еще более недостаточны подобного рода аргументы для оправдания вмешательства в обыкновенные операции купли и продажи. Едва ли найдется такой предмет торговли, которого употребление не могло бы быть доведено до излишества, и продавцы всегда имеют интерес в том, чтобы поощрять это излишество, но на этом нельзя основывать никакого аргумента, в пользу хотя бы например закона Мэна, потому что хотя класс торговцев крепкими напитками и заинтересован в невоздержанном их употреблении, но тем не менее он необходим, так как если бы его не было, то вовсе прекратилось бы и всякое употребление крепких напитков. Однако то обстоятельство, что эти торговцы сильно заинтересованы в поощрении невоздержания, составляет действительное зло, и этим оправдывается то вмешательство со стороны государства, что оно налагает на торговлю крепкими напитками некоторые ограничения и требует гарантий, если бы этого оправдания не было, то подобное вмешательство было бы нарушением законной свободы.
Тут возникает еще такой вопрос: должно ли государство косвенным образом противодействовать тому, что хотя оно и дозволяет, но тем не менее считает противным благу самого действующего; так например, должно ли оно принимать меры к уменьшению пьянства, поднимая для этого цену на вино или затрудняя приобретение вина посредством ограничения мест продажи крепких напитков. Этот вопрос, как и большая часть практических вопросов, не допускает прямого, безусловного ответа. Налог на крепкие напитки с целью затруднить их приобретение есть такая мера, которая отличается от совершенного запрещения употребления крепких напитков только степенью, а не принципом, если мы оправдаем совершенное запрещение. Всякое возвышение цены на какой-либо предмет торговли есть запрещение употреблять этот предмет тем, которые не имеют средств платить за него увеличенную цену, а для тех, которые имеют средства заплатить, оно есть кара за удовлетворение потребности употреблять этот предмет; следовательно, подобная мера совершенно противоречит тому принципу, что избирать для себя тот или другой род удовольствия, расходовать свои денежные средства тем или другим способом, исполнив все свои легальные и нравственные обязанности к государству и к другим индивидуумам, что все это составляет сферу индивидуальной свободы и должно быть предоставлено личному усмотрению каждого индивидуума. С первого взгляда может показаться, на основании приведенных нами соображений, что мы должны осудить и обложение крепких напитков налогом с целью получения дохода. Но при этом следует принять во внимание, что налоги с фискальной целью абсолютно необходимы, что в большей части государств значительная часть доходов необходимо должна быть взимаема косвенными налогами, и следовательно, государства не могут обойтись без обложения налогами некоторых предметов потребления, т. е. не могут обойтись без того, чтобы не запрещать некоторым лицам употребление известных продуктов и не налагать на других кару за их употребление. Конечно, государство обязано при установлении налогов заботиться о том, чтобы налоги падали на такие предметы потребления, без которых потребители легче всего могут обойтись, и, a forteriori, избирать для налогов преимущественно те предметы, которые положительно вредны, когда употребляются в неумеренном количестве. Вот почему налог на крепкие напитки не только не подлежит осуждению, а напротив, заслуживает одобрения, даже и в том случае, когда он высок и приносит весьма большой доход, предполагая при этом, конечно, что государство имеет действительную надобность в этом доходе.
Что же касается до вопроса о том, должна ли продажа крепких напитков быть предметом более или менее исключительной привилегии, то ответ на это должен быть различен, смотря по тому, с какой целью установляется привилегия. Бесспорно, что полицейский надзор необходим в публичных местах, а тем более он необходим в местах продажи крепких напитков, где проступки против общества совершаются всего чаще. Вот на каком основании могут быть оправданы подобные меры, как предоставление права торговать (по крайней мере, торговать распивочно) крепкими напитками только таким людям, которые известны своим хорошим поведением или предоставляют какие-либо в этом гарантии, – определение часов для открытия и закрытия питейных заведений, – лишение права торговли в случае, если бы хозяин заведения оказался виновным в неоднократно происходивших в его заведении беспорядках, нарушающих общественное спокойствие, или если бы его заведение сделалось местом притона для людей злоумышляющих и подготовляющих преступления. Я не думаю, чтобы по принципу можно было оправдать еще какие-либо другие меры, которые бы еще более ограничивали торговлю крепкими напитками. Такая мера, например, как ограничение числа кабаков с целью уменьшить соблазн для людей, склонных к пьянству, не только представляет то неудобство, что в этом случае ради небольшого числа индивидуумов подвергаются стеснению все члены общества, но и по своему характеру она соответствует только такому состоянию общества, когда рабочие классы трактуются как дети или как дикие и когда признается необходимым держать их под так называемым отеческим управлением, которое бы воспитывало их для свободы. Но не такими принципами должно руководствоваться управление рабочих классов в свободной стране, и никто, знающий настоящую цену свободы, не одобрит такого принципа, исключая разве только в том случае, когда уже истощены все усилия воспитывать рабочих к свободе и управлять ими как свободными, и оказалось окончательно невозможным управлять ими иначе, как управляют детьми. Одна уже прямая постановка этого вопроса обнаруживает до очевидности всю нелепость такого предположения, чтобы, при рассмотрении его, мы должны были принимать во внимание такие случаи, когда все усилия управлять рабочими, как свободными людьми, оказались тщетными. Не какой-либо другой причине, а единственно тому духу противоречия, который составляет характеристическую особенность наших учреждений, обязаны мы тем, что у нас нередко допускаются такие стеснения индивидуальной свободы, которые могут быть оправданы только при деспотическом или так называемом отеческом управлении, между тем как в то же время присущий нашим учреждениям дух общественной свободы не допускает эти стеснения доходить в действительной жизни до такой степени, чтобы они на самом деле могли иметь значение, как меры для нравственного воспитания людей.
Признание за индивидуумом свободы во всем, что касается его самого, необходимо ведет (как мы это высказали еще на первых страницах настоящего исследования) к признанию свободы для какого бы то ни было числа индивидуумов входить между собой в соглашение и действовать на основании этого соглашения во всем, что касается только их самих и кроме их никого другого не касается. Этот вопрос не представлял бы никаких затруднений, если бы воля лиц, раз вошедших в соглашение, оставалась навсегда неизменной; но так как она может изменяться, то часто бывает необходимо, чтобы люди, входя между собой в соглашение даже по таким предметам, которые касаются только их самих, принимали бы на себя некоторые обязательства по отношению друг к другу, и если уже раз индивидуум принял на себя обязательство по отношению к другим индивидуумам, то необходимо должно быть признано за общее правило, что он обязан выполнить это обязательство. Но едва ли найдется такая страна, которой законы не допускали бы исключений из этого общего правила. Не только считается необязательным выполнять такие обязательства, которыми нарушаются интересы третьей стороны, но и признается нередко достаточным основанием к освобождению индивидуума от принятого им на себя обязательства, если оно для него вредно. Так например, у нас и в большей части других цивилизованных государств признается недействительным обязательство, по которому человек продает себя в рабство или соглашается на подобную продажу; силу такого рода обязательств равно отрицают и закон, и общее мнение. Почему в этом случае власть индивидуума над самим собой подвергается ограничению, очевидно само по себе. Действия индивидуума, касающиеся только его самого, признаются не подлежащими ничьему вмешательству единственно из уважения к его индивидуальной свободе; свободный выбор индивидуума принимается за очевидное свидетельство, что избранное им для него желательно, или по крайней мере сносно, и его личное благо признается наилучше для него достижимым при том условии, если ему предоставлена будет свобода стремиться к этому благу теми путями, какие признает за лучшие. Но продажа себя в рабство есть отречение от своей свободы; это – такой акт свободной воли индивидуума, которым он навсегда отрекается от пользования своей свободой, и, следовательно, совершая этот акт, он сам уничтожает то основание, которым устанавливается признание за ним права устраивать свою жизнь по своему усмотрению. С минуты совершения этого акта он перестает быть свободным и ставит себя в такое положение, которое не допускает даже возможности предположить, чтобы он мог оставаться в нем по своей воле. Принцип свободы нисколько не предполагает признания за индивидуумом свободы быть несвободным. Признать за индивидуумом право отречься от своей свободы не значит признавать его свободным. Эти основания, которых сила столь ярко обнаруживается в рассматриваемом нами случае, имеют очевидно более широкую применимость, и не только по отношению к этому крайнему случаю, но они неизбежно встречают повсюду пределы, далее которых не может идти их применение: необходимые требования жизни на каждом шагу заставляют нас не отрекаться, конечно, от нашей свободы, но соглашаться на то или другое ее ограничение. Тот же самый принцип, который требует для индивидуума полной свободы во всем, что касается его самого, требует также, чтобы индивидуумы, вступившие друг с другом в какие-нибудь обязательства по предметам, не касаются третьей стороны, были всегда свободны снять друг с друга эти обязательства, и даже едва ли есть такие обязательства, кроме только денежных и вообще имущественных, по отношению к которым можно было бы отрицать свободу выхода для каждой из обязавшихся сторон. Барон Вильгельм Гумбольдт в своем превосходном сочинении, о котором мы уже упоминали, высказывает убеждение, что обязательства, имеющие предметом личные отношения или личные услуги, ни в каком случае не должны иметь легальной обязательности иначе, как на определенный срок, и что самое важное из этих обязательств, брак, представляя ту особенность, что сама цель его совершенно исчезает, как только с ней не гармонируют чувства обеих сторон, ничего более не требует для того, чтобы быть признанным не существующим, как только чтобы одна из сторон выразила свою волю, что он не существует. Это предмет слишком важный и слишком сложный, чтобы о нем можно было говорить мимоходом, и я коснусь его не более, как сколько это необходимо для разъяснения занимающего нас вопроса. Если бы сжатостью и общностью своего сочинения барон Гумбольдт не был вынужден ограничиться одним только указанием на свое заключение по этому предмету, не входя при этом в обсуждение посылок, то он без сомнения признал бы, что для полного обсуждения этого предмета недостаточно тех оснований, которые он выставил. Когда человек обещаниями или поступками дает основание и поощряет к тому, чтобы другой человек положился на то, что он будет постоянно поступать известным образом, основал бы на этом свои надежды, свои расчеты и согласно с этим принял бы какие-нибудь решения, которыми в большей или меньшей степени условливается дальнейшая его жизнь, то в таком случае для этого человека возникает целый ряд нравственных обязанностей, которыми он может, конечно, пренебречь, но которые не признать он не может. И если, кроме того, отношения между двумя состоящими в обязательстве сторонами породили последствия для других, если они поставили какое-нибудь третье лицо в особенное положение, или как это бывает в браке, дали существование третьему лицу, то по отношению к этому третьему лицу на обе состоящие в обязательстве стороны падают известные нравственные обязанности, и выполнение этих обязанностей, или во всяком случае способ их выполнения, в значительной степени условливается продолжением или прекращением того обязательства, из которого они истекли. Из этого вовсе не следует, что я никак не могу согласиться, чтобы их обязанности могли простираться до такой степени, чтобы требовали выполнения во что бы то ни стало породившего их обязательства, хотя бы даже и ценой счастья одной из состоящих в обязательстве сторон, но если они составляют необходимый элемент в вопросе, и если даже, как утверждает Гумбольдт, они и не должны иметь никакого значения для легальной свободы выйти из обязательства (я также держусь того мнения, что они не должны иметь в этом отношении большого значения), то во всяком случае они должны иметь большое значение для нравственной свободы. Человек обязан принять во внимание все эти обязательства, решаясь на такой шаг, который может касаться важных интересов других людей, и если он не воздает этим интересам должного, то нравственно ответственен за сделанное им зло. Я остановился за этих замечаниях единственно только для лучшего разъяснения общего принципа свободы, а не потому, что считал их необходимым для разъяснения этого частного вопроса, который, напротив, обыкновенно рассматривается в том смысле, что как будто интересы детей суть все, а интересы взрослых – ничто.
Я уже имел случай выше заметить, что вследствие отсутствия общепринятых общих принципов свобода нередко признается там, где ее не должно быть, и наоборот, нередко отрицается там, где должна быть признана, и что чувство свободы в новом европейском мире обнаруживается с наибольшей силой именно в том случае, где оно, по моему мнению, совершенно не уместно. Человек должен иметь полную свободу поступать как хочет во всем, что касается только его самого; но нельзя признать за ним свободу поступать по своему усмотрению в том, что касается других, под тем предлогом, что дела других суть его собственные дела. Государство должно уважать свободу каждого индивидуума во всем, что касается исключительно самого этого индивидуума, но при этом оно обязано иметь самый бдительный надзор над тем, как индивидуум пользуется властью, которой оно дозволяет ему иметь над другими людьми. Семейные отношения имеют столь непосредственное влияние на счастье людей, что едва ли не должны мы признать за ними большее даже значение, чем за всеми прочими вместе взятыми случаями, когда индивидуумы имеют власть друг над другом, а между тем мы находим в действительной жизни почти совершенное отсутствие всякого контроля над этими отношениями. Мы не находим нужным распространяться касательно почти деспотической власти мужей над женами, так как защитники этой несправедливой власти и не пытаются даже оправдать ее перед требованием свободы, и притом для устранения этого зла ничего более не требуется, как только признать за женами равные с мужьями права и сравнить их перед законом со всеми другими людьми. Относительно же отношений к детям мы встречаем столь превратные понятия о свободе, что эти понятия составляют действительное препятствие для исполнения государством его обязанностей. Можно подумать, что и в самом деле дети буквально составляют часть своего отца, а не только метафорически, – до такой степени враждебно люди смотрят на малейшее вмешательство закона в неограниченную и исключительную власть родителей над детьми; они относятся к такого рода вмешательству, можно сказать, даже враждебнее, чем к какому бы то ни было вмешательству в то, что касается только их самих: они вообще ценят власть гораздо выше, чем свободу. Возьмем для примера хоть воспитание. Не составляет ли это такую аксиому, которая почти очевидна сама по себе, что государство обязано требовать и даже принуждать, чтобы все человеческие существа, родящиеся его гражданами, получали хотя некоторое воспитание? А между тем, много ли найдется людей, которые бы решились открыто признавать и отстаивать эту истину.
Никто, конечно, не станет отрицать, что это составляет одну из самых священных обязанностей для родителей (при существующих законах и обычаях правильнее сказать: для отца) дать произведенному им на свет существу такое воспитание, которое бы делало его способным выполнить предстоящие требования жизни как по отношению к самому себе, так и по отношению к другим. Все единодушно признают, что отцы обязаны воспитывать своих детей, но при этом с не меньшим единодушием восстают против всякой мысли о каких-либо принудительных к тому мерах. Не только не принуждают родителей делать какие-либо усилия для воспитания своих детей, но предоставляют даже совершенно их произволу пользоваться или не пользоваться и теми средствами к воспитанию, которые они могут иметь совершенно gratis. До сих пор еще люди не признают той истины, что произвести на свет человека, не имея в виду средств не только вскормить, но и воспитать и образовать его, есть нравственное преступление как по отношению к этому человеку, так и по отношению к обществу, – они до сих пор не признают, что если родители не выполняют своих обязанностей к детям, то государство должно озаботиться тем, чтобы эти обязанности были ими выполнены, насколько это возможно.
Если бы принцип общего обязательного воспитания был признан, то это положило бы конец всем затруднениям касательно того, чему должно учить государство и как должно оно учить. Эти затруднения служат теперь полем битвы, на котором меряют свои силы разные секты и партии, тратя таким образом на споры о воспитании и время, и труд, которые могли бы быть употреблены на самое воспитание. Если бы правительство признало своей обязанностью требовать, чтобы все дети получали хорошее воспитание, то этим самым оно избавило бы себя от всяких забот о доставлении воспитания. Но могло бы тогда предоставлять родителям полную свободу воспитывать своих детей, где и как хотят, и должно было бы только помогать недостаточным людям нести издержки на воспитание, или же, смотря по обстоятельствам, брать эти издержки на себя. Те совершенно основательные возражения, которые обыкновенно делаются против государственного вмешательства в дело воспитания, относятся не к обязанности воспитания, а к тому, когда государство берет воспитание непосредственно на самого себя. Но казенное воспитание и обязательное воспитание, – это две вещи, совершенно различные. Я не менее, чем кто-либо, восстаю против той системы, которая хочет, чтобы все воспитание или большая часть воспитания народа было в руках государства. Все, что мы сказали об индивидуальности, о разнообразии характеров, мнений, образов жизни, все это с равной силой относится и к разнообразию в воспитании. Общее казенное воспитание ведет к тому, чтобы сделать всех людей похожими друг на друга, сформировать всех на один образец, и именно на тот, который нравится господствующей власти, и все равно, будет ли это власть монарха, духовенства, аристократии, или большинства существующего поколения, во всяком случае, чем она могущественнее, тем с большим деспотизмом властвует она над умами и естественным образом тяготеет к тому, чтобы подчинить этому деспотизму и самое тело. Если и можно допустить такое воспитание, которое бы давалось и контролировалось самим государством, то разве только как практическое применение одного из возможных способов воспитания, как такое применение, которое бы служило для других способом воспитания примером и стимулом. Конечно, когда общество находится вообще в таком состоянии, что не может или не желает само заботиться о воспитании, тогда правительственная власть, имея перед собой два великих зла, должно выбрать меньшее из них и взять на себя устройство школ и университетов, как оно берет иногда на себя выполнение некоторых больших промышленных предприятий, которые должны были бы быть делом частной предприимчивости, но которые частная предприимчивость оказывается несостоятельной выполнить. Заметим вообще, что там, где существует достаточное число людей, способных заниматься делом воспитания под непосредственным руководством правительства, там эти же самые люди были бы способны заниматься и охотно занимались бы своим делом совершенно свободно, без всякого правительственного вмешательства, если бы только закон, устанавливая обязательное воспитание и вспоможение тем, которые не в состоянии нести на себе издержки по воспитанию, обеспечивал бы им таким образом вознаграждение за их труд.
При существовании обязательного воспитания вся воспитательная деятельность правительства могла бы ограничиться только публичной экзаменовкой всех детей, начиная с самого раннего возраста. Мог бы быть установлен возраст, в который каждый ребенок (одинаково как мальчик, так и девочка) должны были бы подвергаться экзамену для удостоверения, умеют ли они читать. Если бы ребенок оказался не умеющим читать и отец не представил бы достаточных оснований для оправдания этого незнания, то в таком случае можно было бы налагать на отца небольшой штраф, заставляя его, если это необходимо, уплачивать штраф работой и помещать ребенка в школу на его счет. Подобные экзамены могли бы возобновляться ежегодно, постепенно увеличивая количество требуемого знания, и таким образом можно было бы достигнуть того, что действительно сделался бы обязательным для всех и поддерживался во всех известный minimum знания. Кроме этих экзаменов по обязательному для всех минимуму, могли бы быть установлены добровольные экзамены по всем предметам знания и могли бы быть желающим выдаваемы удостоверения в степени приобретенных ими познаний. Чтобы подобные меры не обратились в руках государства в орудие для управления мнениями людей, требования экзаменов (кроме чисто элементарных частей знания, как например, языков и их употребления) можно было бы ограничить знанием исключительно только одних фактов и положительных наук. Что же касается до религии, политики и других спорных предметов, то экзамены по этим предметам, оставляя в стороне вопросы об истине или ложности того или другого мнения, могли бы ограничиваться только одной фактической стороной, что такие-то писатели, школы, церкви держались по известному вопросу такого-то мнения, на тех-то основаниях. Поколение, воспитанное по этой схеме, было бы относительно всех спорных истин не в худшем положении, чем в каком люди находятся теперь; и тогда, как теперь, одни становились бы православными, другие иноверцами, и государство только заботилось бы о том, чтобы как те, так и другие, безразлично имели известную степень познаний. Нет никакого препятствия к тому, чтобы обучали и религии, по желанию родителей, в тех же самых школах, в которых обучали бы другим предметам, всякая попытка со стороны государства дать то или другое направление мнениям своих граждан по каким-либо спорным вопросам есть, конечно, зло, но в этом нет никакого зла, чтоб государство производило проверку и удостоверяло, что такое-то лицо имеет известные познания, делающие его в большей или меньшей степени способным иметь свое суждение о данном предмете. Если изучающий философию хочет иметь удостоверение, что он знает и систему Локка, и систему Канта, то экзаменатор должен только удостовериться, действительно ли он знает эти предметы; но до него вовсе не касается, которой из этих систем держится экзаменующийся, или не держится ни одной из них. Я не вижу никакого основательного возражения, почему бы атеист не мог быть экзаменуем, каким образом доказывается истинность христианского учения, не требуя от него при этом, чтобы он исповедовал христианскую веру. По моему мнению экзамен из высших отраслей знания должен быть не обязателен. Весьма опасно было бы предоставить правительству власть не допускать до какой-то профессии, хотя бы даже до профессии учителя, под предлогом недостатка требующихся для этого качеств, и я совершенно разделяю мнение Вильгельма Гумбольдта, что ученые степени и вообще всякого рода дипломы, свидетельствующие о познаниях по какой-либо науке или профессии, должны быть выдаваемы без препятствия всем, что только пожелает экзаменоваться и выдержит экзамен, но дипломы эти не должны давать никаких преимуществ перед соревнователями по профессии – они должны иметь только то знание, какое им дает общественное мнение.
Общераспространенные неправильные понятия о свободе препятствуют признанию нравственных обязанностей со стороны родителей, а в некоторых случаях и узаконению этих обязанностей не только в одном деле воспитания. Произвести на свет человеческое существо, это есть одно из тех действий, которое влечет за собой наибольшую ответственность. Взять на себя такую ответственность – произвести на свет человеческое существо и не обеспечить ему по крайней мере тех общих условий, какие необходимы, чтобы сделать для него возможным такое существование, которое могло бы для него сколько-нибудь желательно, – дать жизнь человеку, не заботясь о том, не будет ли эта жизнь для него источником одних только страданий, есть преступление против этого человека. В такой стране, которая и без того уже имеет чрезмерное население, или которой грозит излишек населения, рождение большого количества детей влечет за собой понижение вознаграждения за труд и, следовательно, причиняет вред всем тем, которые живут трудом. Законы, запрещающие во многих странах Европы вступать в брак тем людям, которые не представят доказательства, что имеют средства, чем содержать семью, – такие законы нисколько не переступают за пределы власти, справедливо признаваемой за государством. Достигают ли эти законы своей цели или не достигают (что совершенно зависит от разных местных условий), во всяком случае, несправедливо было бы их упрекать в нарушении свободы. Государство имеет целью с помощью этих законов воспрепятствовать совершению поступка, столь дурного и столь вредного для других, что если он и не признается подлежащим легальной каре, то тем не менее заслуживает не только порицания, но и самого сильного осуждения со стороны общества. Но, несмотря на это, общераспространенные идеи о свободе, которые так легко мирятся с действительными нарушениями индивидуальной свободы в предметах, касающихся только самих индивидуумов, восстают против всякого стеснения индивидуума по удовлетворению таких наклонностей, которых удовлетворение обрекает человека или даже нескольких человек на жизнь, полную бедствий и страданий, и вместе с тем через это причиняет зло и другим людям, которым приходится быть с этими несчастными в близких сношениях. Если бы мы положились на то странное уважение и не менее странное неуважение, какое люди оказывают свободе, то должны были бы признать, что индивидуум, имеет право делать вред другим и не имеет право делать того, что ему нравится и что никому не вредит.
Я намерен закончить мое исследование рядом вопросов касательно такого правительственного вмешательства, которое строго говоря, не входит в предмет настоящего исследования, но тем не менее находится с ним в тесной связи. Я намерен говорить о тех случаях, в которых доводы против правительственного вмешательства опираются не на принцип свободы, где дело идет не о стеснении действий индивидуума, а о том, чтобы помогать его действиям. Такой вопрос возникает о том: должно ли правительство в некоторых случаях само что-либо делать или помогать к сделанию чего-либо, что полезно для индивидуумов, или же должно воздерживаться от всякого подобного вмешательства и предоставлять индивидуумов их собственным силам, чтобы они сами достигали желаемого, действуя индивидуально или сообща, в форме какой-либо ассоциации.
Против этого правительственного вмешательства, не заключающего в себе нарушения свободы, могут быть сделаны такого рода возражения.
Во-первых, индивидуумы всегда лучше сделают, чем правительство, всякое дело, которое до них касается. Говоря вообще никто так не способен управлять каким-либо делом, указать, как и кем должно быть оно сделано, как те, которые лично заинтересованы в этом деле. Этот принцип заключает в себе осуждение вмешательства законов и администрации в обыкновенные промышленные операции. Такое вмешательство было некогда явлением весьма обыкновенным. Впрочем, эта сторона вопроса удовлетворительно разобрана экономистами и не представляет никакой особенности по отношению к занимающему нас предмету.
Второе возражение гораздо ближе касается нашего предмета. Есть много таких дел, к исполнению которых частные лица оказываются, обыкновенно, менее способными, чем правительственные чиновники, но тем не менее желательно, чтобы эти дела исполнялись частными лицами, а не правительством, – желательно потому, что предоставление их частной деятельности служит могущественным средством к умственному воспитанию индивидуумов и развитию их способностей, к упражнению их способности суждения, к ближайшему их ознакомлению с теми или другими предметами, до них касающимися. Вот в чем заключается не единственный, конечно, но главный довод в пользу присяжных (это замечание не относится, разумеется, до политических дел), в пользу свободных местных и муниципальных учреждений, в пользу ведения больших промышленных и филантропических предприятий посредством свободных ассоциаций. Очевидно, что тут идет дело, собственно, не о свободе, а о развитии, и что все это имеет со свободой только косвенную связь. Здесь не место распространяться о том, что предоставление этих дел частной деятельности, действительно, имеет великое значение для народного воспитания, что оно, действительно, воспитывает гражданина, составляет практическую сторону политического воспитания свободного народа, выводит индивидуума из узкого круга личных и семейных стремлений и вводит его в сферу общих интересов, приучает его к введению общих дел, делает способным действовать не по эгоистическим только побуждениям, направляет его деятельность к таким целям, которые соединяют, а не разъединяют людей. Там, где индивидуумы находятся в условиях, препятствующих развитию в них этих качеств, там свободные политические учреждения не могут действовать надлежащим образом и не могут долго сохраняться, как мы видим этому много примеров в тех странах, где политическая свобода не имеет твердого базиса в гражданской свободе. Заведование местных дел самими местностями, ведение больших промышленных предприятий посредством свободного соединения индивидуальных сил, все это имеет на своей стороне все те преимущества вообще индивидуальному развитию и разнообразию способов действия. Правительственная деятельность всегда во всем и повсюду имеет наклонность к однообразию. Напротив, деятельность индивидуальная и посредством свободных ассоциаций всегда отличается наклонностью к бесконечному разнообразию. Все, что в этом отношении государство может делать полезного, это – быть, так сказать, центральным складочным местом, откуда бы все могли черпать то, что уже изведано опытом других людей. Не препятствовать своим гражданам производить новые опыты, а, напротив, заботиться о том, чтобы каждый желающий произвести новый опыт, мог воспользоваться всеми по этому предмету опытами других людей – вот в чем состоит обязанность государства.
Третий и самый сильный довод в пользу ограничения правительственного вмешательства заключается в том, что всегда в высшей степени вредно увеличивать правительственную власть без крайней к тому необходимости. Всякое расширение правительственной деятельности имеет то последствие, что усиливает правительственное влияние на индивидуумов, увеличивает число людей, возлагающих на правительство свои надежды и опасения, превращает деятельных и честолюбивых членов общества в простых слуг правительства. Если бы дороги, банки, страхование, большие акционерные предприятия, университеты, благотворительные учреждения, если бы все это было делом правительственным, и вдобавок к этому если бы муниципальные корпорации и местные учреждения, со всеми теперешними их атрибутами, были простыми органами центральной администрации, которые заведовались бы чиновниками по назначению и на жаловании от правительства, то при таких условиях свобода исчезла бы, и вообще свободные учреждения, как у нас, в Англии, так и во всякой стране, могли бы существовать только номинально, – и зло от такого порядка вещей было бы тем более, чем с большим искусством и с большим знанием дела была бы устроена административная машина, и чем способнее были бы те руки и те головы, с помощью которых она работала. В последнее время в Англии предлагали ввести такую меру, чтобы все должности по гражданской службе, занимаемые теперь по назначению от правительства, замещались по конкурсу; таким образом полагали приобрести для гражданской службы самых способных и образованных людей. Многое было сказано и написано по этому случаю и за, и против подобной меры. Один из главных аргументов, на который особенно сильно напирали противники этой меры, состоял в том, что государственная служба не дает достаточного вознаграждения и не представляет такой привлекательной перспективы, чтобы привлечь к себе лучшие дарования, – что другие профессии, служба в частных обществах и в других частных учреждениях, всегда будут представлять для талантливых людей карьеру, более для них привлекательную. Ничего не было бы удивительного, если бы этот аргумент был приведен защитником обсуждавшейся системы в ответ на главное затруднение, какое она представляет; но нельзя не удивляться тому, что ее противники представляли, как главный против нее аргумент, именно то, что составляет в ней, так сказать, предохранительный клапан. Такая система, которая имела бы своим результатом привлечение на государственную службу всех лучших дарований, представляла бы, конечно, серьезную опасность. Если правительство возьмет на себя удовлетворение всех этих общественных потребностей, для удовлетворения которых необходимы организованное действие сообща, широкая обдуманная предприимчивость, и если при этом оно привлечет к себе на службу самых способных людей, то тогда в государстве образуется многочисленная бюрократия, в которой сосредоточится все высшее образование, вся практическая интеллигенция страны (мы исключаем из этого чисто спекулятивную интеллигенцию), – вся остальная часть общества станет по отношению к этой бюрократии в положение опекаемого, будет ожидать от нее советов и указаний, как и что ей делать, – тогда честолюбие самых способных и деятельных членов общества обратится на то, чтобы вступить в ряды этой бюрократии, и раз вступив, подняться как можно выше по ступеням ее иерархии.
При таком порядке вещей вся та часть общества, которая находится вне бюрократии, сделается совершенно неспособной, по недостатку практического опыта, обсуждать или сдерживать бюрократическую деятельность. Никакая бюрократия не в состоянии принудить такой народ как американцы делать или терпеть что-нибудь, чего он не хочет. Но там, где все делает за народ бюрократия, там ничто не может быть сделано, что противно интересам бюрократии. Политическая организация бюрократических стран представляет нам сосредоточение всего опыта, всей практической способности народа в одну дисциплинированную корпорацию для управления остальной его частью, – и чем совершеннее эта организация, чем более привлекает она к себе способности из всех слоев общества, чем успешнее воспитывает она людей для своих целей, тем полнее общее порабощение, а вместе с тем и порабощение самих членов бюрократии. В таких странах правители настолько же рабы бюрократической организации и дисциплины, насколько управляемые – рабы правителей. Китайский мандарин есть в такой же степени орудие и креатура деспотизма, как и самый последний земледелец. Каждый иезуит есть полный раб своего ордена и существует только ради коллективной силы и значения своих членов.
Не надо также забывать, что поглощение всех лучших способностей страны в правительственную корпорацию рано или поздно делается бедственным для умственной деятельности и прогрессивности самой этой корпорации. Будучи крепко сплочена, действуя как система, и следовательно, как и все системы, руководствуясь в своих действиях известными, раз установленными правилами, правительственная корпорация подвергается постоянно искушению впасть в беспечную рутину, превратиться в мельничную лошадь, и когда она раз впадет в такое состояние, то если по временам и выходит из него, так разве только увлекаясь какой-нибудь незрелой идеей, успевшей завладеть фантазией одного из руководящих его членов. Эти наклонности, общие всем бюрократическим корпорациям, находятся между собой в тесной связи, хотя, по-видимому, и противоречат одна другой. Единственно, что может сдерживать эти наклонности, что может служить стимулом для поддержания способностей бюрократии на известной степени высоты, это – если способности бюрократии будут предметом неусыпной критики со стороны других не менее сильных способностей, находящихся вне ее. Но для этого необходимо существование таких условий, при которых могли бы независимо от правительства, формироваться люди, способные и приобретать те качества и ту опытность, без которых невозможно правильное суждение о важных практических делах. Если вы хотите иметь постоянно хорошую корпорацию чиновников, и притом такую корпорацию, которая была бы способна создавать улучшения и имела бы охоту их воспринимать, если вы хотите, чтоб ваша бюрократия не переродилась в педантократию, то не допускайте, чтобы она сосредоточивала в себе все занятия, которые образуют и воспитывают способности, необходимые для управления людьми.
Указать тот пункт, за который коллективная сила общества, управляемая признанными ее руководителями, не должна заходить в своем стремлении к устранению препятствий, лежащих на пути к достижению общего блага, – указать тот пункт, с которого применение этой силы становится вредным для свободы и прогресса, или правильнее сказать, с которого зло от применения этой силы начинает преобладать над истекающим из нее добром – сохранить насколько возможно все выгоды, какие представляет политическая и интеллектуальная централизация, избегая при этом чрезмерного поглощения частной деятельности правительственною, вот один из самых трудных и самых сложных вопросов в науке управления. Это – такой вопрос, который не допускает общего абсолютного решения; его решение условливается главным образом, практическими подробностями, требует принятия во внимание весьма многочисленных и разнообразных соображений. Впрочем, я полагаю возможным признать следующее общее правило, как практический принцип, который можно безопасно принять в руководстве как идеал, который надо иметь постоянно в виду, как критерий, по которому следует обсуждать все мероприятия к преодолению препятствий: наивозможно большее раздробление власти при полном достижении тех целей, какие должна иметь власть, и вместе с этим наивозможно большая централизация знания и наивозможно большее излияние этого знания от центра. Так в муниципальной администрации, подобно тому, как это существует в штатах Новой Англии, все местные дела, не подлежащие непосредственному заведованию тех, кого непосредственно касаются, должны быть раздробляемы между отдельными должностными лицами, избранными местным населением, и кроме того, каждый особый род местных дел должен подлежать надзору особого центрального учреждения, которое составляло бы часть общего правительства. Орган этого центрального надзора должен сосредоточивать в себе, как в фокусе, все разнообразное знание и весь опыт, какие только могут быть почерпнуты из того, что делается во всех местностях по известной отрасли общественных дел, а также из того, что делается по этому предмету в других странах, и, наконец, из общих принципов политической науки. Этот центральный орган должен знать все, что только делается по предмету, и его специальная обязанность должна состоять в том, чтобы делать приобретенное им знание полезным для других. Надо предполагать, что, будучи поставлен на такую высоту, которая делает для него доступной столь широкую сферу для наблюдения, подобный орган будет чужд мелких предрассудков и узких взглядов, свойственных местным органам, и его мнения будут иметь большой авторитет; но власть его, по моему мнению, должна ограничиваться только понуждением местных должностных лиц к исполнению законов, данных им в руководство. Во всем том, что не предусмотрено общими правилами, местные должностные лица должны быть предоставлены своему собственному суждению под личной ответственностью перед своими избирателями. За нарушение правил эти лица должны быть ответственны перед законом, а сами правила должны устанавливаться законодательной властью. Центральная административная власть должна только наблюдать за исполнением законов, и если законы не используются надлежащим образом, то смотря по роду дела, должна или обратиться к суду для восстановления силы закона, или к избирателям для устранения от должности лица, не исполняющего законы как следует. Нечто похожее на такой центральный орган надзора, какой мы предположили, представляет бюро закона о бедных (Poor Law Board), имеющие назначением надзирать за администраторами налога для бедных (Poor Rate). Хотя власть этого бюро и переходит за пределы той власти, какая, по нашему мнению, должна принадлежать центральному надзирающему органу, но в этом частном случае такое расширение власти было справедливо и необходимо, так как этому бюро предстояло искоренить глубоко укоренившиеся привычки дурной администрации и, притом, дело шло о таком предмете, который глубоко затрагивает не только интересы местностей, но интересы всего общества. И в самом деле, нельзя же ведь признать, чтобы какая-нибудь местность имела нравственное право через дурное ведение своих дел превращать себя в гнездо пауперизма, потому что этот пауперизм неизбежно будет переходить на другие местности и таким образом вредить нравственному и физическому благосостоянию всего рабочего класса. Впрочем, если в данном случае и может быть совершенно оправдана та административная и законодательная власть, какая предоставлена бюро закона о бедных (и которой это бюро пользуется весьма умеренно, благодаря господствующему на этот счет в обществе мнению), так как тут дело идет о первостепенном интересе всего народа, но ни в каком случае не может быть оправдано предоставление подобной власти такому органу, который надзирает за интересами чисто местными. Существование центральных надзирающих органов было бы равно полезно по всем отраслям администрации. Никогда не может быть излишней такая деятельность правительства, которая не препятствует индивидуальной деятельности и индивидуальному развитию, а только помогает им, поощряет их. Зло начинается там, когда вместо того, чтобы вызвать людей на деятельность индивидуальную или коллективную, правительство заменяет их деятельностью своей собственной, когда вместо того, чтобы служить источником, откуда каждый мог бы черпать нужные ему сведения, вместо того, чтобы советовать, а в случае нужды и призывать на суд, оно заставляет людей работать против их воли или стоять в стороне, сложа руки, и само за них делает то, что они должны были бы делать. В конце концов государство всегда бывает не лучше и не хуже, чем индивидуумы его составляющие. Если оно предпочтет административное искусство, или, лучше сказать, эту кажущуюся способность, которая приобретается практическим занятием подробностями какого-нибудь дела, – если оно это предпочтет широкому и высокому индивидуальному развитию и умалит таким образом своих граждан, чтобы сделать послушным в своих руках орудием для достижения хотя бы даже и благих целей, то не замедлит оно убедиться, что с маленькими людьми нельзя сделать ничего великого, и что превосходная его машина, для совершенства которой оно всем пожертвовало, ни к чему не пригодна по причине отсутствия жизненной силы, которую оно задавило, чтобы облегчить ход своей машины.
notes