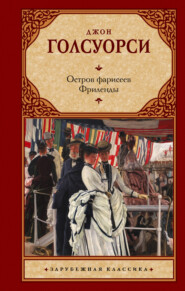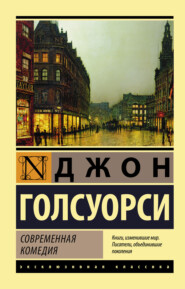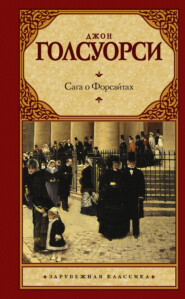По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Цвет яблони
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Цвет яблони
Джон Голсуорси
Лауреат Нобелевской премии Джон Голсуорси хорошо известен в нашей стране как автор знаменитой «Саги о Форсайтах». Однако его перу принадлежат не менее замечательные новеллы, рассказы и маленькие повести, проникнутые юмором, мягкой лиричностью и романтизмом.
«Цвет яблони» – повесть из сборника «Пять рассказов».
Джон Голсуорси
Цвет яблони
«Цвет яблони и золото весны…»
Еврипид, «Ипполит».
В день своей серебряной свадьбы Эшерст с женой поехали на автомобиле поросшей вереском долиной, собираясь переночевать в Торки, где они встретились впервые. Этот план принадлежал Стелле Эшерст, всегда немного склонной к сентиментальности. Она давно уже утратила ту нежную синеглазую прелесть, ту свежесть красок, напоминавшую цвет яблони, ту чистую линию строгой и стройной девичьей фигурки, что так внезапно и странно околдовали Эшерста двадцать шесть лет тому назад. Но и в сорок три года она оставалась привлекательной и милой спутницей жизни с чуть поблекшим румянцем и серо-голубыми глазами, ставшими глубже и вдумчивей.
Она сама остановила машину у поворота. Шоссе круто подымалось влево, а небольшой перелесок, где среди лиственниц и буков темнели сосенки, спускалось к долине, у подножия высокой гряды холмов, за которыми шла вересковая пустошь. Стелла искала места, где можно было бы позавтракать, Эшерст никогда ни о чем не заботился – и это место, среди золотого боярышника и пушистой зелени лиственниц, пахнувших лимоном под нежарким апрельским солнцем, место, откуда открывался вид на широкую долину и на длинную гряду холмов, очень понравилось Стелле, писавшей акварелью этюды с натуры и любившей романтические уголки. Захватив свои краски, она вышла из автомобиля.
– Здесь хорошо, правда, Фрэнк?
Высокий, длинноногий, похожий на бородатого Шиллера, с поседевшими висками и большими задумчивыми серыми глазами, которые иногда становились особенно выразительными и почти прекрасными, с чуть асимметричным носом и слегка приоткрытыми губами, Эшерст – сорокавосьмилетний молчаливый человек взял корзинку и тоже вышел из машины.
– О Фрэнк, смотри: могила!
У перекрестка, где тропинка пересекала шоссе под прямым углом и убегала через изгородь дальше, к опушке рощицы, виднелся холмик футов в шесть длиной и в фут шириной, с большим замшелым камнем. Кто-то бросил на камень ветку шиповника и пучок синих колокольчиков. Эшерст взглянул на могилу, и поэтическая струна дрогнула в его душе. На перекрестке… могила самоубийцы… Бедные смертные: сколько у них предрассудков! Но тому, кого похоронили, – не лучше ли ему лежать здесь, где нет рядом безобразных памятников, исписанных напыщенными пустыми словами, а только простой камень, широкое небо да участливая жалость прохожих…
В лоне семьи Эшерста не особенно поощряли философствования, поэтому он ничего не сказал про могилу и, вернувшись к шоссе, поставил у каменной изгороди корзинку с завтраком, разостлал плед для жены – она должна была вернуться со своих этюдов, когда проголодается, – а сам вынул из кармана «Ипполита» в переводе Мэррея. Он прочел о Киприде и злой ее мести и задумчиво уставился в небо. И в этот день, день его серебряной свадьбы, от бега белых облаков в чистой синеве Эшерста вдруг охватила тоска, он и сам не знал о чем. Как мало приспособлен к жизни человеческий организм! Какой бы полной и значительной жизнь ни была, всегда остается какая-то неудовлетворенность, какая-то подсознательная жадность, ощущение уходящего времени. Бывает ли такое чувство у женщин? Кто знает? И все же люди, которые вечно рвались к новизне в ненасытной жажде новых приключений, новых дерзаний, новых страстей, – такие люди, несомненно, страдали от чувства, противоположного неудовлетворенности, – от пресыщения.
Да, от этого не уйдешь. Какое все-таки плохо приспособленное к жизни животное – цивилизованный человек! Для него не существует блаженного успокоения в прекрасном саду, где «цвет яблони и золото весны», как поет дивный греческий хор в «Ипполите», нет в жизни достижимого блаженства, тихой гавани счастья, – ничего, что могло бы соперничать с красотой, плененной в произведениях искусства, красотой вечной и неизменной. И читать о ней, смотреть на нее – значит испытывать ни с чем не сравнимый восторг, счастливое опьянение… Правда, и в жизни бывают проблески той же нежданной и упоительной красоты, но они исчезают быстрее, чем мимолетное облако, скользнувшее по солнцу. И невозможно удержать их, как удерживает красоту высокое искусство. Они исчезают подобно золотым, сверкающим видениям, что всплывают в сознании человека, погруженного в созерцание природы, проникающего в сокровенные ее недра. И сейчас, когда солнце горячо прильнуло к его лицу и зов кукушки звенел из зарослей боярышника, когда медвяный воздух колыхался над молодой зеленью папоротника и звездочками терновника, а высоко над холмами и сонными долами плыли светлые облака, Эшерсту казалось, что близко полное познание природы. Но он знал: это ощущение исчезнет, как лик Пана, выглянувшего из-за скалы, исчезает при виде человека.
Вдруг Эшерст привстал. Необычайно знакомым показался ему весь пейзаж длинная лента дороги, старая каменная ограда, узкая тропа. Он ничего не заметил, когда они проезжали, – совершенно ничего, он думал совсем о другом, или, вернее, ни о чем не думал. Но сейчас он вспомнил все. Двадцать шесть лет тому назад, в такой же весенний день, он ушел по этой самой дороге с фермы, лежавшей в полумиле отсюда, ушел в Торки и никогда больше не возвращался. И вдруг острая боль сжала его сердце: он вспомнил нечаянно о той минуте в прошлом, когда он не сумел удержать настоящую красоту и радость, ускользнувшую от него в неизвестное. Нечаянно он воскресил угасшее воспоминание о сладком, диком счастье, оборванном так быстро и неожиданно. Он лег в траву и, подперев голову руками, стал разглядывать молодые стебельки, среди которых цвел голубой ленок. Вот что вспомнилось ему.
1
Первого мая Фрэнк Эшерст и его друг Роберт Гартон, только что окончившие университет, были в пути. Они совершали большую прогулку и в этот день вышли из Брента, собираясь дойти до Шегфорда. Но колено Эшерста, поврежденное во время игры в футбол, давало о себе знать, а судя по карте ям оставалось идти еще около семи миль. У дороги, где тропа углублялась в лес, они присели, чтобы дать отдохнуть больной ноге Эшерста, и стали обсуждать мировые вопросы, как это всегда делают молодые люди. Оба были ростом в шесть футов с лишним и худые, как жерди; Эшерст – бледный, мечтательный, рассеянный; Гартон – диковатый, порывистый, курчавый и мускулистый, как первобытный зверь. Оба питали склонность к литературе, оба ходили без шапок. Светлые, мягкие и волнистые волосы Эшерста вились вокруг лба, как будто их все время откидывали, а темные непокорные кудри Гартона походили на гриву. На много миль кругом они не встретили ни души.
– Дорогой мой, – говорил Гартон, – жалость – просто следствие копания в себе. Это болезнь последних пяти тысяч лет. Мир был гораздо счастливее, когда не знал жалости.
Эшерст задумчиво следил за облаками.
– Но, во всяком случае, жалость – жемчужина мира.
– Нет, мой друг, все наши современные несчастья происходят от жалости. Возьми, к примеру, животных или краснокожих индейцев, их волнуют только собственные беды, а мы вечно мучаемся от чужой зубной боли. Давай перестанем жалеть других, и мы будем куда счастливей.
– Ты сам на это не способен.
Гартон задумчиво взъерошил свою густую шевелюру.
– Кто хочет познать жизнь по-настоящему, тот не должен быть слишком щепетильным. Морить голодом свое эмоциональное «я» – ошибка. Всякая эмоция только обогащает жизнь.
– Да? А если она противоречит чести?
– О, как это характерно для англичанина! Когда заговариваешь об эмоциях, о чувстве, англичане всегда подозревают, что речь идет о физической чувственности, и это их страшно шокирует. Они боятся страсти, но не сладострастия, – о нет! Лишь бы все удалось скрыть.
Эшерст ничего не ответил. Он сорвал голубенький цветок и стал сравнивать его с небом. Кукушка закуковала в зеленой гуще ветвей. Небо, цветы, птичьи голоса… Роберт говорит вздор.
– Пойдем поищем какую-нибудь ферму, где мы могли бы переночевать, сказал Эшерст и в эту минуту заметил девушку, шедшую в их сторону. Четко вырисовывалась она на синем небе, под согнутой в локте рукой – она несла корзинку – тоже виднелся кусочек неба. И Эшерст, невольно и бескорыстно отмечавший все прекрасное, сразу подумал: «Как красиво» Ветер вздувал ее темную шерстяную юбку и трепал синий берет. Ее серая блуза была изношена, башмаки потрескались, маленькие руки огрубели и покраснели, а шея сильно загорела. Темные волосы в беспорядке падали на высокий лоб, подбородок мягко закруглялся, короткая верхняя губка открывала белые зубы. Ресницы у нее были густые и темные, а тонкие брови почти сходились над правильным, прямым носом. Но настоящим чудом казались ее серые глаза, влажные и ясные, как будто впервые открывшиеся в этот день. Она глядела на Эшерста: ее, вероятно, поразил странный хромой человек без шляпы, с откинутыми назад волосами, уставившийся на нее своими огромными глазами. Он не мог снять шляпы, ибо на нем ее не было, а просто поднял руку в знак приветствия и сказал:
– Не укажете ли вы нам поблизости какую-нибудь ферму, где бы мы могли переночевать? У меня разболелась нога.
– Здесь неподалеку только наша ферма, сэр, – проговорила она без смущения приятным, очень нежным и звонким голосом.
– А где это?
– Вон там дальше, сэр.
– Не приютите ли вы нас на ночь?
– Да, я думаю, можно будет.
– Вы нам покажете дорогу?
– Да, сэр.
Эшерст молча захромал вслед за ней, а Гартон продолжал расспросы:
– Вы уроженка Девоншира?
– Нет, сэр.
– А откуда же вы?
– Из Уэльса.
– Ага! Я так и думал, что в вас кельтская кровь. Значит, это не ваша ферма?
– Нет, она принадлежит моей тетке, сэр.
– И вашему дяде?
– Он умер.
– А кто же там живет?
– Моя тетка и три двоюродных брата.
– Но дядя ваш был из Девоншира?
– Да, сэр.
Джон Голсуорси
Лауреат Нобелевской премии Джон Голсуорси хорошо известен в нашей стране как автор знаменитой «Саги о Форсайтах». Однако его перу принадлежат не менее замечательные новеллы, рассказы и маленькие повести, проникнутые юмором, мягкой лиричностью и романтизмом.
«Цвет яблони» – повесть из сборника «Пять рассказов».
Джон Голсуорси
Цвет яблони
«Цвет яблони и золото весны…»
Еврипид, «Ипполит».
В день своей серебряной свадьбы Эшерст с женой поехали на автомобиле поросшей вереском долиной, собираясь переночевать в Торки, где они встретились впервые. Этот план принадлежал Стелле Эшерст, всегда немного склонной к сентиментальности. Она давно уже утратила ту нежную синеглазую прелесть, ту свежесть красок, напоминавшую цвет яблони, ту чистую линию строгой и стройной девичьей фигурки, что так внезапно и странно околдовали Эшерста двадцать шесть лет тому назад. Но и в сорок три года она оставалась привлекательной и милой спутницей жизни с чуть поблекшим румянцем и серо-голубыми глазами, ставшими глубже и вдумчивей.
Она сама остановила машину у поворота. Шоссе круто подымалось влево, а небольшой перелесок, где среди лиственниц и буков темнели сосенки, спускалось к долине, у подножия высокой гряды холмов, за которыми шла вересковая пустошь. Стелла искала места, где можно было бы позавтракать, Эшерст никогда ни о чем не заботился – и это место, среди золотого боярышника и пушистой зелени лиственниц, пахнувших лимоном под нежарким апрельским солнцем, место, откуда открывался вид на широкую долину и на длинную гряду холмов, очень понравилось Стелле, писавшей акварелью этюды с натуры и любившей романтические уголки. Захватив свои краски, она вышла из автомобиля.
– Здесь хорошо, правда, Фрэнк?
Высокий, длинноногий, похожий на бородатого Шиллера, с поседевшими висками и большими задумчивыми серыми глазами, которые иногда становились особенно выразительными и почти прекрасными, с чуть асимметричным носом и слегка приоткрытыми губами, Эшерст – сорокавосьмилетний молчаливый человек взял корзинку и тоже вышел из машины.
– О Фрэнк, смотри: могила!
У перекрестка, где тропинка пересекала шоссе под прямым углом и убегала через изгородь дальше, к опушке рощицы, виднелся холмик футов в шесть длиной и в фут шириной, с большим замшелым камнем. Кто-то бросил на камень ветку шиповника и пучок синих колокольчиков. Эшерст взглянул на могилу, и поэтическая струна дрогнула в его душе. На перекрестке… могила самоубийцы… Бедные смертные: сколько у них предрассудков! Но тому, кого похоронили, – не лучше ли ему лежать здесь, где нет рядом безобразных памятников, исписанных напыщенными пустыми словами, а только простой камень, широкое небо да участливая жалость прохожих…
В лоне семьи Эшерста не особенно поощряли философствования, поэтому он ничего не сказал про могилу и, вернувшись к шоссе, поставил у каменной изгороди корзинку с завтраком, разостлал плед для жены – она должна была вернуться со своих этюдов, когда проголодается, – а сам вынул из кармана «Ипполита» в переводе Мэррея. Он прочел о Киприде и злой ее мести и задумчиво уставился в небо. И в этот день, день его серебряной свадьбы, от бега белых облаков в чистой синеве Эшерста вдруг охватила тоска, он и сам не знал о чем. Как мало приспособлен к жизни человеческий организм! Какой бы полной и значительной жизнь ни была, всегда остается какая-то неудовлетворенность, какая-то подсознательная жадность, ощущение уходящего времени. Бывает ли такое чувство у женщин? Кто знает? И все же люди, которые вечно рвались к новизне в ненасытной жажде новых приключений, новых дерзаний, новых страстей, – такие люди, несомненно, страдали от чувства, противоположного неудовлетворенности, – от пресыщения.
Да, от этого не уйдешь. Какое все-таки плохо приспособленное к жизни животное – цивилизованный человек! Для него не существует блаженного успокоения в прекрасном саду, где «цвет яблони и золото весны», как поет дивный греческий хор в «Ипполите», нет в жизни достижимого блаженства, тихой гавани счастья, – ничего, что могло бы соперничать с красотой, плененной в произведениях искусства, красотой вечной и неизменной. И читать о ней, смотреть на нее – значит испытывать ни с чем не сравнимый восторг, счастливое опьянение… Правда, и в жизни бывают проблески той же нежданной и упоительной красоты, но они исчезают быстрее, чем мимолетное облако, скользнувшее по солнцу. И невозможно удержать их, как удерживает красоту высокое искусство. Они исчезают подобно золотым, сверкающим видениям, что всплывают в сознании человека, погруженного в созерцание природы, проникающего в сокровенные ее недра. И сейчас, когда солнце горячо прильнуло к его лицу и зов кукушки звенел из зарослей боярышника, когда медвяный воздух колыхался над молодой зеленью папоротника и звездочками терновника, а высоко над холмами и сонными долами плыли светлые облака, Эшерсту казалось, что близко полное познание природы. Но он знал: это ощущение исчезнет, как лик Пана, выглянувшего из-за скалы, исчезает при виде человека.
Вдруг Эшерст привстал. Необычайно знакомым показался ему весь пейзаж длинная лента дороги, старая каменная ограда, узкая тропа. Он ничего не заметил, когда они проезжали, – совершенно ничего, он думал совсем о другом, или, вернее, ни о чем не думал. Но сейчас он вспомнил все. Двадцать шесть лет тому назад, в такой же весенний день, он ушел по этой самой дороге с фермы, лежавшей в полумиле отсюда, ушел в Торки и никогда больше не возвращался. И вдруг острая боль сжала его сердце: он вспомнил нечаянно о той минуте в прошлом, когда он не сумел удержать настоящую красоту и радость, ускользнувшую от него в неизвестное. Нечаянно он воскресил угасшее воспоминание о сладком, диком счастье, оборванном так быстро и неожиданно. Он лег в траву и, подперев голову руками, стал разглядывать молодые стебельки, среди которых цвел голубой ленок. Вот что вспомнилось ему.
1
Первого мая Фрэнк Эшерст и его друг Роберт Гартон, только что окончившие университет, были в пути. Они совершали большую прогулку и в этот день вышли из Брента, собираясь дойти до Шегфорда. Но колено Эшерста, поврежденное во время игры в футбол, давало о себе знать, а судя по карте ям оставалось идти еще около семи миль. У дороги, где тропа углублялась в лес, они присели, чтобы дать отдохнуть больной ноге Эшерста, и стали обсуждать мировые вопросы, как это всегда делают молодые люди. Оба были ростом в шесть футов с лишним и худые, как жерди; Эшерст – бледный, мечтательный, рассеянный; Гартон – диковатый, порывистый, курчавый и мускулистый, как первобытный зверь. Оба питали склонность к литературе, оба ходили без шапок. Светлые, мягкие и волнистые волосы Эшерста вились вокруг лба, как будто их все время откидывали, а темные непокорные кудри Гартона походили на гриву. На много миль кругом они не встретили ни души.
– Дорогой мой, – говорил Гартон, – жалость – просто следствие копания в себе. Это болезнь последних пяти тысяч лет. Мир был гораздо счастливее, когда не знал жалости.
Эшерст задумчиво следил за облаками.
– Но, во всяком случае, жалость – жемчужина мира.
– Нет, мой друг, все наши современные несчастья происходят от жалости. Возьми, к примеру, животных или краснокожих индейцев, их волнуют только собственные беды, а мы вечно мучаемся от чужой зубной боли. Давай перестанем жалеть других, и мы будем куда счастливей.
– Ты сам на это не способен.
Гартон задумчиво взъерошил свою густую шевелюру.
– Кто хочет познать жизнь по-настоящему, тот не должен быть слишком щепетильным. Морить голодом свое эмоциональное «я» – ошибка. Всякая эмоция только обогащает жизнь.
– Да? А если она противоречит чести?
– О, как это характерно для англичанина! Когда заговариваешь об эмоциях, о чувстве, англичане всегда подозревают, что речь идет о физической чувственности, и это их страшно шокирует. Они боятся страсти, но не сладострастия, – о нет! Лишь бы все удалось скрыть.
Эшерст ничего не ответил. Он сорвал голубенький цветок и стал сравнивать его с небом. Кукушка закуковала в зеленой гуще ветвей. Небо, цветы, птичьи голоса… Роберт говорит вздор.
– Пойдем поищем какую-нибудь ферму, где мы могли бы переночевать, сказал Эшерст и в эту минуту заметил девушку, шедшую в их сторону. Четко вырисовывалась она на синем небе, под согнутой в локте рукой – она несла корзинку – тоже виднелся кусочек неба. И Эшерст, невольно и бескорыстно отмечавший все прекрасное, сразу подумал: «Как красиво» Ветер вздувал ее темную шерстяную юбку и трепал синий берет. Ее серая блуза была изношена, башмаки потрескались, маленькие руки огрубели и покраснели, а шея сильно загорела. Темные волосы в беспорядке падали на высокий лоб, подбородок мягко закруглялся, короткая верхняя губка открывала белые зубы. Ресницы у нее были густые и темные, а тонкие брови почти сходились над правильным, прямым носом. Но настоящим чудом казались ее серые глаза, влажные и ясные, как будто впервые открывшиеся в этот день. Она глядела на Эшерста: ее, вероятно, поразил странный хромой человек без шляпы, с откинутыми назад волосами, уставившийся на нее своими огромными глазами. Он не мог снять шляпы, ибо на нем ее не было, а просто поднял руку в знак приветствия и сказал:
– Не укажете ли вы нам поблизости какую-нибудь ферму, где бы мы могли переночевать? У меня разболелась нога.
– Здесь неподалеку только наша ферма, сэр, – проговорила она без смущения приятным, очень нежным и звонким голосом.
– А где это?
– Вон там дальше, сэр.
– Не приютите ли вы нас на ночь?
– Да, я думаю, можно будет.
– Вы нам покажете дорогу?
– Да, сэр.
Эшерст молча захромал вслед за ней, а Гартон продолжал расспросы:
– Вы уроженка Девоншира?
– Нет, сэр.
– А откуда же вы?
– Из Уэльса.
– Ага! Я так и думал, что в вас кельтская кровь. Значит, это не ваша ферма?
– Нет, она принадлежит моей тетке, сэр.
– И вашему дяде?
– Он умер.
– А кто же там живет?
– Моя тетка и три двоюродных брата.
– Но дядя ваш был из Девоншира?
– Да, сэр.