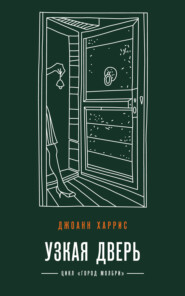По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Остров на краю света
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Только подумать. Церковь. Если святая не поможет, то кто?
– Ну, то был Черный год, – заявила Туанетта Просаж. – Тысяча девятьсот восьмой. В тот год умерла от инфлюэнцы моя сестра Мари-Лора, а я родилась.
Она пронзила воздух кривым пальцем.
– Вот она я, дитя Черного года; никто не думал, что я выживу. А я выжила! Так что, если мы хотим пережить и этот год, нечего цапаться между собой, как бакланы.
Она строго посмотрела на Матиа.
– Легко сказать, Туанетта, но раз святая больше за нас не стоит…
– Я не про то говорю, Матиа Геноле, и ты это прекрасно знаешь.
Матиа пожал плечами:
– Не я первый начал. Если Аристид Бастонне хоть один раз признает, что был не прав…
Туанетта сердито повернулась ко мне.
– Видишь, что делается? Взрослые мужчины – старики – ведут себя как дети. Неудивительно, что святая гневается.
Матиа ощетинился.
– Не мои же внуки уронили святую…
Капуцина злобно уставилась на него. Он осекся.
– Извини, – сказал он, обращаясь ко мне. – Жан Большой не виноват. Если кто и виноват, то Аристид. Он не дал своему внуку нести святую, ведь тогда там были бы двое Геноле и только один Бастонне. Он сам, конечно, не мог помочь, с деревянной ногой-то.
Он вздохнул.
– Я же уже говорил. Будет Черный год. Вы же все слышали, как Маринетта звонила.
– Это не Маринетта была, – сказала Капуцина.
Она машинально сложила левой рукой рожки, чтобы отвести несчастье. Матиас сделал то же.
– Я тебе говорю, этого следовало ожидать, прошло тридцать лет…
Матиас опять сложил рожки.
– Семьдесят второй. Плохой был год.
Я знала, что плохой: в тот год погибло трое деревенских, в том числе брат отца.
Матиа отхлебнул колдуновки.
– Аристиду однажды показалось, что он нашел Маринетту. Ранней весной, в тот год, когда он потерял ногу. Оказалось, это старая мина, осталась с первой войны. Ирония судьбы, скажешь нет?
Я согласилась. Я слушала вежливо, как могла, хотя девочкой слышала эту старую байку много раз. Ничего не изменилось, говорила я себе с каким-то отчаянием. Даже байки тут такие же старые и потрепанные, как сами островитяне, заезженные, как бусины в четках. Жалость и нетерпение скопились у меня в груди, и я глубоко вздохнула. Матиа, ничего не замечая, продолжал рассказывать так, будто история произошла вчера.
– Эта штука лежала, наполовину зарытая в песчаном наносе. Если ударить по ней камнем, она звенела. Тогда все дети сошлись с палками и камнями, колотили по ней, чтоб звенела. Несколько часов спустя прилив забрал ее обратно, и она взорвалась сама по себе примерно в ста метрах от того места, где сейчас Ла Жете. Оглушила всю рыбу оттуда до Ле Салана. Э! – Матиа смачно затянулся из трубки. – Дезире сварила ведро буйабеса, не могла вынести, что столько рыбы пропадает зря. Отравила полдеревни.
Он посмотрел на меня из-под покрасневших век.
– Я так и не решил, что это было – чудо или нет.
Туанетта согласно кивнула.
– Что бы это ни было, с тех пор наша удача сошла на нет. Оливье, сын Аристида, умер в тот год и… ну, ты знаешь… – Она взглянула на меня.
– Жан Маленький.
Туанетта опять кивнула.
– Э! Эти братцы! Слыхала бы ты их в старые времена, – сказала она. – Как сороки, оба два. Болтали без умолку.
Матиа глотнул колдуновки.
– Черный год забрал у Жана Большого сердце, точно так же как забрал дома у Ла Гулю. В тот год приливы, может, были и больше нынешних, но ненамного.
Он мрачно вздохнул – с таким видом, словно ему было приятно пророчить беду, – и ткнул в мою сторону черенком трубки.
– Девочка, я тебя предупредил. Не обживайся здесь. Потому что еще один такой год…
Туанетта встала и поглядела в окно, на небо. За мысом нависал тускло-оранжевый горизонт, уже отрастивший ножки дальних молний.
– Плохие времена наступают, – заметила она без особого беспокойства в голосе. – Совсем как в семьдесят втором.
7
Я спала в своей старой комнате, и море шумело у меня в ушах. Когда я проснулась, было светло, а отец так и не появился. Я сварила кофе и выпила его очень медленно – я тянула время как могла. На душе у меня было несообразно тяжело. Чего я ждала? Что мне заколют упитанного тельца? На меня все еще давила мрачность вчерашнего праздника, а состояние дома только ухудшало дело. Я решила выйти наружу.
Небо было затянуто облаками, с Ла Гулю доносились крики чаек. Должно быть, уже пришло время отлива. Я надела куртку и пошла поглядеть.
Ла Гулю сначала чуешь, только потом видишь. При отливе пахнет всегда сильнее – водорослями, рыбой, чужаку этот запах может показаться неприятным, но мне он навевает сложные ностальгические ассоциации. Подходя со стороны острова, я видела заброшенные солончаки, блестящие в серебристом свете. Старый немецкий бункер, полузарытый в дюну, похож был на детский кубик, брошенный с неба. Из башни шел дым – видно, Флинн готовил завтрак.
Ла Гулю за прошедшие годы пострадал сильнее всего остального Ле Салана. Подбрюшье острова сильно размыло, и памятная мне с детства тропа ушла в море, оставив вместо себя беспорядочный каменный оползень. Ряд древних пляжных веранд, памятных мне с детства, смыло; осталась лишь одна, словно длинноногое насекомое на камнях. Устье ручейка расширилось, хотя кто-то явно пытался его укрепить – кривая грубая стена из камней, скрепленных раствором, стояла с западной стороны, но западный берег ручья со временем сместился, и русло оказалось беззащитным перед приливами. Я начала понимать пессимизм Матиа Геноле: случись сильный прилив с ветром в ту же сторону, и вода пойдет вверх по ручью, перельется через дамбу на дорогу. Но главная перемена в Ла Гулю была гораздо красноречивей. Крепостные стены из водорослей, которые всегда были тут, даже летом, теперь исчезли, осталась полоса голых камней, не прикрытых и слоем грязи. Меня это удивило. Неужели ветра переменились? Как я уже говорила, все всегда возвращается на Ла Гулю. Но сегодня тут не было ничего: ни водорослей, ни обломков, ни даже куска пла?вника. Чайки словно тоже это понимали: гневно крича друг на друга, они кружили в воздухе, но не опускались поесть. В отдалении виднелись на фоне темной воды кружевные оборки пены вокруг кольца Ла Жете.
Отца на берегу, судя по всему, не было. Я сказала себе, что, может, он пошел на Ла Буш; кладбище было чуть поодаль от деревни, по направлению ручья. Я там бывала, хоть и не часто; на Колдуне забота о мертвецах – мужское дело.
Постепенно я поняла, что рядом кто-то есть. Может, по движениям чаек: сам он совершенно точно не издавал никаких звуков. Я повернулась и увидела Флинна, который стоял в нескольких метрах позади меня и глядел в том же направлении, на море. В руках у него было два садка с омарами, а на плече – спортивная сумка. Садки были полные, и оба помечены красной буквой «Б» – Бастонне.
Браконьерство – единственное преступление, которое на Колдуне воспринимают всерьез. Украсть добычу из чужого садка – не лучше, чем переспать с чужой женой.
Флинн улыбнулся мне без тени раскаяния:
– Удивительно, чего только не приносит море, – бодро заметил он, показывая одним из садков на мыс. – Я думал прийти пораньше и проверить, пока не явится полдеревни искать святую.