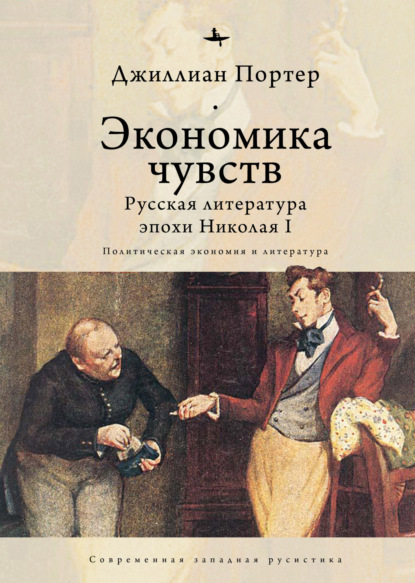По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Экономика чувств. Русская литература эпохи Николая I (Политическая экономия и литература)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Экономика чувств. Русская литература эпохи Николая I (Политическая экономия и литература)
Джиллиан Портер
«Современная западная русистика» / «Contemporary Western Rusistika»
В центре исследования Джиллиан Портер стоит понятие «амбиция», пришедшее в русскую литературу в начале XIX века из постнаполеоновской Франции путем «культурного заражения». Объектом изучения становится несовпадение как культурно-исторического контекста, так и семантического объема слов ambition, амбиция и честолюбие во Франции и в России, что в некотором смысле стало источником нового развития в русской литературе. Другими темами становятся экономический характер гостеприимства в произведениях Гоголя, деньги как двигатель фантастического реализма Достоевского, и представление типа скупца в произведениях русской классики.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Джиллиан Портер
Экономика чувств. Русская литература эпохи Николая I (Политическая экономия и литература)
Jillian Porter
Economies of Feeling
Russian Literature under Nicholas I
Northwestern University Press
Evanston, Illinois
2017
Перевод с английского Ольги Поборцевой
© Jillian Porter, text, 2017
© Northwestern University Press, 2017
© О. M. Поборцева, перевод с английского, 2020
© Academic Studies Press, 2021
© Оформление и макет ООО «Библиороссика», 2021
Слова благодарности
Прежде всего я хочу поблагодарить Харшу Рама, научного руководителя моей докторской диссертации в Калифорнийском университете в Беркли, чье чувство языка и проницательные замечания вдохновляли меня и обогатили работу над этой книгой на всех ее этапах. Ирина Паперно, исключительный наставник и читатель моей диссертации, стала для меня эталоном научной строгости, к которому я всегда буду стремиться. Любовь Гольбурт и Виктория Бонелл познакомили меня с теоретическими парадигмами, которые стали центральными и в моей диссертации, и в последующих исследованиях в области русской литературы и культуры. Сотрудники факультета в Беркли щедро делились комментариями по поводу моих научных статей и презентаций, положенных в основу этой книги, – спасибо вам, Энн Несбет, Эрик Найман, Ольга Матич и Виктор Живов. В процессе написания книги мне очень помогли отзывы моих коллег-аспирантов, особенно Элисон Тэпп, Бориса Маслова, Виктории Сомовой, Молли Брансон, Хлои Кицингер.
Большая часть главы 3 изначально была опубликована в виде статьи в «Slavic and East European Journal». Я благодарна Айрин Делич, Хелен Хальве и анонимным рецензентам SEEJ за их авторитетную редакторскую и критическую оценку. Также выражаю благодарность Майку Левину и всем сотрудникам Отдела исследований в области русской литературы и теории Northwestern University Press за их высочайший профессионализм, а анонимным рецензентам рукописи – за вдумчивое прочтение и ценные предложения по ее улучшению.
Публикация моей книги на русском языке дает приятный повод выразить признательность за сотрудничество новым участникам: переводчице Ольге Поборцевой, Константину Богданову, который оставил ценный отзыв о первоначальной версии перевода, редактору Ирине Знаешевой и другим членам команды Academic Studies Press.
Мои исследования финансировали Институт гуманитарных исследований Университета штата Аризона, Центр российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета, Джордан-центр при Нью-Йоркском университете, Университет Оклахомы и Университет штата Колорадо. Эмили Джонсон и другие коллеги из Университета Оклахомы дали очень важные советы в период моего становления как профессионального ученого. Джулия Абрамсон прочитала рукопись целиком и помогла мне увидеть – и усилить – связи между ее отдельными частями. Виктория Э. Томпсон из Университета штата Аризона, специалист по истории Франции эпохи Революции, прочитала главу 1 и поделилась своим профессиональным мнением, а моя усердная ассистентка Хизер Экерман помогла составить окончательный вариант библиографии, сэкономив мне множество времени и усилий. Центр Дэвиса заряжал меня энергией, когда я заканчивала эту книгу и начинала новую. Там я получила ценные критические замечания относительно Введения и главы 2 от сотрудников и приглашенных экспертов, среди которых хотела бы выделить Андрею Цинк. Также мне очень повезло работать еще с одним великолепным ассистентом – Кристин Джекобсон, которая помогла получить права на многие из иллюстраций для моей книги. Молли Брансон, Юрий Бойко и работники архивов и музеев также помогли сделать так, чтобы эти иллюстрации появились в моей книге.
Я счастлива выразить свою благодарность Мелиссе Фрейзер из колледжа Сары Лоуренс, которая научила меня говорить по-русски и направила в Беркли; она вдохновляла меня с первых дней и не оставляла своим вниманием мою работу. Гил Перес из колледжа Сары Лоуренс первым привлек мое внимание к истории и культуре России захватывающими лекциями о советском кино, Дэнни Кайзер увлек меня Достоевским, а Фрэнк Рузвельт зародил интерес к экономике. Во время семестра, который я провела в колледже Рид, Лена Ленчек на своем увлекательном курсе о русской прозе познакомила меня со многими авторами и темами, к которым я обращаюсь в этой книге. Но я никогда не получила бы возможности обучаться у них и у других замечательных преподавателей, если бы не анонимный спонсор, благодаря которому я смогла в 1995 году перейти в школу Фаунтин-Вэлли. Я очень обязана этому человеку за его помощь в моем становлении как ученого. Я также благодарна Джеку Уилсону, чей Фонд международного профессионального обмена спонсировал мою первую поездку в Россию; Игорю Толочину, благодаря которому эта поездка прошла очень успешно; и Валентине Петровне Гетманской, которая гостеприимно распахнула передо мной двери своего дома и познакомила меня со многими своими друзьями.
Больше всех меня всегда поддерживала моя семья. Мои родители убедили меня, что образование – путь к счастью, и всегда внушали мне веру, что я смогу достичь чего угодно, если буду усердно трудиться. Мои дедушки и бабушки щедро оделяли меня теплом и мудростью. Теща и тесть много раз принимали меня под своей крышей, чтобы я могла спокойно работать над книгой. С женой я познакомилась, когда впервые занялась исследованиями, результатом которых и стала эта книга. Я не могу выразить, как благодарна ей за ее любовь и тонкую критику черновиков рукописи.
Примечание к тексту
Все даты в книге приводятся по григорианскому календарю, если нет указания «по старому стилю».
Орфография во всех случаях приведена к современным нормам, но сохраняется авторская пунктуация.
Основными источниками текста художественных произведений явились следующие издания:
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука (Лен. отд.), 1972–1990.
Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 7 т. / под общ. ред. С. И. Машинского и М. Б. Храпченко. М.: Художественная литература, 1976–1978.
Пушкин А. С. Поли. собр. соч., 1837–1937: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959.
Введение
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита,
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И деньги отдавал в залог.
А. С. Пушкин[1 - [Пушкин 1937а: 8].]
Отец Онегина был не единственным, кто не понимал сыновних толкований политэкономии. Комментаторы приведенного отрывка из «Евгения Онегина» (1825–1832) вели длительные дискуссии относительно «простого продукта», ценимого героем произведения выше золота. Тем не менее, выделенный курсивом термин, обозначающий некий заветный постулат Адама Смита, никогда не встречался в его трудах. Исследователи, начиная от К. Маркса и Ф. Энгельса и заканчивая В. В. Набоковым и Ю. М. Лотманом[2 - См. [Маркс 1959: 158; Энгельс 1962: 29; Набоков 1999: 57; Лотман 1995: 558].Российский экономист А. В. Аникин рассматривает эти и другие интерпретации пушкинского «простого продукта» в своей книге «Муза и мамона. Социально-экономические мотивы у Пушкина», см. [Аникин 1989: 17–20].], интерпретировали значение этого термина по-разному: «товар», «сырьевой материал», «излишек» и даже (самое отдаленное толкование, однако наиболее частотное в литературных комментариях) «чистый продукт» (produit net), о котором писали физиократы, французские предшественники Смита. Для целей данного исследования именно отсутствие этого термина в корпусе текстов классической политэкономии составляет суть: «простой продукт» являет собой пример творческого заимствования иностранного экономического вокабуляра, характерного для ключевых произведений русской литературы XIX столетия. Для землевладельцев вроде Онегина-старшего уроки Адама Смита казались непостижимыми, но для таких художников, как Пушкин, сама их нечеткость становилась источником поэзии.
В приведенном выше отрывке Пушкин обыгрывает предполагаемое противоречие между экономикой и поэзией. По мере того как в Европе конца XVIII века дискурсы эстетики и политэкономии укреплялись в оппозиции друг к другу, главным принципом каждой из них становилась антиномия между эстетическими и экономическими ценностями [Guillory 1995: 317]. К началу XIX столетия политэкономия зарекомендовала себя как наука рассудочная, основанная на том принципе, что главные действующие лица экономической деятельности – это разумные индивиды, преследующие собственные «интересы» [Смит 2016]. Эстетика же выделилась в науку об основанном на чувствах, намеренно «незаинтересованном» опыте и суждениях [Кант 1994]. И хотя на первый взгляд может показаться, что предпочтение, которое Евгений Онегин отдает Адаму Смиту перед Гомером и Феокритом, подкрепляет подобную антиномию, на самом деле его интерес к экономике скорее вопрос стиля и эмоциональных установок: он моден, как облачение молодого денди, и вносит дополнительный штрих в его образ скучающего байронического героя. Суждения Евгения совмещают русифицированную версию европейских дискурсов об экономике, эстетике и эмоциях.
Поэтизация идей политической экономии, подобная пушкинской, является смысловым ядром этой книги. Последующие главы исследуют трансформации европейской экономической и эмоциональной парадигм в русской литературе XIX века. Я рассматриваю мотивы траты, накопления, дара наряду с сюжетами о безумной или подавленной амбиции[3 - Автор и переводчик в равной степени испытывали трудности, вызванные разницей культурно-исторических контекстов и несовпадения объема значения ключевого для этой книги понятия «амбиция» в русском, английском и французском языках. В русском языке едва ли найдется идеальный вариант перевода для английского и французского слова ambition. Ближайшие русские эквиваленты – «амбиция», «честолюбие» – содержат негативные коннотации, несвойственные для английского и французского языков. Поэтому было принято следующее решение: слова «амбиция» и «амбициозный» используются в общем случае для перевода английского и французского слова ambition (‘желание возвыситься’) и его производных: английского ambitious и французского ambitieux, а также в значениях, вероятно, более привычных российскому читателю (‘самолюбие’, ‘спесь’), когда речь идет об истории этого слова и разных его коннотациях в литературе XIX века. Когда автор обращается к обсуждению близкого понятия «честолюбие», для перевода ambition эквивалентом все же выступает «амбиция», но «честолюбие» предпочтительнее, когда рассматривается эта специфическая репрезентация амбиции. Слово «честолюбие» используется лишь только, когда речь идет об этом термине и его коннотациях. И «честолюбец», и фраза «амбициозный человек» используются для перевода французского ambitieux. – Примеч. пер.](ambition) в контексте русской экономической и культурной истории. Исследование опирается на идеи «новой экономической критики» (New Economic Criticism) и взгляды литературоведов, социологов и историков, труды которых способствовали недавнему «эмоциональному повороту» в гуманитарных науках[4 - Наиболее значительные исследования в контексте методологии «новой экономической критики»: [Shell 1978; Goux 1990]. Полезные обзоры в этой области знаний см. [Osteen, Woodmansee 1999: 3-50; Poovey 2008: 10–14]. Оказали особое влияние на мою работу изучения эмоций: [Massumi 1995: 83-109; Reddy 2001; Sedgwick 2003; Ngai 2005; Gould 2009; Frevert 2011; Emotional Lexicons 2014]. Осмысление «эмоционального поворота», оказавшего серьезное влияние на русистику, представлено в статьях Я. Плампера и И. Виницкого [Plamper 2009: 229–237; Виницкий 2012: 441–460].]. Эти научные концепции сделали очевидным для меня взаимное пересечение явлений и связанных с ними дискурсов в сфере экономики и эмоций и прояснили мое понимание множества способов, посредством которых литературная форма одновременно запечатлевает и формирует экономический и эмоциональный опыт[5 - В анализе связи экономики и эмоций я пользовалась социологическими исследованиями Э. Гофмана, В. Зелизер, А. Р. Хохшильд [Гофман 2009; Зелизер 2002; Hochschild 2012], где изучено влияние эмоционального опыта на классовые, гендерные и коммерческие взаимосвязи в американском консюмеризме. Важным также был опыт анализа роли чувств в классической политической экономии, представленный Э. Ротшильд и К. Галлахер [Rothschild 2001; Gallagher 2008].]. Вычерчивая линии пересечений между коммерческими отношениями и обменом дарами и прослеживая сдвиги культурных понятий амбиции, щедрости и корысти, я показываю, что неденежные и непроизводственные обменные отношения и чувства, которые экономическая наука обычно не принимает в расчет, неразрывно связаны с социальными и экономическими структурами[6 - Эта мысль акцентирует одну из общих целей этой книги: дать историю понятий. В частности, меня вдохновили труды об истории идей, понятий и слов: [Lovejoy 1936; Hirschman 1977; Koselleck2002; Виноградов 1995; Живов 1966; Живов 2009].].
Исторические рамки книги – царствование Николая I (1825–1855), время суровой цензуры, экономической неопределенности и вместе с тем расцвета русской литературы. Это были также годы широкого распространения коммерческих отношений, которые разрушали основы аграрной экономики: деньги, наряду с крепостными, превратились в основную ценность; всегда нуждавшиеся в наличных средствах помещики закладывали свои имения казне, а правительство напечатало столько бумажных денег, что обрушило стоимость государственной валюты. Одновременно из газет и книг до русских читателей доходили отзвуки экономических перемен, происходивших в Европе после наполеоновских войн, и перед обществом встал главнейший вопрос: должна ли Россия следовать иностранным реформаторским тенденциям в экономике и политике[7 - О неоднозначном отношении Николая I и его министров к вопросу об индустриальном развитии см. [Pintner 1967: 29, 91–93, 123].].
В подобной атмосфере ценностных сдвигов русские писатели начали обращаться к литературному и художественному потенциалу экономики. Они придали новый смысл сюжету об амбиции, свойственному послереволюционной Франции, типу скупца и другим литературным моделям, которые были укоренены в реалиях и повествовательных традициях буржуазной Европы; эти модели казались чужеродными в повествованиях о русском обществе в условиях самодержавия и крепостного права. Подобные иностранные модели противоречили идеологии общественного расслоения и идеалам щедрости и сельской праздности, которые традиционно питали представления о русской национальной идентичности. В «Экономике чувств» вы увидите, как подобное противоречие вызвало к жизни некоторые из наиболее замечательных свойств русской литературы XIX века – от неуклонного затухания сюжетов об амбиции до резкого диссонанса полифонических романов Ф. М. Достоевского[8 - Делая упор на экономические противоречия, определившие этот период русской литературы, я следую за М. М. Бахтиным, который в «Проблемах поэтики Достоевского» отмечает, что «особо острые противоречия раннего капитализма в России» обеспечили идеальные исторические условия для возникновения полифонического романа [Бахтин 2002: 45].].
При Николае I русская литература претерпевала глубинную трансформацию и подъем. Именно в эту эпоху Пушкин сформировался как зрелый писатель, в полную силу расцвел талант Н. В. Гоголя и М. Ю. Лермонтова, дебютировали в литературе Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой. Литературная критика становилась главной движущей силой интеллектуальной жизни; литературные институты постепенно трансформировались – от системы покровительства и тесно связанной культуры поэтического салона к расширению читательской аудитории, росту книготорговли и возможностей для авторов и издателей получать прибыль от литературных занятий[9 - В фундаментальных трудах, например в монографиях «Словесность и коммерция. Книжная лавка А. Ф. Смирдина» [Гриц и др. 2001] и «Fiction and Society in the Age of Pushkin» [Todd 1986], подробно рассматривается трансформация литературных институтов в 1830-е годы. Анализ реакции Гоголя и Достоевского на эти изменения, воплощенной в их творчестве, также представлен у А. Менье, Э. Лонсбери и У. М. Тодда. В комплексе эти исследования демонстрируют не только трансформацию литературных обществ в указанный период, но и остроту дебатов в периодике, спровоцированных этими переменами [Meynieux 1966; Lounsbery 2007; Todd 2002]. М. Фрейзер указывала, что полемика о литературе – одна из немногих деталей, которые достоверно описывают процесс профессионализации писательской деятельности, поскольку большая часть доступной информации о чтении и продаже книг содержится собственно в художественном или публицистическом тексте. Считая «литературный рынок» продуктом романтического воображения, Фрейзер подчеркивает бросающуюся в глаза взаимосвязь эстетической и экономической теории и практики в тот период [Frazier 2007: 41].]. Книга обращается к изучению этих значимых и широко признанных изменений с новой точки зрения. В существующих трудах о русской литературе XIX века ее периодизация традиционно связана с гранд-персоной («пушкинская эпоха»), культурными мифами («золотой» и «серебряный» века) и литературными направлениями (романтизм, реализм, символизм) или развитием конкретных литературных форм (проза, роман). Я же предполагаю, что нарастающее ощущение неопределенности и все более напряженная полемика о политическом и экономическом будущем России отметили литературу эпохи Николая I общностью форм и тем, пронизывающей все стили и жанры. Более того, хотя экономическая критика русской литературы в основном обращается к ситуациям участия авторов и редакторов в литературных кружках и в процессе коммерциализации литературного творчества, я считаю, что аспекты экономики, не столь тесно связанные с собственно литературой, оказали на нее не менее важное определяющее влияние[10 - Делая подобное заключение, я следую за Ю. М. Лотманом и Р. С. Валентино, в работах которых исследовалась литература начала XIX века в контексте некоторых экономических факторов: дворянской культуры расточительности, азартных игр и долгов и распространения коммерции [Лотман 1995: 491–495; Лотман 1975; Valentino 2014].].
Одна из центральных идей моего исследования – это утверждение, что трудности, с которыми сталкивалась крепостническая экономика России в последние десятилетия своего существования, оказались плодотворными нарративными парадигмами. Некоторые из этих трудностей были вполне материальными / денежными: к примеру, расточительные траты, ускорявшие разорение дворянства, и высокая инфляция, подорвавшая стоимость бумажного рубля. Другие – скорее можно назвать концептуальными или эмоциональными: например, изменение общественных установок по отношению к таким «экономическим» страстям и побуждениям, как амбиция, корысть и щедрость[11 - О кризисе денежной системы и реформах в николаевскую эпоху см. [Кашкаров 1898].]. Еще один вызов социальной и экономической стабильности России касался текстов – поток новостей и литературы из Европы с описанием политических потрясений и поразительного развития коммерции и промышленности заставлял думать и чувствовать по-новому, иначе писать об экономике. Авторы, произведения которых я исследую, используют неустоявшиеся и неуместные на первый взгляд заимствованные экономические термины и понятия. Как можно видеть на примере эпиграфа из «Евгения Онегина», они не просто пытались подражательно представить местные экономические условия, но и вольно обращались с адаптациями европейских экономических моделей. Несоответствие между иностранными и отечественными экономическими реалиями стало источником русской поэтики[12 - Я использую термин «поэтика» в базовом значении «творческих принципов, определяющих любую литературную, культурную или общественную структуру» [Oxford English Dictionary 2016].].
В своем исследовании я приняла за аксиому отсутствие четких границ между объектами, словами и чувствами в рамках экономики материальной и экономики текстуальной. Подходящей эмблемой тут может служить монета: кусок металла только тогда начинает выполнять функцию денег, когда на нем обозначат официально объявленную стоимость и когда его можно использовать для исполнения своих желаний. Возьмем серебряный рубль ограниченного выпуска, представленный на рис. 1а и 16. Эта монета 1836 года посвящена победе Александра I над Наполеоном Бонапартом в 1812 году и открытию в 1834 году Николаем I Александровской колонны на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Подтверждая стремление властей управлять чувствами граждан – наряду с экономикой, – монета буквально указывает россиянам, что они должны ощущать: благодарность.
Рис. la. Серебряный рубль в память победы Александра I над Наполеоном и открытия Николаем I Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в 1834 году. Выпущен в 1836 году. Аверс: портрет Александра I с надписью «Александр Первый Б(ожьей). М(илостью). Император Всеросс(ийский).». Фото любезно предоставлено Национальной нумизматической коллекцией Национального музея американской истории Смитсоновского института. Воспроизведено с разрешения Смитсоновского института
Рис. 16. Серебряный рубль в память победы Александра I над Наполеоном и открытия Николаем I Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в 1834 году. Выпущен в 1836 году. Реверс: Александрийский столп, текст: «Александру Первому от благодарной России. 1834. 1. рубль.». Фото любезно предоставлено Национальной нумизматической коллекцией Национального музея американской истории Смитсоновского института. Воспроизведено с разрешения Смитсоновского института
Надпись на монете «Александру Первому от благодарной России» цитирует слова с пьедестала колонны, этого впечатляющего архитектурного шедевра, который остается одной из самых высоких триумфальных колонн в мире. Эта монета – памятник памятнику, который знаменует собой одновременно и культурно-технологическую, и военную победу, показывая россиян «благодарными» и прежнему, и нынешнему правителю. Примечательно, что подобный язык благодарности превращает деньги в дар: как памятный знак щедрости царской династии, который можно носить с собой, монета расширяет мемориальное пространство Дворцовой площади до размеров всей империи. Аббревиатура «Б. М.», то есть «Божьей милостью», освящает право царя награждать свой народ отчеканенными деньгами.
Джиллиан Портер
«Современная западная русистика» / «Contemporary Western Rusistika»
В центре исследования Джиллиан Портер стоит понятие «амбиция», пришедшее в русскую литературу в начале XIX века из постнаполеоновской Франции путем «культурного заражения». Объектом изучения становится несовпадение как культурно-исторического контекста, так и семантического объема слов ambition, амбиция и честолюбие во Франции и в России, что в некотором смысле стало источником нового развития в русской литературе. Другими темами становятся экономический характер гостеприимства в произведениях Гоголя, деньги как двигатель фантастического реализма Достоевского, и представление типа скупца в произведениях русской классики.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Джиллиан Портер
Экономика чувств. Русская литература эпохи Николая I (Политическая экономия и литература)
Jillian Porter
Economies of Feeling
Russian Literature under Nicholas I
Northwestern University Press
Evanston, Illinois
2017
Перевод с английского Ольги Поборцевой
© Jillian Porter, text, 2017
© Northwestern University Press, 2017
© О. M. Поборцева, перевод с английского, 2020
© Academic Studies Press, 2021
© Оформление и макет ООО «Библиороссика», 2021
Слова благодарности
Прежде всего я хочу поблагодарить Харшу Рама, научного руководителя моей докторской диссертации в Калифорнийском университете в Беркли, чье чувство языка и проницательные замечания вдохновляли меня и обогатили работу над этой книгой на всех ее этапах. Ирина Паперно, исключительный наставник и читатель моей диссертации, стала для меня эталоном научной строгости, к которому я всегда буду стремиться. Любовь Гольбурт и Виктория Бонелл познакомили меня с теоретическими парадигмами, которые стали центральными и в моей диссертации, и в последующих исследованиях в области русской литературы и культуры. Сотрудники факультета в Беркли щедро делились комментариями по поводу моих научных статей и презентаций, положенных в основу этой книги, – спасибо вам, Энн Несбет, Эрик Найман, Ольга Матич и Виктор Живов. В процессе написания книги мне очень помогли отзывы моих коллег-аспирантов, особенно Элисон Тэпп, Бориса Маслова, Виктории Сомовой, Молли Брансон, Хлои Кицингер.
Большая часть главы 3 изначально была опубликована в виде статьи в «Slavic and East European Journal». Я благодарна Айрин Делич, Хелен Хальве и анонимным рецензентам SEEJ за их авторитетную редакторскую и критическую оценку. Также выражаю благодарность Майку Левину и всем сотрудникам Отдела исследований в области русской литературы и теории Northwestern University Press за их высочайший профессионализм, а анонимным рецензентам рукописи – за вдумчивое прочтение и ценные предложения по ее улучшению.
Публикация моей книги на русском языке дает приятный повод выразить признательность за сотрудничество новым участникам: переводчице Ольге Поборцевой, Константину Богданову, который оставил ценный отзыв о первоначальной версии перевода, редактору Ирине Знаешевой и другим членам команды Academic Studies Press.
Мои исследования финансировали Институт гуманитарных исследований Университета штата Аризона, Центр российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета, Джордан-центр при Нью-Йоркском университете, Университет Оклахомы и Университет штата Колорадо. Эмили Джонсон и другие коллеги из Университета Оклахомы дали очень важные советы в период моего становления как профессионального ученого. Джулия Абрамсон прочитала рукопись целиком и помогла мне увидеть – и усилить – связи между ее отдельными частями. Виктория Э. Томпсон из Университета штата Аризона, специалист по истории Франции эпохи Революции, прочитала главу 1 и поделилась своим профессиональным мнением, а моя усердная ассистентка Хизер Экерман помогла составить окончательный вариант библиографии, сэкономив мне множество времени и усилий. Центр Дэвиса заряжал меня энергией, когда я заканчивала эту книгу и начинала новую. Там я получила ценные критические замечания относительно Введения и главы 2 от сотрудников и приглашенных экспертов, среди которых хотела бы выделить Андрею Цинк. Также мне очень повезло работать еще с одним великолепным ассистентом – Кристин Джекобсон, которая помогла получить права на многие из иллюстраций для моей книги. Молли Брансон, Юрий Бойко и работники архивов и музеев также помогли сделать так, чтобы эти иллюстрации появились в моей книге.
Я счастлива выразить свою благодарность Мелиссе Фрейзер из колледжа Сары Лоуренс, которая научила меня говорить по-русски и направила в Беркли; она вдохновляла меня с первых дней и не оставляла своим вниманием мою работу. Гил Перес из колледжа Сары Лоуренс первым привлек мое внимание к истории и культуре России захватывающими лекциями о советском кино, Дэнни Кайзер увлек меня Достоевским, а Фрэнк Рузвельт зародил интерес к экономике. Во время семестра, который я провела в колледже Рид, Лена Ленчек на своем увлекательном курсе о русской прозе познакомила меня со многими авторами и темами, к которым я обращаюсь в этой книге. Но я никогда не получила бы возможности обучаться у них и у других замечательных преподавателей, если бы не анонимный спонсор, благодаря которому я смогла в 1995 году перейти в школу Фаунтин-Вэлли. Я очень обязана этому человеку за его помощь в моем становлении как ученого. Я также благодарна Джеку Уилсону, чей Фонд международного профессионального обмена спонсировал мою первую поездку в Россию; Игорю Толочину, благодаря которому эта поездка прошла очень успешно; и Валентине Петровне Гетманской, которая гостеприимно распахнула передо мной двери своего дома и познакомила меня со многими своими друзьями.
Больше всех меня всегда поддерживала моя семья. Мои родители убедили меня, что образование – путь к счастью, и всегда внушали мне веру, что я смогу достичь чего угодно, если буду усердно трудиться. Мои дедушки и бабушки щедро оделяли меня теплом и мудростью. Теща и тесть много раз принимали меня под своей крышей, чтобы я могла спокойно работать над книгой. С женой я познакомилась, когда впервые занялась исследованиями, результатом которых и стала эта книга. Я не могу выразить, как благодарна ей за ее любовь и тонкую критику черновиков рукописи.
Примечание к тексту
Все даты в книге приводятся по григорианскому календарю, если нет указания «по старому стилю».
Орфография во всех случаях приведена к современным нормам, но сохраняется авторская пунктуация.
Основными источниками текста художественных произведений явились следующие издания:
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука (Лен. отд.), 1972–1990.
Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 7 т. / под общ. ред. С. И. Машинского и М. Б. Храпченко. М.: Художественная литература, 1976–1978.
Пушкин А. С. Поли. собр. соч., 1837–1937: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959.
Введение
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита,
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И деньги отдавал в залог.
А. С. Пушкин[1 - [Пушкин 1937а: 8].]
Отец Онегина был не единственным, кто не понимал сыновних толкований политэкономии. Комментаторы приведенного отрывка из «Евгения Онегина» (1825–1832) вели длительные дискуссии относительно «простого продукта», ценимого героем произведения выше золота. Тем не менее, выделенный курсивом термин, обозначающий некий заветный постулат Адама Смита, никогда не встречался в его трудах. Исследователи, начиная от К. Маркса и Ф. Энгельса и заканчивая В. В. Набоковым и Ю. М. Лотманом[2 - См. [Маркс 1959: 158; Энгельс 1962: 29; Набоков 1999: 57; Лотман 1995: 558].Российский экономист А. В. Аникин рассматривает эти и другие интерпретации пушкинского «простого продукта» в своей книге «Муза и мамона. Социально-экономические мотивы у Пушкина», см. [Аникин 1989: 17–20].], интерпретировали значение этого термина по-разному: «товар», «сырьевой материал», «излишек» и даже (самое отдаленное толкование, однако наиболее частотное в литературных комментариях) «чистый продукт» (produit net), о котором писали физиократы, французские предшественники Смита. Для целей данного исследования именно отсутствие этого термина в корпусе текстов классической политэкономии составляет суть: «простой продукт» являет собой пример творческого заимствования иностранного экономического вокабуляра, характерного для ключевых произведений русской литературы XIX столетия. Для землевладельцев вроде Онегина-старшего уроки Адама Смита казались непостижимыми, но для таких художников, как Пушкин, сама их нечеткость становилась источником поэзии.
В приведенном выше отрывке Пушкин обыгрывает предполагаемое противоречие между экономикой и поэзией. По мере того как в Европе конца XVIII века дискурсы эстетики и политэкономии укреплялись в оппозиции друг к другу, главным принципом каждой из них становилась антиномия между эстетическими и экономическими ценностями [Guillory 1995: 317]. К началу XIX столетия политэкономия зарекомендовала себя как наука рассудочная, основанная на том принципе, что главные действующие лица экономической деятельности – это разумные индивиды, преследующие собственные «интересы» [Смит 2016]. Эстетика же выделилась в науку об основанном на чувствах, намеренно «незаинтересованном» опыте и суждениях [Кант 1994]. И хотя на первый взгляд может показаться, что предпочтение, которое Евгений Онегин отдает Адаму Смиту перед Гомером и Феокритом, подкрепляет подобную антиномию, на самом деле его интерес к экономике скорее вопрос стиля и эмоциональных установок: он моден, как облачение молодого денди, и вносит дополнительный штрих в его образ скучающего байронического героя. Суждения Евгения совмещают русифицированную версию европейских дискурсов об экономике, эстетике и эмоциях.
Поэтизация идей политической экономии, подобная пушкинской, является смысловым ядром этой книги. Последующие главы исследуют трансформации европейской экономической и эмоциональной парадигм в русской литературе XIX века. Я рассматриваю мотивы траты, накопления, дара наряду с сюжетами о безумной или подавленной амбиции[3 - Автор и переводчик в равной степени испытывали трудности, вызванные разницей культурно-исторических контекстов и несовпадения объема значения ключевого для этой книги понятия «амбиция» в русском, английском и французском языках. В русском языке едва ли найдется идеальный вариант перевода для английского и французского слова ambition. Ближайшие русские эквиваленты – «амбиция», «честолюбие» – содержат негативные коннотации, несвойственные для английского и французского языков. Поэтому было принято следующее решение: слова «амбиция» и «амбициозный» используются в общем случае для перевода английского и французского слова ambition (‘желание возвыситься’) и его производных: английского ambitious и французского ambitieux, а также в значениях, вероятно, более привычных российскому читателю (‘самолюбие’, ‘спесь’), когда речь идет об истории этого слова и разных его коннотациях в литературе XIX века. Когда автор обращается к обсуждению близкого понятия «честолюбие», для перевода ambition эквивалентом все же выступает «амбиция», но «честолюбие» предпочтительнее, когда рассматривается эта специфическая репрезентация амбиции. Слово «честолюбие» используется лишь только, когда речь идет об этом термине и его коннотациях. И «честолюбец», и фраза «амбициозный человек» используются для перевода французского ambitieux. – Примеч. пер.](ambition) в контексте русской экономической и культурной истории. Исследование опирается на идеи «новой экономической критики» (New Economic Criticism) и взгляды литературоведов, социологов и историков, труды которых способствовали недавнему «эмоциональному повороту» в гуманитарных науках[4 - Наиболее значительные исследования в контексте методологии «новой экономической критики»: [Shell 1978; Goux 1990]. Полезные обзоры в этой области знаний см. [Osteen, Woodmansee 1999: 3-50; Poovey 2008: 10–14]. Оказали особое влияние на мою работу изучения эмоций: [Massumi 1995: 83-109; Reddy 2001; Sedgwick 2003; Ngai 2005; Gould 2009; Frevert 2011; Emotional Lexicons 2014]. Осмысление «эмоционального поворота», оказавшего серьезное влияние на русистику, представлено в статьях Я. Плампера и И. Виницкого [Plamper 2009: 229–237; Виницкий 2012: 441–460].]. Эти научные концепции сделали очевидным для меня взаимное пересечение явлений и связанных с ними дискурсов в сфере экономики и эмоций и прояснили мое понимание множества способов, посредством которых литературная форма одновременно запечатлевает и формирует экономический и эмоциональный опыт[5 - В анализе связи экономики и эмоций я пользовалась социологическими исследованиями Э. Гофмана, В. Зелизер, А. Р. Хохшильд [Гофман 2009; Зелизер 2002; Hochschild 2012], где изучено влияние эмоционального опыта на классовые, гендерные и коммерческие взаимосвязи в американском консюмеризме. Важным также был опыт анализа роли чувств в классической политической экономии, представленный Э. Ротшильд и К. Галлахер [Rothschild 2001; Gallagher 2008].]. Вычерчивая линии пересечений между коммерческими отношениями и обменом дарами и прослеживая сдвиги культурных понятий амбиции, щедрости и корысти, я показываю, что неденежные и непроизводственные обменные отношения и чувства, которые экономическая наука обычно не принимает в расчет, неразрывно связаны с социальными и экономическими структурами[6 - Эта мысль акцентирует одну из общих целей этой книги: дать историю понятий. В частности, меня вдохновили труды об истории идей, понятий и слов: [Lovejoy 1936; Hirschman 1977; Koselleck2002; Виноградов 1995; Живов 1966; Живов 2009].].
Исторические рамки книги – царствование Николая I (1825–1855), время суровой цензуры, экономической неопределенности и вместе с тем расцвета русской литературы. Это были также годы широкого распространения коммерческих отношений, которые разрушали основы аграрной экономики: деньги, наряду с крепостными, превратились в основную ценность; всегда нуждавшиеся в наличных средствах помещики закладывали свои имения казне, а правительство напечатало столько бумажных денег, что обрушило стоимость государственной валюты. Одновременно из газет и книг до русских читателей доходили отзвуки экономических перемен, происходивших в Европе после наполеоновских войн, и перед обществом встал главнейший вопрос: должна ли Россия следовать иностранным реформаторским тенденциям в экономике и политике[7 - О неоднозначном отношении Николая I и его министров к вопросу об индустриальном развитии см. [Pintner 1967: 29, 91–93, 123].].
В подобной атмосфере ценностных сдвигов русские писатели начали обращаться к литературному и художественному потенциалу экономики. Они придали новый смысл сюжету об амбиции, свойственному послереволюционной Франции, типу скупца и другим литературным моделям, которые были укоренены в реалиях и повествовательных традициях буржуазной Европы; эти модели казались чужеродными в повествованиях о русском обществе в условиях самодержавия и крепостного права. Подобные иностранные модели противоречили идеологии общественного расслоения и идеалам щедрости и сельской праздности, которые традиционно питали представления о русской национальной идентичности. В «Экономике чувств» вы увидите, как подобное противоречие вызвало к жизни некоторые из наиболее замечательных свойств русской литературы XIX века – от неуклонного затухания сюжетов об амбиции до резкого диссонанса полифонических романов Ф. М. Достоевского[8 - Делая упор на экономические противоречия, определившие этот период русской литературы, я следую за М. М. Бахтиным, который в «Проблемах поэтики Достоевского» отмечает, что «особо острые противоречия раннего капитализма в России» обеспечили идеальные исторические условия для возникновения полифонического романа [Бахтин 2002: 45].].
При Николае I русская литература претерпевала глубинную трансформацию и подъем. Именно в эту эпоху Пушкин сформировался как зрелый писатель, в полную силу расцвел талант Н. В. Гоголя и М. Ю. Лермонтова, дебютировали в литературе Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой. Литературная критика становилась главной движущей силой интеллектуальной жизни; литературные институты постепенно трансформировались – от системы покровительства и тесно связанной культуры поэтического салона к расширению читательской аудитории, росту книготорговли и возможностей для авторов и издателей получать прибыль от литературных занятий[9 - В фундаментальных трудах, например в монографиях «Словесность и коммерция. Книжная лавка А. Ф. Смирдина» [Гриц и др. 2001] и «Fiction and Society in the Age of Pushkin» [Todd 1986], подробно рассматривается трансформация литературных институтов в 1830-е годы. Анализ реакции Гоголя и Достоевского на эти изменения, воплощенной в их творчестве, также представлен у А. Менье, Э. Лонсбери и У. М. Тодда. В комплексе эти исследования демонстрируют не только трансформацию литературных обществ в указанный период, но и остроту дебатов в периодике, спровоцированных этими переменами [Meynieux 1966; Lounsbery 2007; Todd 2002]. М. Фрейзер указывала, что полемика о литературе – одна из немногих деталей, которые достоверно описывают процесс профессионализации писательской деятельности, поскольку большая часть доступной информации о чтении и продаже книг содержится собственно в художественном или публицистическом тексте. Считая «литературный рынок» продуктом романтического воображения, Фрейзер подчеркивает бросающуюся в глаза взаимосвязь эстетической и экономической теории и практики в тот период [Frazier 2007: 41].]. Книга обращается к изучению этих значимых и широко признанных изменений с новой точки зрения. В существующих трудах о русской литературе XIX века ее периодизация традиционно связана с гранд-персоной («пушкинская эпоха»), культурными мифами («золотой» и «серебряный» века) и литературными направлениями (романтизм, реализм, символизм) или развитием конкретных литературных форм (проза, роман). Я же предполагаю, что нарастающее ощущение неопределенности и все более напряженная полемика о политическом и экономическом будущем России отметили литературу эпохи Николая I общностью форм и тем, пронизывающей все стили и жанры. Более того, хотя экономическая критика русской литературы в основном обращается к ситуациям участия авторов и редакторов в литературных кружках и в процессе коммерциализации литературного творчества, я считаю, что аспекты экономики, не столь тесно связанные с собственно литературой, оказали на нее не менее важное определяющее влияние[10 - Делая подобное заключение, я следую за Ю. М. Лотманом и Р. С. Валентино, в работах которых исследовалась литература начала XIX века в контексте некоторых экономических факторов: дворянской культуры расточительности, азартных игр и долгов и распространения коммерции [Лотман 1995: 491–495; Лотман 1975; Valentino 2014].].
Одна из центральных идей моего исследования – это утверждение, что трудности, с которыми сталкивалась крепостническая экономика России в последние десятилетия своего существования, оказались плодотворными нарративными парадигмами. Некоторые из этих трудностей были вполне материальными / денежными: к примеру, расточительные траты, ускорявшие разорение дворянства, и высокая инфляция, подорвавшая стоимость бумажного рубля. Другие – скорее можно назвать концептуальными или эмоциональными: например, изменение общественных установок по отношению к таким «экономическим» страстям и побуждениям, как амбиция, корысть и щедрость[11 - О кризисе денежной системы и реформах в николаевскую эпоху см. [Кашкаров 1898].]. Еще один вызов социальной и экономической стабильности России касался текстов – поток новостей и литературы из Европы с описанием политических потрясений и поразительного развития коммерции и промышленности заставлял думать и чувствовать по-новому, иначе писать об экономике. Авторы, произведения которых я исследую, используют неустоявшиеся и неуместные на первый взгляд заимствованные экономические термины и понятия. Как можно видеть на примере эпиграфа из «Евгения Онегина», они не просто пытались подражательно представить местные экономические условия, но и вольно обращались с адаптациями европейских экономических моделей. Несоответствие между иностранными и отечественными экономическими реалиями стало источником русской поэтики[12 - Я использую термин «поэтика» в базовом значении «творческих принципов, определяющих любую литературную, культурную или общественную структуру» [Oxford English Dictionary 2016].].
В своем исследовании я приняла за аксиому отсутствие четких границ между объектами, словами и чувствами в рамках экономики материальной и экономики текстуальной. Подходящей эмблемой тут может служить монета: кусок металла только тогда начинает выполнять функцию денег, когда на нем обозначат официально объявленную стоимость и когда его можно использовать для исполнения своих желаний. Возьмем серебряный рубль ограниченного выпуска, представленный на рис. 1а и 16. Эта монета 1836 года посвящена победе Александра I над Наполеоном Бонапартом в 1812 году и открытию в 1834 году Николаем I Александровской колонны на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Подтверждая стремление властей управлять чувствами граждан – наряду с экономикой, – монета буквально указывает россиянам, что они должны ощущать: благодарность.
Рис. la. Серебряный рубль в память победы Александра I над Наполеоном и открытия Николаем I Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в 1834 году. Выпущен в 1836 году. Аверс: портрет Александра I с надписью «Александр Первый Б(ожьей). М(илостью). Император Всеросс(ийский).». Фото любезно предоставлено Национальной нумизматической коллекцией Национального музея американской истории Смитсоновского института. Воспроизведено с разрешения Смитсоновского института
Рис. 16. Серебряный рубль в память победы Александра I над Наполеоном и открытия Николаем I Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в 1834 году. Выпущен в 1836 году. Реверс: Александрийский столп, текст: «Александру Первому от благодарной России. 1834. 1. рубль.». Фото любезно предоставлено Национальной нумизматической коллекцией Национального музея американской истории Смитсоновского института. Воспроизведено с разрешения Смитсоновского института
Надпись на монете «Александру Первому от благодарной России» цитирует слова с пьедестала колонны, этого впечатляющего архитектурного шедевра, который остается одной из самых высоких триумфальных колонн в мире. Эта монета – памятник памятнику, который знаменует собой одновременно и культурно-технологическую, и военную победу, показывая россиян «благодарными» и прежнему, и нынешнему правителю. Примечательно, что подобный язык благодарности превращает деньги в дар: как памятный знак щедрости царской династии, который можно носить с собой, монета расширяет мемориальное пространство Дворцовой площади до размеров всей империи. Аббревиатура «Б. М.», то есть «Божьей милостью», освящает право царя награждать свой народ отчеканенными деньгами.