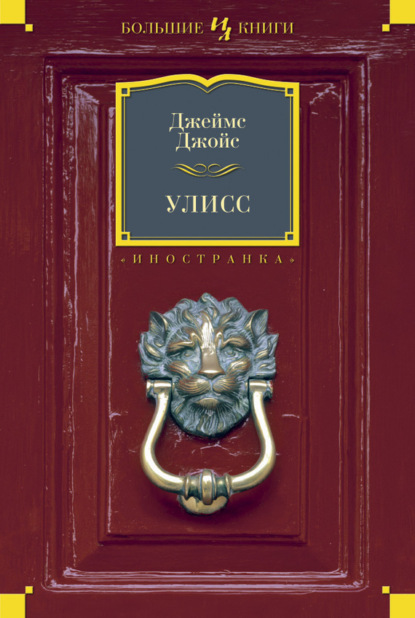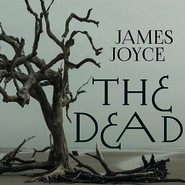По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Улисс
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Там будет саженей пять. Отец твой спит на дне морском[195 - Отец твой спит на дне морском – вновь (см. эп. 1) Шекспир, «Буря», I. 2.], над ним саженей пять. В час, он сказал. Найден утопленник. Полный прилив на Дублинской отмели. Гонит перед собой наносы гальки, случайные ракушки, широкие стаи рыбы. Труп, выбеленный солью, всплывает из отката, покачивается к берегу, едет-едет сам-сам, самец. Вон он. Цепляй живо. Хотя над ним волны сомкнулись очертанья. Готово, наш. Полегче теперь.
Мешок трупных газов, сочащийся зловонной жижей. Стайка мальков, отъевшихся на рыхлом лакомстве, стрелой вылетает через щели его застегнутой ширинки. Бог стал человеком человек рыбой рыба гагарой гагара перинной горой[196 - Игра слов: перинная гора – постельная перина и одновременно – гора Фезербед, возвышенность к югу от Дублина, неоднократно упоминаемая в «Улиссе».]. Дыханьями мертвых дышу я живой, ступаю по праху мертвых, пожираю мочой пропитанную требуху от всех мертвых. Мешком переваленный через борт, он испускает смрад своей зеленой могилы, лепрозная дыра носа храпит на солнце.
Морской сюрприз, соль высинила карие глаза. Морская смерть[197 - Морскую смерть называет мягчайшей и предсказывает ее Одиссею Тиресий в Песни XI.], мягчайшая из всех, ведомых человеку. Древний отец Океан.[198 - Древний отец Океан – одно из имен Протея у Гомера.] Парижский приз – остерегайтесь подделки. Рекомендуем проверить. Мы получили огромное удовольствие.
Ступай. Пить хочется. Собираются облака. А тучи где-нибудь есть, нет? Гроза.[199 - Пить хочется… Гроза – аллюзии на сцену распятия Христа.] Сверкая, он низвергается, гордая молния разума,[200 - Сверкая… разума – реминисценция евангельского текста Лк. 10, 18 о низвержении с неба Сатаны (Люцифера, «светоносца» (лат.)). Лат. цитата о Люцифере – из католич. службы Святой Субботы, с малым изменением; но в службе Люцифер – утренняя звезда и не отождествляется с Сатаной.] Lucifer, dico, qui nescit occasum[58 - Люцифер, говорю я, который не знает падения (лат.).]. Нет. В шляпе, с посохом бреду, башмаки стучат.[201 - В шляпе, с посохом бреду, башмаки стучат – «Гамлет», IV, 5.] Его-мои башмаки. Куда? В закатные земли, в страну вечернюю. Вечер обретет себя.
Он взял тросточку за эфес, сделал ею легкий выпад, еще в нерешительности. Да. Вечер обретет себя во мне – без меня. Все дни приходят к концу. Кстати, на той неделе, когда там во вторник самый длинный день. Несет нам радость новый год, о мать, тарам-пам-пам.[202 - Несет нам радость новый год, о мать – строка из стихотворения «Майская королева» (1833) Альфреда Теннисона (1809–1892). Джойс относился весьма отрицательно и к стихам Теннисона, и к его роли официального «поэта-лауреата» викторианской Англии; Стивен, кому он передал это отношение, наделяет Теннисона насмешливым прозвищем Лаун-Теннисон (еще в «Портрете» он ниспровергал его как «рифмоплета»).] Благородному поэту Лаун-Теннисону. Gi?[59 - Уже (ит.).]. Старой желтозубой ведьме. И мсье Дрюмону, благородному журналисту. Gi?. А зубы у меня совсем плохие. Почему, интересно? Пощупай. Этот тоже шатается. Скорлупки. Надо бы, наверно, к зубному на эти деньги, а? И тот. Беззубый Клинк, сверхчеловек.[203 - Клинк, сверхчеловек – словарь и некоторые идеи Ницше можно проследить и у Маллигана, и у Стивена; сам Джойс в 1904 г. подписался под одной открыткой Дж. Робертсу: Джеймс Сверхчеловек.] Почему это, интересно, или, может, тут что-то кроется?
Платок мой. Он забрал. Помню. А я назад не забрал?
Рука тщетно пошарила в карманах. Нет, не забрал. Лучше другой купить.
Он аккуратно положил сухую козявку, которую уколупнул в носу, на выступ скалы. Желающие пусть смотрят.
Позади. Кажется, кто-то есть.
Он обернулся через плечо, взирая назад. Пронося в воздухе высокие перекладины трех мачт, с парусами, убранными по трем крестам салингов, домой, против течения, безмолвно скользя, безмолвный корабль.
II. Странствия Улисса
4. Калипсо
[204 - Сюжетный план. 8 часов утра – начало странствий Нового Одиссея. На роль его выбран дублинский еврей 38 лет, мелкий рекламный агент Леопольд Блум. Выбор требует замечаний. Во-первых, он сразу создает такое отличие новой одиссеи от древней: резкий сдвиг от коллективных, широких тем и ценностей к личным, индивидуальным, частным. Одиссей – царь, оторванный от своей родины войной; Блум – только муж, оторванный от своего дома интрижкой жены. В этом есть вызов; представляя делишки Блума странствиями Одиссея, Джойс не только вносит иронию, но и совершает переоценку ценностей. Только отдельный человек, его личность, чувства, проблемы имеют для него ценность и интерес. Войны же, революции и весь прочий всемирно-исторический антураж – лишь скучный абсурд, где к тому же масса лжи и жестокости. Еще в 1905 г. он писал брату: «Погоня за героикой – гнусная вульгарность. Я абсолютно убежден, что вся структура героизма – это записная ложь, и ничто не может заменить индивидуальную страсть в качестве движущей силы чего угодно». Следующий вопрос: почему Блум – еврей, если автор желает писать роман не с еврейским, а с дублинским колоритом, в Дублине же евреи – крохотное экзотическое меньшинство? Этот вопрос задавали автору много раз, и отвечал он по-разному, чаще уклончиво-лаконически, например, так: «Потому что он был им», – т. е. евреем был прототип Блума. Ясно, что тут следствие выдается за причину. Но в одном из ответов дан убедительный аргумент: «Мне подходил только иностранец. В то время евреи в Дублине были иностранцами. К ним не было вражды, а только презрение, которое люди всегда проявляют к незнакомому». В литературном методе Джойса обычная в романах всезнающая фигура автора-рассказчика устраняется и его функции в известной мере воспринимает главный герой. От Блума требовалось быть в гуще дублинской жизни, но иметь при этом некую дистанцированность, позицию наблюдателя. Этому же содействует и его безрелигиозность, невключенность ни в одну из религиозных общин. Помимо того, играл роль идейный мотив: одна из сквозных нитей романа – параллель судеб (угнетение, пленение, рассеяние…) и характера (дар слова, рассудительность, мягкость… – набор субъективен, конечно) ирландского и еврейского народов, Ирландии и Израиля (ср. эп. 7, 17 и др.).Начиная день, Блум готовит завтрак для Новой Пенелопы, своей жены Мэрион; себе к завтраку он приносит почку. За завтраком он читает письмо от дочери и после завтрака облегчает желудок. Мэрион, концертная певица, получает письмо от своего импресарио Буяна Бойлана, сообщающее о предстоящем его визите.Реальный план. В отличие от «Телемахиды» с ее специфической смесью автобиографии и романа, в образах Блума и Молли роль жизненной основы не больше, чем обычно в романах. Оба образа имеют ряд прототипов, которые все не очень близки. В ряду прототипов Блума самым ранним является дублинский еврей Альфред Хантер: он был намечен в герои «Улисса» еще в 1906–1907 гг., когда будущий роман мыслился как рассказ. Но известно о нем немного: по слухам, ему изменяла жена; однажды он помог юноше Джойсу, когда ему помял немного бока кавалер незнакомой девушки, за которой художник решил поухаживать на улице (см. эп. 15, 16). Наиболее основательным считают вклад триестского друга Джойса, талантливого романиста Этторе Шмица (1861–1928), писавшего под псевдонимом Итало Свево. Включают в круг прототипов и журналиста Теодоро Майера, другого триестского знакомого автора (и Майер, и Шмиц – евреи, отец Майера, как и отец Блума, происходил из Венгрии). И несомненно также, что в образ Блума вошло очень немало и от самого автора. «Стивен – юный Джойс, Блум – Джойс зрелый», – весьма прямо пишет Ричард Эллманн, крупнейший исследователь биографии художника. Нестандартность взглядов и мнений, цепкая наблюдательность и неутомимая работа мысли, живой интерес ко всякому человеку – все это личные черты Джойса, равно как и особенности его героя в женском и половом вопросе, вплоть до развернутых в «Цирцее» мотивов половых извращений. Но все-таки это только отдельные черты, и в целом образ Блума нельзя считать автобиографичным.Для Мэрион, Молли, главный и несомненный прототип – Нора, жена автора. Но и здесь роль художественного воображения очень велика. В роман перешли черты отношения Джойса к Норе, черты ее характера, многие небольшие черточки и привычки (см. Реальный план эп. 18). Но многие черты художник весьма усилил, сильней подчеркнув в образе женское начало, каким он его чувствовал и понимал. Нора была верной женой, ничуть не склонной «класть глаз» на всех окружающих мужчин, и это – далеко не единственное отличие ее натуры от Молли. Далее имелся и ряд менее значительных прототипов. В Дублине известны были муж и жена Ченс. Чарльз Ченс сменил немало занятий, был коммивояжером, рекламным агентом для газеты «Фримен», затем клерком в конторе следователя. Джойс использовал его многократно: в рассказе «Милость божия» он выведен как Чарли Маккой, затем под этим же именем он выступает в «Улиссе» (эп. 5, 10), а кроме того, кое-какие детали у него взяты и в образ Блума. Его жена была певицей-сопрано, выступавшей под именем мадам Мари Таллон, и чета Ченсов, рекламный агент и певица, доставила целый ряд деталей и черт для четы Блумов. Южная внешность и тип женского обаяния Молли пришли из нескольких источников. Один из них – Амалия Поппер, дочь триестского бизнесмена-еврея Леопольда Поппера, бравшая уроки у Джойса. (Джойс испытал недолгое увлечение ею, которое описал в романтическом наброске «Джакомо Джойс».) Другими были синьора Сантос, супруга триестского торговца, и одна из дочерей Мэта Диллона, дублинского друга семьи Джойсов. Из этих южных мотивов в воображении художника могли без труда возникнуть происхождение Молли и ее гибралтарское детство. Но есть и еще один источник всего этого, более неожиданный – и, думаю, более существенный. В 1912 г., посетив Голуэй, родной город Норы, Джойс написал там маленький итальянский очерк для триестской газеты. Он открывается темой о мифическом происхождении ирландцев – а особенно коренных западных, в Голуэе, – из Испании. Автор пишет: «Дублинские обитатели по сей день верят, что обитатели Голуэя имеют испанское происхождение, и по темным улочкам старинного городка нельзя сделать и трех шагов, чтобы не встретить настоящий испанский тип со смуглым лицом и черными как смоль волосами. Дублинец и не прав, и прав. Конечно, черные волосы и глаза редкость сегодня в Голуэе, тут царят, как на полотнах Тициана, медноволосые… но стоит закрыть глаза, и в полутьме истории ты увидишь испанский город…» Очерк заключает описание местного Введенского монастыря, где Нора провела несколько лет в отрочестве. Но и без этого мы знаем, что весь Голуэй для Джойса – под знаком Норы, он и отправился туда ради нее, увидеть ее места, представить и понять ее там… Поэтому очерк имеет личный план, и этот план говорит: стоило автору закрыть глаза – как его медноволосая голуэйская красавица превращалась в жгучую испанку. Так связываются воздушными путями в мире художника «Испания» и «Нора», рождая «испанский тип» Молли (ср. развитие темы в эп. 16).Не будем перечислять всех реальных соответствий. Они доходят до мелочей; недавно обнаружили книгу «Руби – краса арены», и в точности с описываемой у Джойса картинкой, – большая победа джойсоведенья! По «принципу гиперлокализации» Джойса, все географические реалии и вся «уличная фурнитура» соблюдены точно – но не рабски: например, владельцем мясной лавки вместо Майкла Брайтона сделан Моше Длугач, триестский знакомый автора и ревностный сионист. Так велела литература: с лавки Длугача, с сионистской рекламки в ней начинается тема еврейских корней Блума. Известен прототип отца Молли: то был отец семейства Пауэллов, которое Джойс знал в детстве, – старый служака, участник Крымской войны, именовавший себя «майор Пауэлл», хотя он был лишь унтер-офицер. Эту неясность с чином унаследовал и «майор Твиди». Наконец, жилище Блума на Экклс-стрит, номер 7, – это адрес и дом Джойсова друга Берна, он же Крэнли (см. также Реальный план эп. 17).Гомеров план. Песнь V, 149–270, повествует о жизни Одиссея, уже семь лет пребывающего в любовном плену на Огигии, острове нимфы Калипсо. По воле богов, переданной через их посланца Гермеса, Калипсо отпускает Одиссея вернуться домой на Итаку. Джойс специально оправдывал еврейскую национальность своего Улисса, отыскав труды (научно сомнительные) французского ученого Виктора Берара, где доказывалось, что Гомеров герой был финикиец, семит. Другие Гомеровы соответствия, согласно указаниям автора, таковы: Калипсо – Нимфа, изображение в спальне Блумов; Гермес – Длугач; Итака – Палестина, Сион.Тематический план. Скупо, но отчетливо в эпизоде обозначены почти все нити отношений и чувств, почти все стержневые линии будущего романа: Блум – жена (обожание, служение, подчиненность), Блум – дочь (отцовская забота и беспокойство), Блум – обидчик Буян («дерзкий почерк», «извозчик навеселе»), Блум – сын Руди, умерший младенцем (неушедшая боль). Главная ось – Молли и Бойлан, предвидимая и неотвратимая измена. Джойс мастерски показывает, что эта тема – постоянно в мозгу у Блума, однако она – табу для него, тема изгоняемая, неназываемая; наибольшее, что допускается, – воспоминание об их первой встрече на балу. Напротив, вольно текут палестинские фантазии Блума; обозначается и вообще его тяга ко всевозможным фантазиям, прожектам и планам.Дополнительные планы. Начиная с данного эпизода, Джойсом утверждается соответствие с органами тела. Орган для данного эпизода – почка. Искусство эпизода – экономика или домохозяйство, цвет – оранжевый (утреннего солнца, а также ночного горшка Молли), символ – нимфа.Эпизод был написан в Цюрихе в конце 1917 – начале 1918 г. и опубликован в июньском выпуске «Литл ривью» за 1918 г.]
Мистер Леопольд Блум с удовольствием ел внутренние органы животных и птиц. Он любил жирный суп из гусиных потрохов, пупки с орехами, фаршированное сердце, печенку, поджаренную ломтиками в сухарях, жареные наважьи молоки. Всего же больше любил он бараньи почки на углях, которые оставляли во рту тонкий привкус с отдаленным ароматом мочи.
Почки не выходили из головы у него, пока он, стараясь тихо ступать, собирал для нее завтрак на горбатом подносе. На кухне было прохладно, даже зябко, хотя за окном стояло летнее погожее утро. Это как-то еще разжигало аппетит.
Уголь в очаге разгорался.
Хлеб с маслом: еще ломтик – три, четыре – и хватит. Она не любит, когда гора на тарелке. Хватит. Отойдя от подноса, он снял с полки чайник и поставил на огонь сбоку. Чайник сел тусклой глыбой, выставив торчком хобот. Скоро поспеет. Хорошо. Во рту сухо.
Кошка ходила на прямых лапах вокруг ножки стола, хвост кверху.
– Мррау!
– А, вот ты где, – сказал мистер Блум, оборачиваясь от очага.
Кошка мяукнула в ответ и продолжала путь вокруг ножки, ступая на прямых лапах, мяукая. Вот так же она разгуливает по моему письменному столу. Мурр. Почеши за ушком. Мурр.
Мистер Блум с добродушным интересом поглядел на черное гибкое существо. Ладный вид: шерстка гладкая и блестит, белая пуговка под хвостом, глаза зеленые, светятся. Он нагнулся к ней, упершись ладонями в колени.
– Молочка киске!
– Мррау! – громко мяукнула она.
Говорят, они глупые. Они понимают, что мы говорим, лучше, чем мы их понимаем. Вот эта все что хочет поймет. И злопамятная. Интересно, каким я ей кажусь. Вышиной с башню? Нет, она ведь может на меня вспрыгнуть.
– А цыплят боится, – поддразнил он ее. – Боится цып-цыпочек. В жизни не видал такой глупой киски.
Жестокая. Это у них в природе. Странно, что мыши при этом не пищат. Как будто им нравится.
– Мгррау! – мяукнула она громче.
Глаза ее, жадные, полуприкрытые от стыда, моргнули, и жалобно, протяжно мяукнув, она выставила свои молочно-белые зубки. Он видел, как сужаются от жадности черные щелки ее зрачков, превращая глаза в зеленые камешки. Подойдя к шкафу, он взял кувшин, свеженаполненный разносчиком от Ханлона, налил на блюдце теплопузырчатого молока и осторожно поставил блюдце на пол.
– Мяв! – взвизгнула она, кидаясь к еде.
Он смотрел, как металлически поблескивают ее усы в тусклом свете и как, трижды примерившись, она легко принялась лакать. Правда или нет, что, если усы подрезать, не сможет охотиться. Почему бы? Может, кончики светят в темноте. Или служат как щупики, возможно.
Он слушал, как она лакает. Яичницу с ветчиной не стоит. В такую сушь яйца нехорошо. Хочется свежей, чистой воды. Баранью почку у Бакли сегодня тоже не стоит: четверг. Обжарить в масле – и с перчиком. Лучше свиную почку у Длугача. Пока чайник не закипел. Она лакала все медленней, потом вылизала блюдце. Почему у них языки такие шершавые? Лакать удобней, сплошь пористые, в дырочках. Ничего она тут не слопает? Он поглядел кругом. Ничего.
Тихо поскрипывая подошвами, он поднялся по лестнице в переднюю и стал у дверей спальни. Может, она захочет чего-нибудь повкусней. Обычно предпочитает небольшие бутербродики утром. Но все-таки – вдруг.
Он проговорил негромко, стоя в пустой передней:
– Я схожу за угол. Через минуту вернусь.
Услышал звуки своего голоса, добавил:
– Тебе чего-нибудь не захватить к завтраку?
Мягкий и сонный голос пробормотал в ответ:
– Нне.
Нет. Ничего не хочет. Затем послышался глубокий парной вздох, еще мягче, это она повернулась в постели, и разболтанные медные кольца звякнули. Надо, чтоб подтянули. Жаль. Из Гибралтара, неблизкий путь. Совсем забыла испанский, и ту малость, что знала. Интересно, сколько папаша за нее заплатил. Фасон старинный. Ах да, конечно. С губернаторского аукциона. По знакомству. По части денег старина Твиди кремень. Да, сэр. Было дело под Плевной. Я вышел из рядовых, сэр, и горжусь этим. Но все-таки хватило ума провернуть дельце с марками. Проявил дальновидность.
Рука его сняла шляпу с крючка над толстым пальто с его монограммой и над ношеным плащом с распродажи забытых вещей. Марка: картинка, а сзади клей. Наверняка из офицеров многие этим промышляют. Что говорить. Пропотевшее клеймо на дне шляпы молча сообщило ему: Плестоу, шляпы-лю. Он заглянул воровато за кожаный ободок. Белая полоска бумаги. Надежное место.
На крыльце он ощупал брючный карман: тут ли ключ. Нету. В тех, что оставил. Надо бы взять. Картофелина[205 - Картофелина – была когда-то дана Блуму покойной матерью как талисман (то, что спасло Ирландию в Великий голод) (см. эп. 15).] на месте. Гардероб скрипит. Не стоит ее тревожить. Была совсем сонная. Он притянул дверь к себе, осторожно, еще чуть-чуть, пока защитная полоска внизу не прикрыла порожек усталым веком. На вид закрыто. Обойдется до моего прихода.
Он перешел на солнечную сторону, минуя открытый люк погреба в семьдесят пятом доме. Солнце приближалось к шпилю церкви Святого Георгия. Похоже, день будет жаркий. Когда в этом черном, особенно чувствуешь. Черное проводит, отражает (а может, преломляет?) тепло. Но в светлом костюме никак нельзя. Не пикник. От ощущения блаженного тепла глаза его часто жмурились. Фургон из пекарни Боланда лотки наш насущный но ей вчерашний больше по вкусу пироги горячая хрустящая корочка. Чувствуешь себя помолодевшим. Где-нибудь на востоке, вот таким утром, пуститься в путь на заре. Будешь двигаться впереди солнца – выиграешь у него день. А если все время так, то в принципе никогда не постареешь ни на один день. Идешь вдоль берега, в незнакомой стране, подходишь к городским воротам, там стража, тоже какой-нибудь служака с усищами старины Твиди опирается на этакую длинную пику. Бродишь по улицам под навесами. Головы прохожих в тюрбанах. Темные пещеры лавок, где торгуют коврами, внутри здоровенный турок, Свирепый турка, сидит, поджавши ноги, покуривая витой кальян. Крики разносчиков. Для питья вода с укропом, шербет. Слоняешься целый день. Можешь повстречать парочку грабителей. Ну и что, повстречаешь. Солнце к закату. Тени мечетей между колонн; мулла со свитком в руках. Дрожь по деревьям, сигнал, вечерняя свежесть. Прохожу дальше. Гаснущее золотое небо. Мать на пороге хижины. Зовет детишек домой на своем темном наречии. Из-за высокой стены звуки струн. Луна в ночном небе, лиловая, как новые подвязки у Молли. Звуки струн. Слушаешь. Девушка играет на этом инструменте, как же он называется, цимбалы. Идешь дальше.
А может быть, там все и не так. Начитался этой ерунды: по следам солнца[206 - По следам солнца – согласно перечню в эп. 17, одна из книг в собрании Блума; книга реальна: Томпсон Ф. Д. По следам солнца. Дневник путешественника. Лондон, 1893.]. С сияющим солнцем на титуле. Он усмехнулся самодовольно. Как сказал Артур Гриффит про ту заставку над передовицей во «Фримене»: солнце гомруля восходит на северо-западе из переулка за Ирландским банком. Он длил усмешку. В духе еврейских острот: солнце гомруля восходит на северо-западе.[207 - Заставка над передовицей. – В здании Ирландского банка до Унии 1800 г. размещался парламент Ирландии. На северо-западе – в Англии, от которой зависело решение о гомруле.]
Он приблизился к пивной Ларри О’Рурка. Из-под решетки погреба плыли влажные испарения портера. Через раскрытые двери бара несло имбирем, бросовым чаем и бисквитной трухой. Но заведение стоящее: как раз у трамвайного кольца. Скажем, Маколи там подальше: гиблое место. А если бы провели линию вдоль Северной окружной, от скотного рынка к набережным, цена тут же бы подскочила.
Лысая голова над занавеской. Прижимист старый пройдоха. Насчет рекламы с ним бесполезно. Что ж, в своем деле ему видней. Вон он, наш бравый Ларри, без пиджака, прислонясь к мешкам с сахаром, созерцает, как прислужник в фартуке орудует с ведром и шваброй. Саймон Дедал его отлично копирует, как он щурит свои глазенки. Знаете, я вам что скажу? Что же, мистер О’Рурк? Знаете, для японцев русские – только закуска к завтраку.
Стоп, надо перекинуться парой слов: может, про похороны. Бедняга Дигнам, вы уже слышали, мистер О’Рурк?
Сворачивая на Дорсет-стрит, он бодро окликнул в дверь:
– День добрый, мистер О’Рурк.
– Добрый день, добрый день.