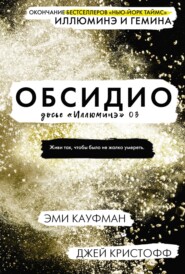По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Империя вампиров
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Жан-Франсуа щелкнул пальцами. Дверь в камеру тут же открылась – рабыня так и ждала на пороге, опустив скрытые за медными косицами глаза.
– Чего изволите, хозяин?
– Вина, – приказал вампир. – Моне, пожалуй. И принеси два бокала.
Взглянув в глаза мертвому мальчишке, женщина неожиданно зарделась.
Она присела в низком книксене и, шурша длинными юбками, поспешила прочь. Габриэль прислушался к ее шагам на каменных ступенях, стрельнул взглядом в сторону оставшейся открытой двери. Снизу, из шато, доносились слабые звуки: топот ног, обрывок смеха, тонкий и заливистый вопль. До двери, прикинул Габриэль, шагов десять. Между лопаток скатилась капелька пота.
Жан-Франсуа тем временем рисовал портреты отряда Грааля: отец Рафа в рясе и с колесом на шее; в памяти эхом прозвучало предупреждение священника. Габриэль разглядел Сиршу, ее косички рубаки и взгляд охотницы, похожую на рыжую тень львицу Фебу рядом. Беллами в обалдуйской шапчонке простодушно улыбался; а впереди стояла малышка Хлоя Саваж, вооруженная сребростальным мечом, веснушчатая, а в ее глазах лгуньи сияла вся надежда мира.
Вампир поднял взгляд.
– А, чудесно…
На пороге возникла рабыня с золотым подносом, на котором стояло два хрустальных бокала и бутылка отличного Моне с виноградников Элидэна. В эти ночи такая старина была редкостью вроде серебра. Целой императорской казной в пыльном зеленом стекле.
Рабыня поставила бокалы на столик и щедро плеснула напитка Габриэлю. Вино было красным, точно сердцекровь, а его аромат после запахов заплесневелой соломы да ржавого железа кружил голову. Второй бокал остался пустым.
Жан-Франсуа молча протянул руку. У среброносца пересохло во рту, пока он смотрел, как рабыня опускается на колени у кресла чудовища. Заливаясь краской и бурно дыша, она вложила свою руку в его ладонь. И снова Габриэль поразился, ведь она годилась вампиру в матери. Его бы замутило от творящегося кругом обмана, если бы не трепет при мысли о том, что готовилось вот-вот случиться.
Глядя на Габриэля, вампир поднес запястье женщины к губам.
– Прошу прощения, – шепнул он и принялся пить
Женщина тихонько застонала, когда в ее бледную кожу, проходя в податливую плоть, впились кинжалы цвета слоновой кости. Какое-то время казалось, что она, подпав под чары этих глаз, губ и зубов, может только дышать.
Они, чудовища в человеческой шкуре, называли это поцелуем. Он дарил удовольствие темнее любого плотского греха, слаще любого наркотика. Женщина отдалась ему, будто подхваченная волнами кровокрасного моря. И как бы ни было это ужасно, Габриэль отчасти вспомнил желание, от которого стучит в висках и набухает в паху. У него самого выросли и заострились зубы, и он даже уколол о кончик клыка язык.
Под кружевным воротником-ошейником у женщины Габриэль разглядел следы укусов. Кровь у него закипела в жилах при мысли о том, где еще на теле у нее имеются шрамы, оставленные этими тварями в минуты голода. Женщина тем временем запрокинула голову; по ее нагим плечам заструились длинные волосы; она прижала свободную руку к груди, и ресницы ее затрепетали. А Жан-Франсуа продолжал смотреть на Габриэля: чуть зажмурившись от удовольствия, он приглушенно охнул.
Но вот наконец чудовище прервало нечестивый поцелуй, оторвавшись от запястья женщины – между его губами и рукой протянулась тонкая рубиновая струнка, которая тут же лопнула. Все так же неотрывно глядя на угодника, вампир занес руку рабыни над пустым бокалом, сцеживая густую, теплую, багряную кровь в хрустальный сосуд. Комната наполнилась ее запахом; Габриэль задышал чаще, во рту у него сделалось сухо, как в могиле. Он желал ее. Нуждался в ней.
Вампир надкусил кончик собственного большого пальца и прижал его к губам женщины. Та распахнула глаза и ахнула; сунув ладонь себе между ляжек, принялась сосать, как изголодавшийся младенец. Когда же бокал капля за каплей наполнился, вампир убрал ее прокушенную руку в сторону, а потом, точно забывшийся хозяин, предложил Габриэлю:
– Можем разделить ее на двоих. Если тебе так угодно.
Женщина, продолжая бурно дышать и лаская себя, взглянула на него. И тут Габриэль вспомнил: вкус, тепло, темное совершенное удовольствие, с которым не сравнится никакое курево. Жажда разыгралась в нем; трепет он ощущал всем телом: от паха, где щемяще ныло, до кончиков пальцев, в которых покалывало.
Ему же оставалось только стиснуть острые как ножи зубы и прошипеть:
– Нет, merci.
Жан-Франсуа улыбнулся и облизнул сочащееся кровью запястье рабыни, вынул палец у нее изо рта. Тяжелым и плотным, как железо, голосом чудовище велело:
– Оставь нас, милая.
– Как вам угодно, хозяин, – чуть дыша, ответила женщина.
Держась за спинку кресла, она встала на дрожащие ноги. Рана у нее на запястье уже затягивалась. Сделав напоследок неверный книксен, рабыня бросила на Габриэля похотливый взгляд и вышла.
Дверь тихонько затворилась.
Жан-Франсуа поднял бокал, и Габриэль завороженно посмотрел, как чудовище вертит его так и этак, рассматривая на свет лампы. Кровь в бокале была такой красной, что казалась черной. Глядя на угодника, вампир улыбнулся.
– Santе [16 - Твое здоровье (фр.).], – произнес Жан-Франсуа.
– Mortе, – ответил Габриэль, поднимая тост за его погибель.
Они выпили одновременно: вампир сделал один неспешный глоток, а Габриэль осушил бокал разом. Жан-Франсуа потом, посасывая набухшую нижнюю губу и чуть проколов ее клыком, вздохнул. Габриэль же потянулся за бутылкой и заново наполнил свой бокал.
– Итак, – пробормотал Жан-Франсуа, оправляя жилет, – ты был пятнадцатилетним мальчишкой, де Леон. Слабокровкой, ребенком с севера, которого из грязной дыры Лорсона вытащили в неприступный монастырь святой Мишон. Там из тебя сделали льва, сотворили легенду, противника, которого стал бояться даже Вечный Король. Как?
Габриэль вновь осушил бокал одним большим глотком, утер потек вина с подбородка и взглянул на гирлянду из роз у себя на правой руке. На восемь букв под костяшками кулаков:
терпение.
– Не делали из меня льва, холоднокровка, – ответил он. – Лев и так жил у меня в крови, как и говорила мама.
Он медленно, со вздохом сжал кулак.
– Мне лишь помогли высвободить его.
Книга третья
Кровь и серебро
Они были диковинкой и редкостью; приблудными братьями дворянских отпрысков, незаконным пометом плотницких жен и дочерей фермеров, воинами, которым, казалось бы, не стоило петь и единой баллады. И как же странно было то, что в темнейший для империи час на их худые и редкие плечи легла столь большая ответственность.
Альфонс де Монфор, «Хроники Серебряного ордена»
I. Успешные начинания
– Прошло полгода с тех пор, как я принес клятву инициата Серебряного ордена, и каждый день брат Серорук гонял меня в хвост и в гриву.
Как и предупреждал Аарон де Косте, Перчатка стала горнилом, в котором мне предстояло либо закалиться, либо расплавиться в шлак. Каждый день меня ждал новый танец, месяцами меня подвергали проверке – либо мой наставник, либо остроумные устройства братьев очага.
Среди них были «Колючие люди» – связка постоянно движущихся тренировочных манекенов, отвечавших на любой твой удар. «Молотилка» – вращающиеся дубовые столбы на высоте тридцати футов над каменным полом; один неверный шаг во время спарринга на них – и остаток дня заживляешь сломанные кости. Полоса препятствий, которая называлась «Шрам»; забег на скорость, «Коса»… И все это предназначалось для того, чтобы сделать нас тверже, быстрее, сильнее.
Санктус, которым мы причащались на вечерних мессах, пробуждал во мне зверя: повышал силу, ускорял рефлексы, обострял мои чувства бледнокровки… Я ощущал себя клинком, который наконец извлекли из холодного подвала на яркий свет солнца. И все же знал, что я не столь остр, как остальные ребята, и никогда не стану таким.
После испытания крови брат Серорук ни разу не заговорил о моем слабокровном происхождении, но мне хватало издевок от Аарона и его дружков. Инициаты Сан-Мишона приходили и уходили, задерживаясь в монастыре на дни или недели, а потом возвращались на охоту со своими наставниками. Многие из них были благородными, что логично: высококровные предпочитали общество дам им под стать. Но я на них смотрел как на бесконечный поток горделивых дрочил, презиравших меня из-за происхождения и слабой крови. Все они были теми еще засранцами. Дерьма на меня вываливали больше, чем табун коней.
Аарон, когда мог, общался с парнем по имени де Северин – сыном элидэнской баронессы. У де Северина были темные глаза и надутые губы, а вообще мордой он напоминал дохлую рыбину. Был у Аарона еще один приятель, симпатичный барчук, шатен со злющими голубыми глазами. Слуги в доме его отчима наверняка ходили на цыпочках. Звали его Средний Филипп.
– Средний Филипп? – удивленно моргнул Жан-Франсуа.
– Батюшка императора Александра, Филипп Четвертый, восседал на Пятисложном троне двадцать лет. Некоторые родители своих спиногрызов нарекают в честь прославленных людей, в надежде, что с именем передастся и слава. Среди инициатов оказалось сразу три Филиппа: самого маленького мы прозвали Мелкий, высокого – Здоровый, а того, что был промеж них, – Средний.