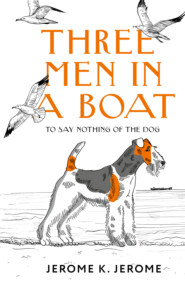По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
О привидениях и не только
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как только дядюшка кончил свой рассказ, я, как я уже говорил, поднялся и сказал, что буду спать сегодня в Голубой комнате.
– Ни за что! – вскричал дядя, вскочив со стула. – Ты не должен подвергаться этой смертельной опасности. Кроме того, постель там не постлана.
– Наплевать на постель, – ответил я. – Мне приходилось жить в меблированных комнатах для джентльменов, и я привык спать в постелях, которые оставались непостланными круглый год. Я принял решение, и вы мне не мешайте. Я молод и вот уже месяц живу с чистой совестью. Духи не причинят мне вреда. А может быть, я даже окажу им какую-нибудь услугу и заставлю их за это уйти или вести себя тихо. И потом, мне бы хотелось самому все увидеть.
Сказав это, я опять сел. (Каким образом мистер Кумбз попал на мой стул с другого конца комнаты, где он сидел весь вечер, и почему он даже не подумал принести извинения, когда я уселся прямо на него, и зачем было Биффлзу делать вид, что он – мой дядя, и, внушив мне это ложное представление, заставлять меня в течение трех минут трясти его руку и заверять его, что я всегда относился к нему, как к родному отцу, – все это я и по сей день не в силах понять.)
Они пытались отговорить меня от этой, как они выражались, безрассудной затеи, но я оставался непоколебим и требовал, чтоб мне дали возможность воспользоваться моим правом. Ведь я был «гость». А «гость» в сочельник всегда ночует в комнате с привидениями, это его привилегия.
Они сказали, что, конечно, если я ставлю вопрос так, то им нечего мне ответить; поэтому они зажгли мне свечку и все вместе проводили меня наверх.
Я был в крайне приподнятом настроении, – от того ли, что готовился совершить благородный поступок, или благодаря сознанию собственной правоты вообще – не мне судить, но в тот вечер я шел по лестнице, преисполненный необыкновенной жизнерадостности. Когда я поднялся на площадку, то едва мог остановиться: у меня было такое чувство, что мне хочется подняться еще выше, на чердак. Однако с помощью перил мне удалось сдержать свое честолюбивое стремление, я пожелал всем спокойной ночи, вошел в комнату и закрыл за собой дверь.
Неполадки начались сразу же. Свечка вывалилась из подсвечника, прежде чем я отпустил ручку двери. И она продолжала вываливаться из подсвечника каждый раз, как я поднимал ее и запихивал обратно. Никогда не встречал такой скользкой свечки. Наконец, я решил обойтись без подсвечника и стал носить свечку в руке, но и тут она ни за что не желала стоять прямо. Тогда я разозлился и вышвырнул ее в окно, а потом разделся и лег в темноте.
Я не заснул – спать мне ничуть не хотелось, я лежал на спине и глядел в потолок, размышляя о разных вещах. Жаль, что я не могу припомнить ни одной из тех мыслей, что приходили мне тогда в голову, они были очень остроумны. Я сам смеялся над ними так, что вся кровать тряслась.
Я пролежал таким образом с полчаса и совсем уже забыл о привидениях, как вдруг, случайно окинув взглядом комнату, я заметил в кресле у огня духа, который имел на редкость самодовольный вид и курил длинную глиняную трубку.
В первый момент я, как большинство людей в подобных обстоятельствах, подумал, что я сплю. Я сел в постели и протер глаза.
Нет! Сомнений быть не могло, это – привидение. Я видел сквозь него спинку кресла. Оно посмотрело в мою сторону, вынуло изо рта призрак своей трубки и кивнуло.
Самым удивительным для меня во всей этой истории было то, что я не испытывал ни малейшей тревоги. Если я и почувствовал что-нибудь, увидев его, так это, пожалуй, удовольствие. Все-таки общество.
Я сказал:
– Добрый вечер. И холодная же стоит погода!
Он сказал, что сам он этого не заметил, но охотно мне верит.
Несколько секунд мы оба молчали, а потом, стараясь быть как можно любезнее, я спросил:
– Я полагаю, что имею честь обратиться к духу джентльмена, у которого произошел несчастный случай с одним из тех певцов, что славят в сочельник Христа на улице?
Он улыбнулся и сказал, что с моей стороны очень мило припомнить это. Один такой крикун – не Бог весть какая заслуга, но все же и это на пользу.
Я был несколько обескуражен его ответом. Я ожидал услышать стон раскаяния. Дух же, казалось, наоборот, был очень собою доволен. Я подумал тогда, что раз уж он так спокойно отнесся к упоминанию об этом случае, то, наверное, его не оскорбит, если я задам вопрос о шарманщике. История этого бедняги меня живо интересовала.
– Скажите, пожалуйста, правда ли, – начал я, – что вы были замешаны в убийстве итальянского крестьянина, забредшего как-то в наш город со своей шарманкой, которая играла только шотландские песенки?
Он вспылил.
– Замешан, говорите? – вскричал он в негодовании. – Кто осмелился утверждать, что помогал мне в этом деле? Я умертвил парня собственноручно. Мне никто не помогал. Я один все сделал. Покажите-ка мне человека, который это отрицает.
Я успокоил его. Я заверил его, что у меня никогда и в мыслях не было сомневаться в том, что он единственный и подлинный убийца, и я пошел еще дальше, спросив его, что он сделал с телом корнетиста, которого он убил.
Он сказал:
– К которому из них относится ваш вопрос?
– О, значит, их было несколько? – спросил я.
Он улыбнулся и самодовольно кашлянул. Он сказал, что ему бы не хотелось показаться хвастуном, но если считать вместе с тромбонами, то их было семеро.
– Господи ты Боже мой! – воскликнул я. – Вот уж, наверно, пришлось вам потрудиться!
Он ответил, что не пристало ему, конечно, говорить так, но что действительно, по его мнению, редко какое английское привидение из средних слоев общества имеет больше оснований с удовлетворением оглядываться на свою жизнь, прожитую с такой пользой для человечества.
После этого он несколько минут сидел молча, попыхивая своей трубкой, а я внимательно разглядывал его. Никогда прежде, насколько я мог припомнить, не приходилось мне видеть, как привидение курит, и мне было очень интересно.
Я спросил его, какой табак он предпочитает, и он ответил:
– Дух сорта Кэвендиш.
Он объяснил мне, что дух того табака, который человек курит при жизни, остается в его распоряжении и после смерти. Он сказал, что он лично выкурил при жизни массу Кэвендиша, так что теперь он хорошо обеспечен духом этого табака.
Я заметил про себя, что это весьма полезные сведения, и решил, пока жив, курить как можно больше.
Я подумал, что начать можно сейчас же, и сказал, что, пожалуй, выкурю с ним трубочку для компании; он сказал: «Валяй, старик». Я протянул руку, достал из кармана своего сюртука необходимые принадлежности и закурил.
После этого у нас завязался дружеский разговор, и он рассказал мне обо всех своих преступлениях.
Он сказал, что однажды ему случилось жить рядом с молодой леди, которая обучалась игре на гитаре, в то время как напротив жил джентльмен, игравший на виолончели. И он с дьявольской изобретательностью познакомил этих двух ничего не подозревавших молодых людей и убедил их уехать и обвенчаться против воли родителей и взять с собой свои инструменты; они так и сделали, и не успел еще кончиться их медовый месяц, как она уже проломила ему виолончелью голову, а он изуродовал ее на всю жизнь, пытаясь заткнуть ей глотку гитарой.
Мой новый друг рассказал мне о том, как он заманивал к себе в дом уличных торговцев пышками и впихивал в них их собственные изделия до тех пор, пока животы у них не лопались и они не умирали. Он сказал, что обезвредил таким способом десятерых.
Девиц и молодых людей, декламирующих на вечерах длинные и нудные стихотворения, а также неоперившихся юнцов, которые бродят ночами по улицам и играют на гармошках, он обычно отравлял пачками, по пятнадцати за раз, чтобы дешевле обходилось; а уличных ораторов и лекторов, толкующих о вреде спиртных напитков, он запирал по шестеро в небольшой комнате, ставил каждому по стакану воды и по кружке для пожертвований и предоставлял им заговаривать друг друга до смерти.
Его было просто приятно слушать.
Я спросил, когда, по его мнению, должны прибыть остальные духи – духи уличного певца и корнетиста и немцев-оркестрантов, о которых говорил дядя Джон. Он улыбнулся и ответил, что никто из них никогда больше сюда не вернется.
Я сказал:
– Как? Значит, это неправда, что они встречаются здесь с вами каждый сочельник и учиняют скандалы?
Он ответил, что так было раньше. Каждый сочельник вот уже двадцать пять лет он сражался с ними в этой самой комнате, но больше они уже не будут беспокоить ни его, ни жителей дома. Одного за другим он их всех положил на обе лопатки, вывел из строя и сделал абсолютно непригодными для дальнейших выходов на землю. В этот самый вечер, незадолго до того, как я поднялся наверх, он покончил с последним немцем-оркестрантом и выбросил остатки в оконную щель. Он сказал, что из него уже никогда не выйдет ничего такого, что можно было бы назвать привидением.
– Но вы-то сами, я надеюсь, будете приходить как обычно? – спросил я. – Им здесь было бы очень жаль лишиться вас.
– Да не знаю, – ответил он. – Теперь уж и незачем вроде приходить. Если только, конечно, – добавил он любезно, – здесь не будет вас. Я приду при условии, что в следующий сочельник вы опять будете ночевать в этой комнате.
Вы мне понравились, – продолжал он, – вы не убегаете с визгом при виде обыкновенного призрака, и волосы у вас не становятся дыбом. Вы не представляете себе, – сказал он, – до чего мне надоело видеть, как у людей волосы встают дыбом.
Он сказал, что это его раздражает.
Тут со двора донесся легкий шум, он вздрогнул и почернел, как смерть.
– Ни за что! – вскричал дядя, вскочив со стула. – Ты не должен подвергаться этой смертельной опасности. Кроме того, постель там не постлана.
– Наплевать на постель, – ответил я. – Мне приходилось жить в меблированных комнатах для джентльменов, и я привык спать в постелях, которые оставались непостланными круглый год. Я принял решение, и вы мне не мешайте. Я молод и вот уже месяц живу с чистой совестью. Духи не причинят мне вреда. А может быть, я даже окажу им какую-нибудь услугу и заставлю их за это уйти или вести себя тихо. И потом, мне бы хотелось самому все увидеть.
Сказав это, я опять сел. (Каким образом мистер Кумбз попал на мой стул с другого конца комнаты, где он сидел весь вечер, и почему он даже не подумал принести извинения, когда я уселся прямо на него, и зачем было Биффлзу делать вид, что он – мой дядя, и, внушив мне это ложное представление, заставлять меня в течение трех минут трясти его руку и заверять его, что я всегда относился к нему, как к родному отцу, – все это я и по сей день не в силах понять.)
Они пытались отговорить меня от этой, как они выражались, безрассудной затеи, но я оставался непоколебим и требовал, чтоб мне дали возможность воспользоваться моим правом. Ведь я был «гость». А «гость» в сочельник всегда ночует в комнате с привидениями, это его привилегия.
Они сказали, что, конечно, если я ставлю вопрос так, то им нечего мне ответить; поэтому они зажгли мне свечку и все вместе проводили меня наверх.
Я был в крайне приподнятом настроении, – от того ли, что готовился совершить благородный поступок, или благодаря сознанию собственной правоты вообще – не мне судить, но в тот вечер я шел по лестнице, преисполненный необыкновенной жизнерадостности. Когда я поднялся на площадку, то едва мог остановиться: у меня было такое чувство, что мне хочется подняться еще выше, на чердак. Однако с помощью перил мне удалось сдержать свое честолюбивое стремление, я пожелал всем спокойной ночи, вошел в комнату и закрыл за собой дверь.
Неполадки начались сразу же. Свечка вывалилась из подсвечника, прежде чем я отпустил ручку двери. И она продолжала вываливаться из подсвечника каждый раз, как я поднимал ее и запихивал обратно. Никогда не встречал такой скользкой свечки. Наконец, я решил обойтись без подсвечника и стал носить свечку в руке, но и тут она ни за что не желала стоять прямо. Тогда я разозлился и вышвырнул ее в окно, а потом разделся и лег в темноте.
Я не заснул – спать мне ничуть не хотелось, я лежал на спине и глядел в потолок, размышляя о разных вещах. Жаль, что я не могу припомнить ни одной из тех мыслей, что приходили мне тогда в голову, они были очень остроумны. Я сам смеялся над ними так, что вся кровать тряслась.
Я пролежал таким образом с полчаса и совсем уже забыл о привидениях, как вдруг, случайно окинув взглядом комнату, я заметил в кресле у огня духа, который имел на редкость самодовольный вид и курил длинную глиняную трубку.
В первый момент я, как большинство людей в подобных обстоятельствах, подумал, что я сплю. Я сел в постели и протер глаза.
Нет! Сомнений быть не могло, это – привидение. Я видел сквозь него спинку кресла. Оно посмотрело в мою сторону, вынуло изо рта призрак своей трубки и кивнуло.
Самым удивительным для меня во всей этой истории было то, что я не испытывал ни малейшей тревоги. Если я и почувствовал что-нибудь, увидев его, так это, пожалуй, удовольствие. Все-таки общество.
Я сказал:
– Добрый вечер. И холодная же стоит погода!
Он сказал, что сам он этого не заметил, но охотно мне верит.
Несколько секунд мы оба молчали, а потом, стараясь быть как можно любезнее, я спросил:
– Я полагаю, что имею честь обратиться к духу джентльмена, у которого произошел несчастный случай с одним из тех певцов, что славят в сочельник Христа на улице?
Он улыбнулся и сказал, что с моей стороны очень мило припомнить это. Один такой крикун – не Бог весть какая заслуга, но все же и это на пользу.
Я был несколько обескуражен его ответом. Я ожидал услышать стон раскаяния. Дух же, казалось, наоборот, был очень собою доволен. Я подумал тогда, что раз уж он так спокойно отнесся к упоминанию об этом случае, то, наверное, его не оскорбит, если я задам вопрос о шарманщике. История этого бедняги меня живо интересовала.
– Скажите, пожалуйста, правда ли, – начал я, – что вы были замешаны в убийстве итальянского крестьянина, забредшего как-то в наш город со своей шарманкой, которая играла только шотландские песенки?
Он вспылил.
– Замешан, говорите? – вскричал он в негодовании. – Кто осмелился утверждать, что помогал мне в этом деле? Я умертвил парня собственноручно. Мне никто не помогал. Я один все сделал. Покажите-ка мне человека, который это отрицает.
Я успокоил его. Я заверил его, что у меня никогда и в мыслях не было сомневаться в том, что он единственный и подлинный убийца, и я пошел еще дальше, спросив его, что он сделал с телом корнетиста, которого он убил.
Он сказал:
– К которому из них относится ваш вопрос?
– О, значит, их было несколько? – спросил я.
Он улыбнулся и самодовольно кашлянул. Он сказал, что ему бы не хотелось показаться хвастуном, но если считать вместе с тромбонами, то их было семеро.
– Господи ты Боже мой! – воскликнул я. – Вот уж, наверно, пришлось вам потрудиться!
Он ответил, что не пристало ему, конечно, говорить так, но что действительно, по его мнению, редко какое английское привидение из средних слоев общества имеет больше оснований с удовлетворением оглядываться на свою жизнь, прожитую с такой пользой для человечества.
После этого он несколько минут сидел молча, попыхивая своей трубкой, а я внимательно разглядывал его. Никогда прежде, насколько я мог припомнить, не приходилось мне видеть, как привидение курит, и мне было очень интересно.
Я спросил его, какой табак он предпочитает, и он ответил:
– Дух сорта Кэвендиш.
Он объяснил мне, что дух того табака, который человек курит при жизни, остается в его распоряжении и после смерти. Он сказал, что он лично выкурил при жизни массу Кэвендиша, так что теперь он хорошо обеспечен духом этого табака.
Я заметил про себя, что это весьма полезные сведения, и решил, пока жив, курить как можно больше.
Я подумал, что начать можно сейчас же, и сказал, что, пожалуй, выкурю с ним трубочку для компании; он сказал: «Валяй, старик». Я протянул руку, достал из кармана своего сюртука необходимые принадлежности и закурил.
После этого у нас завязался дружеский разговор, и он рассказал мне обо всех своих преступлениях.
Он сказал, что однажды ему случилось жить рядом с молодой леди, которая обучалась игре на гитаре, в то время как напротив жил джентльмен, игравший на виолончели. И он с дьявольской изобретательностью познакомил этих двух ничего не подозревавших молодых людей и убедил их уехать и обвенчаться против воли родителей и взять с собой свои инструменты; они так и сделали, и не успел еще кончиться их медовый месяц, как она уже проломила ему виолончелью голову, а он изуродовал ее на всю жизнь, пытаясь заткнуть ей глотку гитарой.
Мой новый друг рассказал мне о том, как он заманивал к себе в дом уличных торговцев пышками и впихивал в них их собственные изделия до тех пор, пока животы у них не лопались и они не умирали. Он сказал, что обезвредил таким способом десятерых.
Девиц и молодых людей, декламирующих на вечерах длинные и нудные стихотворения, а также неоперившихся юнцов, которые бродят ночами по улицам и играют на гармошках, он обычно отравлял пачками, по пятнадцати за раз, чтобы дешевле обходилось; а уличных ораторов и лекторов, толкующих о вреде спиртных напитков, он запирал по шестеро в небольшой комнате, ставил каждому по стакану воды и по кружке для пожертвований и предоставлял им заговаривать друг друга до смерти.
Его было просто приятно слушать.
Я спросил, когда, по его мнению, должны прибыть остальные духи – духи уличного певца и корнетиста и немцев-оркестрантов, о которых говорил дядя Джон. Он улыбнулся и ответил, что никто из них никогда больше сюда не вернется.
Я сказал:
– Как? Значит, это неправда, что они встречаются здесь с вами каждый сочельник и учиняют скандалы?
Он ответил, что так было раньше. Каждый сочельник вот уже двадцать пять лет он сражался с ними в этой самой комнате, но больше они уже не будут беспокоить ни его, ни жителей дома. Одного за другим он их всех положил на обе лопатки, вывел из строя и сделал абсолютно непригодными для дальнейших выходов на землю. В этот самый вечер, незадолго до того, как я поднялся наверх, он покончил с последним немцем-оркестрантом и выбросил остатки в оконную щель. Он сказал, что из него уже никогда не выйдет ничего такого, что можно было бы назвать привидением.
– Но вы-то сами, я надеюсь, будете приходить как обычно? – спросил я. – Им здесь было бы очень жаль лишиться вас.
– Да не знаю, – ответил он. – Теперь уж и незачем вроде приходить. Если только, конечно, – добавил он любезно, – здесь не будет вас. Я приду при условии, что в следующий сочельник вы опять будете ночевать в этой комнате.
Вы мне понравились, – продолжал он, – вы не убегаете с визгом при виде обыкновенного призрака, и волосы у вас не становятся дыбом. Вы не представляете себе, – сказал он, – до чего мне надоело видеть, как у людей волосы встают дыбом.
Он сказал, что это его раздражает.
Тут со двора донесся легкий шум, он вздрогнул и почернел, как смерть.