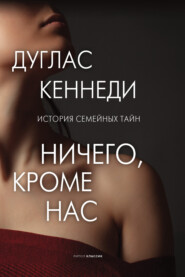По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В погоне за счастьем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я заверил ее… что в моей жизни нет никого, кроме нее.
Мне понадобилось какое-то время, чтобы переварить это.
– Ты не мог так сказать, – глухо прозвучал мой голос. – Скажи мне, что ты этого не говорил.
Он продолжал смотреть в окно, стоя спиной ко мне.
– Мне очень жаль, Кейти. Извини.
– Извини… Какое пустое слово.
– Я люблю тебя…
И вот тогда я бросилась в ванную, хлопнула дверью, заперлась на замок, осела на пол и разрыдалась. Питер стучал в дверь, умоляя впустить его. Но, вне себя от горя и отчаяния, я не хотела даже слышать его.
Постепенно удары в дверь стихли. Мне удалось успокоиться. Я заставила себя подняться, открыла дверь и, шатаясь, добрела до дивана. Питер уже ушел. Я сидела на краешке дивана, пребывая в состоянии, близком к тому, что наступает после автокатастрофы, – тупой шок и где-то в подсознании бьется мысль: неужели это наяву?
Помню, как я на автопилоте надела пальто, схватила ключи от квартиры и вышла.
Потом было такси, и я ехала куда-то, но подробности той поездки не отложились в памяти. Однако, когда мы остановились на углу 42-й улицы перед старинным жилым комплексом Тьюдор-Сити, я, хотя и не сразу, все-таки вспомнила, почему я здесь и кого собираюсь навестить.
Я вышла из такси и зашла в подъезд. Когда лифт остановился на седьмом этаже, я прошла по коридору и нажала кнопку звонка у двери под номером 7Е. Мне открыла Мег, в выцветшем бледно-голубом махровом халате, с извечной сигаретой в углу рта.
– Ну, и чем я заслужила такой сюрприз…? – сказала она.
Но тут она вгляделась в меня внимательнее и резко побледнела. Я сделала шаг к ней и уронила голову на ее плечо. Она обняла меня.
– О, дорогая моя… – тихо произнесла она. – Только не говори мне, что он был женат.
Я прошла в комнату. И снова разрыдалась. Она налила мне виски. Я пересказала ей всю эту глупую сагу. Ночь я провела на ее диване. На следующее утро я и думать не могла о том, чтобы явиться в офис, поэтому попросила Мег позвонить мне на работу и сказать, что я больна. Она поспешила в свою спальню, где стоял телефон.
Вскоре она вышла и сказала:
– Можешь считать меня надоедливой старухой, сующей нос не в свои дела… но хочу тебя обрадовать: в офисе тебя не ждут раньше второго января.
– Что ты там наговорила, черт возьми, Мег?
– Я говорила с твоим боссом…
– Ты звонила Питеру?
– Да.
– О боже, Мег…
– Выслушай меня. Я позвонила ему и просто объяснила, что ты слегка не в форме. Он сказал, что «учитывая обстоятельства», ты можешь спокойно отдыхать до второго января. Так что радуйся – одиннадцать дней отпуска. Неплохо, а?
– Особенно для него – это здорово облегчает ему жизнь. Ему не придется встречаться со мной до отъезда в Лос-Анджелес.
– А ты что, хочешь увидеть его?
– Нет.
– Защите нечего добавить.
Я опустила голову.
– Должно пройти время, – сказала Мег. – Много времени. Больше, чем ты думаешь.
Я и сама это знала. Так же как знала и то, мне предстоят самые долгие в моей жизни рождественские каникулы. Горе накатывало на меня волнами. Иногда его провоцировали какие-то совершенно глупые и банальные вещи – например, целующаяся парочка на улице. Или я ехала в метро (в бодром расположении духа после праздного шатания по Музею современного искусства или шопинг-терапии в «Блумингдейлз») – и вдруг, совершенно неожиданно, возникало ощущение, будто я лечу в глубокую пропасть. Я перестала спать. Я резко похудела. Каждый раз, как я пыталась себя увещевать, эмоции снова брали верх, и я впадала в отчаяние.
Я поклялась, побожилась, зареклась больше никогда не терять голову из-за мужчины и не выказывала ни малейшей симпатии (а наоборот, демонстрировала презрение) к подругам, которые превращали свои любовные неудачи во вселенскую трагедию: манхэттенский вариант «Тристана и Изольды».
Но бывало так, что я просто не знала, как прожить наступающий день. В такие минуты я чувствовала себя заложницей глупой и избитой драмы. Помню, как-то на воскресном завтраке с матерью в местном ресторанчике я вдруг разревелась. Пришлось выйти в туалет и отсидеться там, пока не улеглись мелодраматические всплески в духе Джоан Кроуфорд. Вернувшись за столик, я заметила, что мама уже заказала нам кофе.
– Меня очень беспокоит твое состояние, Кэтрин, – тихо сказала она.
– Просто была очень тяжелая неделя, не обращай внимания.
– Это мужчина, не так ли? – спросила она.
Я села за стол, залпом выпила кофе и кивнула головой.
– Должно быть, все это очень серьезно, раз ты так расстраиваешься.
Я пожала плечами.
– Не хочешь рассказать мне? – спросила она.
– Нет.
Она опустила голову – и я поняла, что глубоко обидела ее. Кто это однажды сказал, что матери готовы разбиться в лепешку ради своих детей?
– Мне бы очень хотелось, чтобы ты мне доверяла, Кейт.
– Мне тоже.
– Тогда я не понимаю, почему…
– Так уж сложились между нами отношения.
– Ты огорчаешь меня.
– Извини.
Она потянулась ко мне и пожала мою руку. Мне захотелось сказать ей так много – что мне трудно пробиться сквозь защитную оболочку ее врожденного аристократизма; что я никогда не смела откровенничать с ней, потому что боялась ее суровой критики; что я безумно люблю ее… но между нами висел груз прошлого. Да, это был один из тех редких моментов (в духе Голливуда), когда мать и дочь могли бы преодолеть разделявший их барьер и, вместе всплакнув, примириться. Но жизнь идет по своему сценарию, не так ли? В такие решающие минуты мы почему-то тормозим, колеблемся, робеем. Возможно, потому, что в семейной жизни окружаем себя броней. С годами она становится все прочнее. И пробиться сквозь нее бывает трудно не только окружающим, но и нам самим. Это наш способ защитить себя – и самых близких – от суровой правды жизни.
Остаток каникул я провела в кинотеатрах и музеях. Второго января я вернулась на работу. В офисе с большим сочувствием отнеслись к моему «ужасному гриппу» – и тут же вывалили на меня последние новости: «Ты слышала о переводе Питера Харрисона в Лос-Анджелес?» Я была сдержанна, тщательно выполняла свою работу, приходила домой, тихо страдала. Горе утратило свою остроту, но ощущение утраты не прошло.