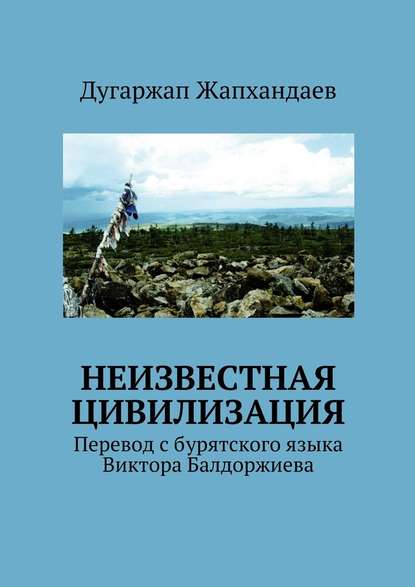По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Неизвестная цивилизация. Перевод с бурятского языка Виктора Балдоржиева
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Едем дальше. Солнце сдвинулось с зенита, тени стали длиньше.
– Хотел показать тебе лавку Ивана Бурлакова, да его безногого сына с ключами дома не оказалось! – досадует папа, нахлестывая вожжами коня.
Миновав Тулутай, направляемся в Харгастуй, который рассыпался у самого подножия заросшей лесом горы по обе стороны большой и пыльной дороги.
Здесь тоже – избы, цветы в окнах, колодезные журавли. На вершине сопки сложены камни обо. Неужели русские молятся на обо, как буряты?
– Косте Иванову зайдем, – говорит мне папа, спрыгивая с телеги и привязывая коня к подгнившему старому столбу. Во дворе – тишина, даже собачонки не видно. Нет и русских в красивых одеждах. Наверное, все ушли купаться.
Не спеша входим в низенькую избу. Из полумрака навстречу нам вышел седой и худощавый старик, узнав папу, он заулыбался, приветливо протягивая сухие руки.
– Мэндэ! – поздоровались мы.
– Мэндэ! С кем это ты, Хайдапыч, приехал? -заговорил старик, ласково смотря на меня. Я робко пожал протянутую руку. У него были пепельного цвета волосы, борода, выцветшие глаза, Даже рубашка на нем была старая и выцветшая.
Папа мой что-то сказал старику. Они снова заулыбались и заговорили… Я удивленно смотрел на большую прокопченную печь, наверху что-то шевелилось. Оттуда слезла седая сгорбленная старуха в черном сарафане и в полинявшем платке. Она была похожа на мою бабушку, но намного старее ее. Дрожащими руками она нащупала трубу самовара.
– Здравствуйте, – сказала она тихим, но обрадованным голосом, оглядывая нас. Я подошел к папе и прошептал ему на ухо: «Папа, эти старики не слепые?»
– Сынок, иди сюда! – вдруг позвал меня старик. Он достал из-под кровати деревянный ящик, вытащил оттуда что-то круглое и пронзительно зазвенел им, отпустив на пол. Я увидел круглую вертящуюся юлу. Вдруг юла подпрыгнула и упала. Я выпучил глаза и замер от восхищения. Старик рассмеялся и протянул мне юлу.
– Держи, твоя!
Теперь я все время буду играть юлой!.. Старик с папой продолжили беседу. Старуха старым сапогом раскочегарила самовар.
У Кости— талы не оказалось чая. Старики заваривали березовую чагу и ели хлеб из ярицы. Но мы были, как дома. Костя— тала знал всех бурят Загдачея, расспрашивал о здоровье своих знакомых, их детях, кто и где кочует, как перизимовал скот. Он был своим человеком!
На прощанье старуха вручила мне гостинец – огромную репку!
Солнце село, но было еще светло. Наша телега затарахтела по дороге домой. Показались крыши изб Тулутая. Впереди шли две женщины, папа попридержал коня, женщины сели на телегу и засмеялись, озорно поглядывая на меня. Они ссыпали мне в подол несколько горстей шуршаших семечек и, спрыгнув в Тулутуе, долго махали нам вслед.
Темнело, В Хушуне еще не зажигали огня. На фоне вечернего неба Дунда-Мадага кажется огромной и замершей рыбой, а белый абрикос— буйлэсан – чешуей. Подул прохладный ветерок. Папа завернул меня в старый тэрлик. Хорошо ехать в вечернем сумраке, прижавшись спиной к спине папы, и смотреть на убегающие контуры гор. В небе кричат невидимые птицы, а в тайге кто-то воет. Что это? Волки воют или русские поют?
Телега подпрыгивает и покачивается, как качели, иногда чуть не опрокидывается… Из сизого тумана медленно появляется седой старик в белой вылинявшей рубахе с длинной белой бородой, глаза у него закрыты, но вдруг они распахиваются, старик в упор смотрит на меня и зовет: «Иди сюда!» Только я хотел отскочить от него, как кто-то толкнул меня в плечо…
– Не спи, – говорит папа, – скоро будем дома.
Темень. Телега подпрыгивает. Снова проваливаюсь в дрему, появляются избы русских деревень, смеющиеся мужики… Бурлаковы, Ивановы, Кондратьевы, Шильниковы, Ларионовы, Поповы, Татауровы… Русские женщины улыбаются и протягивают мне гостинцы…
ВОЛКИ
Днем говорили, что появились волки, а ночью раздались крики и вопли людей. Мы молча прислушивались. Наши никогда и никому ничего не говорят, даже если знают, что и где случилось. Но я понял: к овцам Намсараевых забрались волки. Почему никто не стреляет? У дяди Намсарая должен быть карабин. У дедушки есть берданка и кремневка…
Утром к нам пришла жена дяди Намсарая. Ее вытянутое лицо вытянулось еще больше. Волки задрали у них несколько овец.
– Вам хорошо, – говорила она, – вы между стоянками живете. А о н и спускаются с Саган— Шулута и – прямо к нам… Придется овец в стайку закрывать на ночь.
Но ночью волки забрались и в крепкую стайку Намсараевых. У них много скота и овец. Почему волки нападают на стада и отары богатых? Почему у бандитов много ружей, а у простых людей – мало?
В юрте тепло. Я сонно выглянул из-под одеяла. Дверь открыта. Выбегаю на улицу. Тепло светит солнце, от нижней речки поднимается голубоватый туман. То ли в тайге токуют, прищелкивая, расфуфыренные тетерева, то ли чисто и чеканно журчит наш ручей… Вдруг послышался тонкий и режущий звук. Что это?
Папина кузница закрыта. Я приоткрыл дверь и тут же отшатнулся: в сумраке кузницы сидел тучный лама в красно-желтой одежде. Он испугался. Что он там делает? Я обошел кузницу и прильнул к щели. Папа пилой по железу усердно отпиливал ствол карабина. Теперь карабин будет коротеньким. Вот бы мне такую игрушку! Лама приоткрыл дверь и, высунув большую круглую голову, осторожно оглядел окрестность и снова исчез в кузнице. Отрезок ствола со стуком упал на землю. Лама быстро сунул обрез за пазуху.
– Ламы ходят с ружьями? – через несколько дней спросил я у папы.
– Не знаю… А что случилось? – удивился он.
– Ничего… У них, кажется, бывают обрезанные карабины, – беспечно ответил я.
– Наверное, бывают, -задумчиво сказал папа. – Они же днем и ночью ходят по людям, читают молитвы и лечат, А сейчас много волков, ночью опасно ходить, встречаются и двуногие волки, у них много оружия. Не будет же лама таскать карабин за плечом…
Представив шагающего ламу с ружьем за плечом, я звонко рассмеялся. Конечно, обрез легко спрятать за пазуху, удобно положить его и под кошму в телеге. Вдруг ночью конь ламы испугается и захрапит. Вот тут-то лама и вытащит обрез, тогда волкам несдобровать. И двуногим, и всем остальным… А кусок обрезанного ствола можно было бы подарить и мне…
Разрешив загадку с волками и обрезами, я успокоился. Но как много еще загадок! Например, мы делаем мячи из вылинявшей шерсти коров, но вчера вечером только начали скатывать шерсть с коровы Намсараевых, как с треском полыхнули мелкие синие искры. Что это такое? А жена дяди Намсарая говорит, что корова затяжелела и скоро отелится…
МУЗЫКА
Теперь я слушаю музыку. Иногда люди играют на флейте— лимбе, чаще они поют песни. На праздниках – веселые, а на работе – грустные. Но однажды вечером я услышал удивительные звуки. Они тонко и протяжно жаловались, неожиданно радовались чему-то, плакали и смеялись. Музыка звучала совсем рядом, за стайкой. Взволнованный, я побежал туда.
Худощавый человек с острым и отрешенным лицом, в коричневом тэрлике, сидел на траве и извлекал звуки из белой коробки с длинной шеей, на которой были натянуты волосы от конской гривы. Он водил по этим волосам палочкой, похожей на маленький лук. Вокруг человека сидели люди и слушали, затаив дыхание. Когда музыкант закончил, один из людей подался вперед и спросил:
– Цырен-ахэ, сколько стоит ваша скрипка— хур.
– Давай три рубля и забирай мою скрипку. Я сделаю еще! – рассмеялся человек.
Они встали и пошли, о чем-то договариваясь. Музыка испарилась… Я побежал к маме и рассказал обо всем.
– Аа, это Жамбалов Цырен, – рассмеялась она мечтательно, – он волшебник и делает скрипки…
В кузнице приятно пахло смолой, папа строгал доску на верстаке.
– Папа, сделайте мне маленькую скрипку! – попросил я. Папа продолжал строгать, он думал. Потом отставил рубанок в сторону и сказал:
– Скоро я начну расковывать коней, выберу самые крепкие волосы из хвостов и грив. Будет у тебя скрипка!
Я мечтаю о скрипке, слушаю голоса людей, скрип колес, шум ветра и дождя… Сколько в мире звуков! Они никогда не кончаются, они поют и плачут, радуются и печалятся. Мир – это музыка… И вот папа вручил мне маленькую скрипку— хур в ящичке. Только почему он положил в футляр кору лиственницы с высохшей смолой? Я выбросил кору и, вытащив скрипку, стал играть. Долго я водил смычком по волосяным струнам. Но чарующие звуки стали медленно тускнеть, а потом и вовсе превратились в визг. Что случилось? Я разочаровался и забросил скрипку.
Через много дней папа сказал мне, что смычок скрипки надо смазывать смолой. И снова скрипка очаровывала меня волшебными звуками. Вот только нагаса— эжи недовольно проскрипела:
– Это от дьявола. Грех!
Что ни делаешь – все грех. Но нагаса— эжи знает жизнь лучше меня. Душа моя опечалилась. Как жить дальше, что надо делать для того, чтобы любить музыку и быть безгрешным?
НА ЛЕТНИКЕ
Скота и овец у нас стало много. Ягнята большие и крепколобые. Я пасу их и смотрю на озорных трясогузок, которые радостно кричат: «Чив— чив— чии». Вот бы найти их гнезда и собрать яйца. Но опять же нагаса— эжи говорит, что это божьи птицы и нельзя трогать их гнезда. Видимо, только серенькие и беспечные воробьи не божьи.
Мы перекочевываем на летник у подножия горы Соктуй. Папа погрузил на телеги пожитки. Я уже большой, не поеду на телеге, а погоню с Жалма-абгай коров и овец.