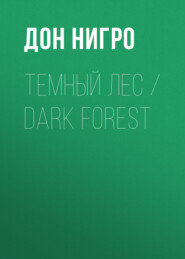По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Люди театра / Theatre’s People
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дон Нигро
Дон Нигро «Люди театра/Theatre’s People/2021». Пьеса-коллаж из двух мужских монологов, старого продюсера и старого актера.
«Бродвейский макабр/Broadway Macabre/ 1998, 1999, 2002». Монолог старого продюсера, убеждающего молодого драматурга поступиться принципами и изменить пьесу в соответствии с пожеланиями режиссера. Ситуация автобиографическая. Молодым драматургом был Дон Нигро, который стоял на своем и отказался от постановки пьесы, потому что счел неприемлемыми предложенные изменения.
«Лошадиный фарс/Horse Farce/1992». Монолог старого актера, рассказывающего, не так и связно о своем, точнее, своих выступлениях в спектаклях по пьесе «Соломенная шляпка». За долгую жизнь в театре он играл разные роли, но теперь все они сливаются в один спектакль. Не может он не сказать и об актерском призвании.
Дон Нигро
Люди театра / Theatre’s People
1. Бродвейский макабр
(Свет падает на СТАРОГО ПРОДЮСЕРА[1 - Арнольд Сент-Саббер/Arnold Saint-Subber (1918–1994) – известный бродвейский продюсер.], мужчину преклонного возраста, с седыми волосами, бледного, худого, по виду, тяжело больного, очень хорошо одетого. Он сидит в кресле на пустой сцене. Выглядит и говорит, как джентльмен, поэтому, когда разражается проклятьями и ругательствами, выглядит это особенно неожиданно, резко отличается утонченных манер, которые видны невооруженным глазом. У него хорошо развитое чувство юмора и взрывной характер. Он вспыхивает, как порох, потом успокаивается, никуда не уходят только мрачный фатализм и твердая решимость взять верх над всеми, кто ему противостоит).
СТАРЫЙ ПРОДЮСЕР. Как мне работалось с Питером Бруком? Понравилось ли мне работать с Питером Бруком? Ты[2 - Молчащий собеседник Арнольда – сам Дон Нигро.] сидишь здесь, во всей своей самонадеянности гребаной юности, на грани того, чтобы упустить величайший и, возможно, единственный шанс в твоей гребаной жизни, и это все, о чем ты можешь спросить? Понравилось ли мне работать с Питером Бруком? Ты так легко сдаешься, после всего, через что мы прошли, всего, ради чего работали, всех этих гребаных унижений, на которые я соглашался, чтобы помочь тебе, звонил тому, умолял этого, ставил мою гребаную репутацию на эту чертову пьесу, после всего, что я сделал, потому что верил в тебя, верил, что это чертовски хорошая пьеса, лучше девяноста процентов того дерьма, на постановках которого я разбогател, и все, на что тебя хватает, так это спросить, понравилось ли мне работать с Питером Бруком? Да кого волнует это Питер гребаный Брук?
Что, по-твоему, все это значит? Ты думаешь, причина в деньгах? Ты думаешь, я всю свою гребаную жизнь занимался этим, потому что хотел разбогатеть? Я мог разбогатеть, когда мне этого хотелось. Я становился богачом уже не упомню сколько раз, потом терял все, возвращал и снова терял. Меня интересовали не деньги. Меня интересовала борьба. Я люблю бороться. Чтобы показать этим ублюдкам. Чтобы показать этим ублюдкам, что я могу победить. Чтобы взять над ними верх. Это война. Не обманывай себя. Театр – это не танцы-шманцы с поцелуями и объятьями. Театр – это война. Война. Смертельная борьба. Без правил. Только хитрость и безжалостное стремление перерезать другому парню глотку от уха до уха. С улыбкой на лице, в начищенных туфлях и с гребаным триумфальным маршем в сердце. Так всегда было. И всегда будет.
Но теперь все выглядит иначе. Или, может, я старый и уставший. Я вернулся в это место, хотя уже на гребаной пенсии и живу в полумертвом Мендочино, и все по-другому, странное, непонятное, как сон. Я не знаю, в чем дело. Все то же самое, но при этом и нет. Я старый, я уставший, но все равно хочу показать этим ублюдкам. Я по-прежнему собираюсь быть великим стариком этого гребаного нью-йоркского театра. Я собираюсь выиграть. Я собираюсь выиграть. И меня не остановить. Ты понимаешь? Ты понимаешь, что это означает? Выиграть в этом месте? Ты не знаешь. Не имеешь ни малейшего понятия, что это означает, так?
Мой отец продавал билеты на Таймс-Сквер. Целыми днями, даже под проливным дождем, ходил взад-вперед по Сорок четвертой улице, втюхивая билеты. С одиннадцати лет я ему уже помогал. Знал каждое шоу, каждого актера, каждую чертову шлюху на Бродвее. Стал продюсером в девятнадцать. Разбогател к двадцати пяти. Разорился в тридцать пять. Вновь разбогател в сорок. Даже сейчас, когда люди видят, что я вхожу в ресторан, они встают. Некоторые по привычке. Другие – из страха. Большинство – от искреннего уважения. Они уважают меня как тираннозавра. Поэтому не вешай мне лапшу на уши с этим ханжеским трепом о меркантильности. И не доставай меня художественной цельностью. Я знаю все о художественной гребаной цельности. Я с ними работал, со всеми великими, святыми и грешниками, мудрейшими и дураками, богатыми и бедными. Какое только дерьмо не валилось мне на голову. И вот что я тебе скажу, сынок. Слушай меня внимательно, потому что это гребаная истина. Я пытаюсь спасти твою жизнь. Нельзя быть девственницей и шлюхой одновременно. Если хочешь выиграть, нужно сыграть в эту игру, а если вступил в игру, долго гребаной девственницей ты не останешься, а раз стал шлюхой, лучше быть шлюхой богатой и успешной. Слушай меня. Я говорю правду. Я говорю честно и откровенно. К этому нельзя просто повернуться спиной. Это громадина. Это Бродвей. Единственное такое место в мире. Центр гребаной вселенной. Так почему, скажи на милость, ты хочешь уехать отсюда в гребаную глухомань и работать с бестолковыми театральными провинциалами? Ты слишком хороший драматург, чтобы растрачивать свое время, якшаясь с гребаными дилетантами. Я говорю не о какой-нибудь чертовой коневодческой ферме в Кентукки. Я говорю о профессиональном театре. Я говорю о величайшем театре этого мира. Господи, я говорю о Бродвее. Ты меня слушаешь? Да что, черт побери, с тобой такое?
И не лезь ко мне с гребаными проповедями о гребанном некоммерческом театре. Да что это, черт побери, означает? Кучка гребаных любителей, которая не смогла пробиться на Бродвей, в настоящий театр, стенающая об искусстве и пытающаяся высосать деньги из государства. На хрен государство. Если это гребаное государство что-то делало для меня, так это забирало все мои гребаные деньги. Ты мастер, сынок. Действительно, мастер. Думаешь, эти люди оценят твою работу? Да они так трусливы, что не решаются отлить в кустах. Они будут улыбаться тебе в лицо, отрезая твои гребаные яйца. Я знаю этих людей. Ты для них слишком хорош. Ты принадлежишь к единственному профессиональному театру Америки, бродвейскому театру.
Я воспринимаю тебя, как сына, знаешь ли. Мне не стыдно это тебе сказать. Я очень тебя уважаю. За твой талант. Мой сын тоже был очень талантлив. По-своему. Это правда. Удивительный мальчик. Мог сделать все, что хотел. Абсолютно все. И знаешь, что он сделал? Однажды утром встал, накормил кота, почитал «Нью-Йорк таймс», пошел в ванную и перерезал себе горло опасной бритвой. Это жестокий бизнес.
Я тогда сам чуть не умер. Но не мог умереть. Не мог позволить ублюдкам победить. Заставил себя подняться и сразиться с этими гребаными сучьими детьми. Ирвинг Берлин. Теперь он вдохновляет меня. Жил рядом, можно сказать, за углом, жил многие годы. Однажды ночью я не мог спать, пребывал в отчаянии, если засыпал, мне снился мой ушедший сын, который чем-то напоминал тебя. Я встал, закурил, хотя делать этого не следовало, но кто слушает этих гребаных врачей. Эти упыри берут твои деньги, пока они не закончатся, а потом убивают тебя. Стоял здесь, у этого самого окна, выходящего на Бикмен-Плейм, в четыре часа утра, и знаешь кого я увидел, прогуливающимся по тротуару? Миниатюрного старичка, безупречно одетого, который шел, поддерживая под руку двух высоких молодых блондинок с длинными волосами и роскошной грудью. В четыре утро Ирвинг Берлин решил обойти квартал, подышать свежим воздухом. Праздновал свое столетие. И теперь я хочу уйти так же, как он. Дожить до ста лет, богатым, как дьявол, и на мой столетний юбилей отправиться на ночную прогулку, обойти квартал с двумя высокими, молодыми блондинками. Это не деньги. Это даже не власть. Это принцип. Да. Принцип. Это гребаный принцип.
Иногда мне снится, как я, под холодным дождем, помогаю отцу продавать билеты на Сорок Четвертой улице. Иногда мне даже снится жена, помоги мне, Господи. Но чаще всего мне снится мой покойный сын. Этот дом, который мы проезжали, с высоким деревом перед ним, у которого я остановился и заглянул в него. Я там жил сорок лет. Дерево все растет. Собаки по-прежнему писают на него. Любой считает себя критиком. Никогда не спорь с критиком. Спорить с критиком, все равно вызвать слона на спор, а кто больше насрет. «Нью-Йорк таймс» не годится даже на то, чтобы подтирать ею зад. Этот сукин сын, как там его звать, этот самодовольный садист, этот нацистский выродок называет себя критиком. Они заявляют, что нет у них никакой злобы, но это ложь. Их распирает от ненависти. Зависти и ненависти. Каждого из них.
Великие люди приходили в этот дом. Мэрилин Монро было близкой моей подругой, такая милая женщина. Нежная, добрая, остроумная, интеллигентная. Тупая блондинка – всего лишь роль, которую она играла. Она была мозгом любого предприятия, в котором участвовала. Женитьба, фильм, Актерская студия, что ни назови, везде она была самой умной. Док и Майк[3 - Док – прозвище Нила Саймона/Neil Simon (1927–2018), так называли его друзья. Майк – режиссер Майк Николс/Mike Nichols (1931–2014), позже великий кинорежиссер. Они репетируют «Босиком по парку». Первый успех Саймона на Бродвее.]