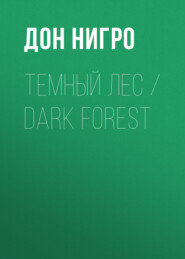По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Голгофа / Golgotha
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дон Нигро
Молодой человек тридцати трех лет, определенно психически нездоровый и, похоже, не получающий лечения, вообразил себя Иисусом Христом. Сам монолог, по существу, свободный поток сознания.
Дон Нигро
Голгофа
Don Nigro
Golgotha/1992
Перевел с английского Виктор Вебер
* * *
(Один персонаж, НАЗ, молодой человек тридцати с небольшим лет, в джинсах и фланелевой рубашке. Говорит со зрителями с практически пустой сцены, на ней только три деревянных стула).
НАЗ. Голгофа – это место черепов. Там меня распяли с двумя ворами. Их звали Мак и Мо. Один был из Шотландии, второй – из Бруклина. У меня остались отметины на руках. Люди рылись в кучах мусора в поисках еды, не гнушались отвратительной гадостью, отбросами, чем угодно. Так они проклинали меня на все лады, но одного из них я простил, забыл, кого именно и почему, это не имеет значения, спасенные и проклятые суть одно. Умирая, я вспомнил Лазаря. Когда я вернул его к жизни, он так дурно пахнул, плоть была зеленой и синей, глаза – желтыми, как спелая кукуруза, и с тех пор его терзают призраки. Он пристрастился сосать кровь своих сестер, Марты и Мэри. Одна мне прислуживала, вторая – купала. Я любил их обоих. Магдалена очень ревновала, хотя я предупреждал ее – не надо, ибо ревность ко мне привела Сатану к его падению. Я был младшим сыном, он – старшим, и вы знаете, что это означает. Когда он взял меня с собой, чтобы подняться на вершину горы и показать мне все королевства мира, я ему улыбался, и мы вдвоем поднимались все выше, в единой связке. Мы взяли с собой салями в контейнерах для ланча, и он позавидовал, что у меня очень хороший термос, в котором суп практически не остывал, и бросил его вниз, и он упал, далеко-далеко внизу, на детскую коляску. Он ненавидел меня из-за Магдалены. Каждый мужчина Питтсбурга хотел ее, но я сказал им, пусть любой из вас, кто без греха, бросит в нее камень, так один баптист бросил. Я пустил ему пулю промеж глаз, и после этого никто со мной не связывался. Моя мать встречалась с итальянским солдатом до моего рождения, ходили такие слухи, но мой отец все равно женился на ней, он был плотником, ему требовалась жена, он строил дома и не только, а она была практически ребенком, он взял ее с улицы, дал ей крышу над головой, она была почти девственницей. Мы никогда не нравились друг дружке. Я родился в хлеву и до сих пор чувствую зуд от сена и запах животных. Овца облизала мое лицо. Я всегда чувствовал близость к овцам, был хорошим пастухом, однажды мне приснилось, что я живу с овцой в сельской глубинке, но в моей голове, видите ли, в моей голове всегда звучал этот тихий, но такой настойчивый, не дающий покоя, голос. И я посмотрел на них, страждущих, немытых, увечных, хромоногих, беззубых, пускающих слюни, вонючих, беспомощных, невежественных, жаждущих верить, жаждущих быть ведомыми, и меня наполнили такие жалость и отвращение к постэдемовскому миру, к этой халтурной работе, сделанной моим отцом-создателем, со всеми болезнями, жестокостью, людоедством, а мой отец, видите ли, теперь я в этом убежден, людоед, он прямо сейчас поедает мой мозг, и если вы мне не верите и умеете читать, просто прочитайте его книгу, в которой вы заметите, как он постепенно сходит с ума, как в саду все идет не так, как творение становится уничтожением, и он все в большей степени отрекается от моего брата Сатаны. Невозможные правила, кровавые жертвоприношения, нетерпимость и убийства, все эти проявления прогрессирующего злобного старческого слабоумия, и весь ужас в том, что он – мой отец, я – его безумие, я и драматург, и исполнитель главной роли, герой и не герой, жертва и острозубый хищник. Так было не всегда. Раньше, давным-давно, все это иначе. Всю жизнь мне казалось, будто я что-то забыл, был какой-то другой я, от которого я отказался, чтобы стать таким, какой я теперь, и всегда, в столярной мастерской, у озера, наблюдая за утками, целуя грязных, темноглазых девушек в тенистых переулках, я какой-то частью рассудка искал свое прежнее «я». Так бывает, когда имя вертится на кончике языка, но вспомнить его невозможно, если думать только о нем, поэтому необходимо переключиться на что-то другое, и тогда имя неожиданно выскочит, словно посланное другой частью твоего «я», которую ты посылал на поиски сам греясь на солнышке. Вроде бы ты изучаешь примитивное искусство, исследую одной рукой промежность Синди. И когда какой-то болван однажды сказал, словно в шутку: «Да за кого ты себя принимаешь? За мессию?» – я начал задаваться вопросом, а может, это то самое, что я пытаюсь вспомнить, мое истинное «я», сокрытое от меня, чтобы я мог правильно отыграть эту пьесу, в которую я вписан, пьесу жизни обычного человека, и я не смог бы в полной мере ее ощутить или сыграть должным образом, если бы всегда знал о том, кто я на самом деле. Но сначала я в это по-настоящему не поверил, пока не коснулся грудей Марии Магдалены. Вот тогда, впервые, внезапно меня наполнило осознание, кто я. И я изумился, как истина могла быть плотью женщины? Разве такая истина не святотатство? Или тогда святотатство тоже истина? Мой брат Сатана в таких вопросах плавает, как рыба в воде, потому что постоянно этим занимается, но святотатство – последнее, что узнает Бог о себе, это ключ к заключительному этапу исследования истины. Петр не хотел этого слушать, его такие разговоры выбивали из колеи. Я помню, как одним летним днем мы смотрели телевизор и ели дыню, за окном печально ворковали голуби, а его тревожило, что я с каждым днем становлюсь все более отстраненным, возможно, потому, что страдания и боль притягивали меня, как магнит, у меня появились озарения, я видел в своей комнате странных животных и голых женщин, возникли сомнения в моем здравомыслии, и когда «Пингвины» сравняли счет, он указал мне, что у мессии нет права быть безумным. Но я засомневался. Может, наоборот, может только так и можно стать мессией. В конце концов, Бог безумен, так? Посетите скотобойню. И все-таки мне хотелось стать им, создателем пьес, но я родился, чтобы исполнить главную роль в этом спектакле, я должен отыграть ее до самого конца, я тот – кого распнут и низвергнут в ад, вот я и сказал Лазарю на эскалаторе в его универмаге: «Лазарь, хватит вонять, все смотрят на нас», – и это была правда, все смотрели, и он выкрикнул: «Почему ты вернул меня из мертвых? Я просил тебя об этом? Просил?» А я полюбопытствовал, каково это, быть мертвым? И он ответил: «Ты вроде бы сын Бога и ты не знаешь?». Вот я и объяснил ему, что на самом деле мертвым я никогда не был, потому что никогда не жил раньше. Но предполагаю, что стану мертвым, и скоро, вот и хочу предварительно ознакомиться с этим состоянием. Он сказал, что сначала все темно, и мертвецы лапают тебя и что-то бормочут на незнакомых языках, и улыбаются, и выдают себя за умерших родственников. Потом ты вдруг оказываешься на карусели, с вырезанными из дерева лошадьми, раскрашенными в разные цвета. Звучит громкая музыка, карусель крутится, мигают огни, а в центре прекрасная девушка, которая смотрит на тебя, и по мере того, как скорость вращения увеличивается, ты к ней приближаешься, крепко схватившись за деревянную лошадь, музыка звучит все громче, и ты уже так близко, что ощущаешь аромат ее духов, и она протягивает одну руку, а кисти и руки у нее идеальной формы, и браслет на запястье, и вот она рядом, сейчас ты почувствуешь ее прикосновение к своему плечу, но резкий толчок, и ты в вонючей могиле с червями и землей, с одними только червями и землей, вот и все дела. Что ж, я его поблагодарил и съел персик, который купил в семнадцатом столетии у моей подруги, четырнадцатилетней Нелли на лондонской улице, аккурат перед пожаром, так давно это было, можно сказать, только вчера. И я помню Понтия Пилата, еще одного из многих идиотов, одержимых властью, которые боятся созидания и исследований и должны уничтожать все, что не могут контролировать, в том числе и любого, кто способен созидать. И эти люди правят миром. «И что, скажи на милость, мне с тобой делать?» – спросил он. – Ты молчун? Я слышал обратное». Белки за окном слушали наш разговор, в компании призрака Боба Принца, по прозвищу Пушкарь, знаменитого диктора «Питтсбурских пиратов», и его верного напарника Опоссума. «Я слышал, что ты говоришь все время, – сказал Пилат. – Я слышал, отчасти твоя проблема в том, что ты просто не можешь закрыть свой чертов рот. Так почему ты не говоришь со мной? – Великий Роберто в броске ловит мяч на Форбс-филд, и Пилат выключает телевизор. – Послушай, я мне завтра утром рано вставать, я устал, настроение у меня не очень, мне пришлось выйти на балкон, чтобы поговорить с тобой, потому что эти люди не смеют войти в дом неверного, опасаясь подхватить от этого чесотку. Все это говорит не в твою пользу. И все-таки ты ничего не хочешь мне сказать». Но я почитал за благо держать рот закрытым, потому что иногда, открыв рот, ты оказываешься в проигрыше. Вот он и спросил меня, король ли я кошек, и я спросил его, а как он думает, и он сказал, не знаю, потому и спрашиваю, ты для меня ничем не отличаешься от лошади Юлия Цезаря, и я сказал ему, что всего лишь занимаюсь исследованиями истины, и он сказал, а руки его пахли жареной курицей и женщинами: «Я собираюсь помыть их, женщин – не руки, и я не нахожу вины в этом человеке, уведите его отсюда, но они все равно распяли меня. На кресте, помнится, Мак и Мо рассказывали мне, как рылись в мусоре на свалке у Мононгахилы, выглядывая опарышей. Потому что где опарыши – там и мясо, и однажды нашли ногу, кто-то выбросил ногу на свалку королевского дворца, где всегда находилось что-то стоящее, то младенец, то голова слона. Эта нога к чему-то крепилась? Стопы – это, по большей части, кости. А вот хорошая нога могла насытить человека. И они нашли вторую стопу, и вторую ногу, а потом и все тело, и обрадовались, потому что еды хватило бы им на неделю, но тут тело зашевелилось, потому что оказалось живым, и они принялись бить его палкой по голове, а тело спросила, это небеса, и везде жужжали мухи, и они били его, били палкой, приговаривая, вот тебе, сукин сын, а труп думал, что они – ангелы, а он на небесах, они его все били, а он схватил Мака за ногу, и не отпускал, и Мак принялся орать, и Мо попытался расцепить пальцы трупа, и они все повались на кучу отбросов, и труп спросил, вы это едите? Да, ответили они, но только то, что получше, и труп сказал, вы не должны этого есть, это отбросы, вам надо есть во дворце, и Мо спросил, а что, во дворце едят отбросы более высокого качества, и труп сказал, им надо бы во дворец, посмотреть, как танцует обнаженная Саломея, а тех свиней, которые во дворце, мледует выгнать сюда, чтобы они очищали мясо от опарышей, и труп спросил, а чего бы им не пойти во дворец и не отрезать царю Ироду детородные органы, а они ответили, не пойдут, потому что их у него и так нет. Но тут труп начал плакать, нет, вы этого не хотите, не можете превратиться в свиней, таких, как они, поменявшись местами со свиньей, ты сам превращаешься в свинью. Богатство разлагает, так же, как и бедность. Может человек жить на одном хлебе? Может жить на одних отбросах? Может жить один? И труп в отчаянии закопался обратно в мусор, но Мака и Мо арестовали за проникновение на дворцовую свалку и распяли, вместе со мной, а я подумал о Магдалине, которую схватили и хотели изнасиловать, но Петр их остановил, сказал, это позор, мы не какие-то дикари, мы – цивилизованные, верующие люди. Эта женщина прелюбодейка, и мы здесь не для того, чтобы насиловать ее, мы здесь для того, чтобы забить ее до смерти камнями. И я спросил их, а где мужчина? Потому что, если было прелюбодеяние, то должен быть прелюбодей, и Петр сказал, что люди просвещенные, свободные от предрассудков и суеверий, забивают камнями только женщин. Замахнулся, чтобы бросить камень, и ударил меня по носу, и пошла кровь, и он ужаснулся, и упал на колени, прося прощения, и я заставил их всех уйти, и Иоанн, этот идиот-мальчишка, попытался написать поэму, и я остался наедине с Магдалиной, она была прекрасна, и так хорошо пахла, и волосы у нее были такими мягкими, она посмотрела на меня и в ее глазах я вновь увидел Сад, и ее переполняла ненависть, и я знал, почему. Я до сих пор вижу ее. Не могу не видеть. Вот я и попросил Иуду продать меня врагам, а он отказался. Я сказал ему, что только ему я могу довериться, только он все сделает правильно, но он пришел в ужас, сказал. Что никогда не предаст меня, сказал, что я воскресил Лазаря из мертвых, сказал, что я – сын Бога, на что я ответил, если я – сын Бога, как ты можешь мне отказать? Магдалина развешивает выстиранное белье на веревке. Ничего не говорит, мучается с прищепками. Иуда плачет и уходит. Я остаюсь и наблюдаю, как она развешивает белье. Я обожаю изящные кисти и руки женщины. Я люблю нежное местечко под подбородком молодой девушки и ее шею. Ее тело – небеса. Я – ад. Она дрожит, развешивая старые комбинации, бюстгальтеры и трусы в дождливый питтсбургский день, такая нежная, с ароматом жимолости, встает на цыпочки, напрягая икроножные мышцы. Боже! То время, когда мы смотрели в окно и видели, как они образуют зверя о двух спинах, прекрасные и совершенные, только любовь, только нежность, никакого насилия, полное единение. Все животные смотрели на нее с нежностью и грустью. Такими мы были в начале. Не может это быть грехом. Две девушки, целующиеся в квартире. Кароли ненавидит меня, у каждого из нас есть наручная кукла-мышь, мы получаем рождественские открытки с ее фотографией, травяной склон, поднимающийся к дому, дождь на городских улицах, проблема в том, что вокруг так много боли, и это сводит меня с ума, вы понимаете, вы – воображаемые люди, сидящие в темноте, лицезрящие мою страсть? Я могу воскрешать людей из мертвых росчерком пера, но не могу помочь себе. Мы ужинали. Там был Леонардо, итальянский парень, делал фотографии. Тринадцать нас за столом, это к беде. Женщины отказались сидеть у нас на коленях. Я отдал Кароли моя наручную куклу-мышь, но она все равно ненавидит меня. Когда Иуда попытался продать меня, они посмеялись над ним. Я велел ему повторить попытку. Мы съели хлеб и выпили вино. Это было хорошо, но женщины ели мое тело. Я съехал на заду в Бобровый водопад. Святотатство, вы понимаете? Убивать человека за написанное, за высказанное, за мысли, за сотворенное, за заданные вопросы, на которые вы думаете, что уже ответили, это грех, это святотатство, но для него это, возможно, святое, поэтому вы убиваете его, и называете это религией, и называете это любовью. Загляните в свою душу, дикарь с Борнео, и вы обнаружите терзания подавляемого желания. Все было не так ночью, в саду, около университета. Совы допрашивали друг дружку на деревьях. Марта принесла суп. Появилась Мэг. Мы ели сэндвичи и слушали рок-группу «Ху», наблюдали за фейерверками, пили, каждый сказал, что они никогда не предадут, но я знал, до того, как прокричит петух, Иуда приведет копов. Она целовала меня, это был сигнал, она целовала меня на одеяле, рядом с корзинкой для пикника, полной вина, моя рука лежала на ее блузе, обхватив грудь, Боже, Боже, Боже, и коп оставил меч в моей лошади, сказал он, этот остряк по имени Ван Гог, Петр отрезал ему ухо, и была драка, меня увели, все было предрешено, что я мог сделать? И еще, если подумать, были рыбацкие лодки, но они ничего не делали. Во дворце Ирод ел виноград, как доктор Галл[1 - Уильям Уайти Галл/William Withey Gull (1816 – 90) – известный английский врач, согласно одной из версий, выдвинутой чуть ли не через сто лет после его смерти, Джек-Потрошитель.]