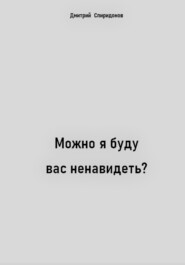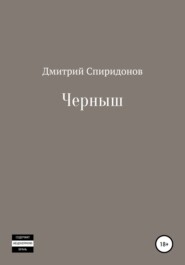По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Заманали!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Характер у тёти Любы тоже был не сахар. Однажды в коммуналке она в кровь разодралась с тётей Клавой. Соседи их разняли и привязали шумную Журавлёву полотенцами к кухонной батарее. Крупная тётя Люба сидела пьяная, полуголая, мычала и билась головой о стенку. Голубые её глаза были совершенно стеклянными, а во рту торчал кляп из тряпки и пузырилась розовая пена.
– Белочка у твоей подруженьки! В клетку её надо! – констатировала маме побитая тётя Клава.
Я представил как сильную, злую, красивую тётю Любу держат в зоопарке в железной клетке, и решил, что она быстро разнесёт зоопарк по кирпичику. Особенно если прохожие начнут её дразнить и тыкать палками через прутья.
Розовая пена из-под кляпа падала на бёдра привязанной тёти Любы. Почему-то у меня отложилось в памяти, что в тот день она сидела у батареи в разорванном коротком синем платье и в ажурных колготках. Колготки состояли из множества чёрных ниточек, облегающих ноги крест-накрест, но не примитивной «сеточкой», а сложными многоугольниками. Нитки образовывали по всему полю мелкие узелки.
Когда пьяная тётя Люба принималась сучить ногами, мне, маленькому, казалось, что по её могучим бёдрам ползут полчища пауков. Зрелище отталкивающее и завораживающее одновременно. А далеко в глубине между ног тёти Любы виднелась кружевная выпуклость трусиков. На это, конечно, мне смотреть не полагалось и меня загнали в комнату.
Тётя Люба попускала пузыри и уснула сидя у ржавой батареи. Потом мама тайком её отвязала, а к утру тётя Люба ничего не помнила про драку, мазала маслом разбитые губы и похмелялась пивом. С неё всё было как с гуся вода.
***
Вскоре мы съехали с коммуналки на Пролетарской. Мои родители получили в наследство от бабушки вот эту квартиру, где я сижу на окне за шторкой, а тётя Люба лежит на кровати – и опять связанная. Только колготки у неё без сеток и пауков, они лимонадные и гладкие. Дядя Боря от комода нет-нет да прогуляется по ним обволакивающим взглядом.
– Любовь Петровна, у вас потрясающий педикюр, – говорит он, но почему-то любуется не ногтями, а чёрными скобками-трусиками пленной тёти Любы. От трусиков пленницы веет жасминовой парфюмерией, потом и весенним дождём. А ещё чем-то женским, пряным и липким.
– Я и сама ничего! – снисходительно отмечает тётя Люба и с намёком колышет пятитонным бюстом. Она уже передумала называть себя старой.
Педикюр у неё отменный, без балды. Сквозь прозрачные колготки чётко видны ухоженные ногти, похожие на пурпурные зёрнышки граната. Они аккуратно выстроены по росту как матрёшки. Если тётя Люба шевелит пальцами ног, по лайкре разбегаются искорки, будто от ножа на точильном камне. Искорки кончают свой путь на кромке гранатовых ногтей, где по колготкам идёт двойной плоский шов.
– Извиняюсь за бестактный вопрос, Любовь Петровна, – говорит дядя Боря. – Вы не замужем?
Лежащая Любовь Петровна деланно вздыхает, неуклюже водит за спиной связанными руками, но ремень не хочет ослабляться. Бутылочные икры тоже крепко стянуты ремнём. Шов колготок между ног впивается в попу арестантки длинной цепочкой японских иероглифов, деля куполообразный зад на равные половинки. Похоже, он раздражает и сдавливает тёте Любе те части тела, которыми женщины особо дорожат и бережно прячут под нижним бельём.
Усмехнувшись, тётя Люба грациозно откидывает голову. Башня из белоснежных волос превращается в звёздную метель и рассыпается вокруг миловидного лица морскими гребешками.
– Вакансия свободна, – игриво говорит она дяде Боре. – А чо, посватать хочешь, ха-ха-ха? Неси заявление, рассмотрим. Только руки развяжи сначала.
Дядя Боря приободряется, поправляет пиджак.
– Я понимаю ваш сарказм, но вы с самого начала произвели на меня неизгладимое впечатление, дорогая Любовь Петровна. На фоне остальных гостей – и вдруг такая яркая представительная дама…
– Забыла сказать, – забавляется Любовь Петровна, неуклюже потягиваясь в своих путах. – Я дважды вдова. Первый муж разбился, второй запился. Ну как, третьим будешь? Ха-ха-ха!
Она от души смеётся, наблюдая за реакцией дяди Бори. Он несколько смешался.
– Хорош шутки шутить над пьяной бабой, – уже серьёзно говорит тётя Люба. – Лучше развяжи меня, надоело. Руки болят и в колготках чешется, как горячего песку туда насыпали. Жарко…
Дядя Боря поспешно кивает.
– Одну секунду, Любовь Петровна. Надо убедиться, ушла ли домой Стелла Михайловна? Чтобы, знаете, исключить повторный инцидент… Да и платок смочить пора. Вы мне, извиняюсь, не хуже Майка Тайсона вкатили, – он трогает лиловое подглазье.
– Иди-иди, малахольный! – величаво разрешает тётя Люба. – Стелку я всё равно как-нибудь прибью, так и передай. Она меня жирной б…. назвала. Журавлёва такого не прощает, поняли?
Дядя Боря в последний раз оглядывается на обширные сверкающие бёдра пленницы, на утопающую в подушке голую грудь и торчащий сосок, напоминающий твёрдую бусину в розовом обводе. И улетучивается за дверь. В коридоре гремит музыка – гости включили старенький альбом «Пет шоп бойз». Крис Лоу мурлычет хит «I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing» – «Обычно я бы так не поступил». Прикольное совпадение.
– Выпить мне притащи! – велит вдогонку Любовь Петровна. – Водочки охота! Плясать охота! Я на день рождения пришла, или связанной тут валяться?
Прячась за шторкой, я предвкушаю, что дядя Боря сейчас вернётся, распутает Любовь Петровну и выручит меня из двусмысленного нелегального положения. Сколько мне ещё таиться в шпионской ловушке на подоконнике? Пора бы идти гамать в «Героев меча» и отбивать наезды Балбита.
На радостях я откусываю большой кусок торта, начинаю жевать. Крем блестит и тает на языке прямо как капроновые ноги тёти Любы.
Проходит минута, другая, но дяди Бори всё нет. Любовь Петровна проявляет признаки беспокойства. Она барахтается в бамбуковой перине, трётся потным лбом о постель, трясёт за спиной скрученными кистями рук.
– Где он там, тошнотик? За Стелкой, что ли, ухлёстывает? Вот и верь мужикам!
Изгибаясь, Любовь Петровна беспомощно потирает друг о друга круглые пушечные колени, насколько позволяет стягивающий лодыжки ремень. Лимонадные колготки отзываются на трение чистым снежным хрустом, будто корабельный такелаж во время восьмибалльного шторма. Я предполагаю, что у тёти Любы чешется нижняя грузная часть тела, плотно обтянутая капроном и трусиками. Со связанными руками там, ясное дело, не почешешь.
– Заманали! – сердито выплёвывает белокурая пленница любимое словечко. – Как на грех, трусы к мокрому прильнули. Поцарапаться бы!
В самый разгар её попыток почесать в недосягаемых скобках-трусиках дверь отворяется.
***
Тётя Люба первой видит, кто там вошёл, потому что моя наблюдательная щель очень узкая. И я понимаю, что неведомый визитёр не приподнял ей настроения. Тётя Люба меняется в лице, пытается втянуть свою мега-макро-грудь в атласный корсет, целомудренно подгибает связанные ноги, чтоб колени загораживали пах, благоухающий жасмином и весенним дождём.
– Кострецкий!… – разочарованно стонет она. – Вот уж кого не думала здесь встретить! Чего припёрся, гнида?
Вместо элегантного дяди Бори в спальню просачивается сутулый, ехидный дядя Женя. Тот самый, что лез ей под юбку возле туалета, а потом хватал за ягодицы, когда буйную гостью связывали. Дядя Женя уже гораздо пьянее, чем был недавно.
– Удивлена? – хихикает он. – Мы с Наташкиным мужем вместе на техническом учились. Тачками я уже не занимаюсь, но старая дружба – она навсегда, верно? А ты за этот год ещё больше расцвела, Люба… Заневестилась.
– Вдали от г@вна женщина всегда цветёт! – хмуро парирует Любовь Петровна.
Она настороженно сопит и явно ждёт какого-то подвоха. Её голая спина напряжена, заломленные назад руки бешено вращаются в ременных кольцах. Параллельно она елозит бёдрами по кровати, заставляя вернуться на место задранную в схватке мини-юбку. Перед дядей Борей Любовь Петровна так не волновалась.
– А ты, Кострецкий, как был козлом год назад, так и остался! – выпаливает она. – Вовремя меня люди надоумили, пока глупостей не наделала! И сегодня – сразу мне под юбку суётся, как ни в чём не бывало. Рыло бесстыжее! Знала бы, что Наташка тебя пригласила, – сроду бы сюда не пошла!
– Под юбкой у тебя всё по-прежнему на уровне, Люба! – щерится дядя Женя. – А когда ты лежишь связанной – то вообще царица секса. Смотрела фильм «Западня для белой волчицы»?
– Порнуха какая-нибудь? – презрительно отрезает тётя Люба. – Извини, извращенские сказочки для онанистов не смотрю.
– Ах да! Ты же всегда по бразильским сериалам угорала, – дядя Женя плотно захлопывает дверь. – Любовь-морковь, Хосе-Кончита, шерше ля фам… Кстати, про волчицу – без дураков ляшистое кинишко. Там латиноамериканская охотница лежит в плену у главного злодея. На большой-большой кровати, вот как ты сейчас. И руки-ноги тоже ремнями связаны…
Говоря это, он постепенно приближается к кровати, а массивная тётя Люба пытается отползти от него на локтях и уже не заботится о задранном «мини» и выпавшей груди.
– А из одежды на девушке – только бусы и кожаная юбочка, – загробным голосом вещает дядя Женя. – Она лежит и молится своему охотничьему богу, потом заходит главный злодей – и … угадай, что с ней делает?
Он садится на кровать и жадно трогает тётю Любу за ноги, облитые колготками. Капрон издаёт восхитительное, чуть слышное потрескивание, на грани того, что способно уловить человеческое ухо. От этого звука у меня по животу бегут тёплые мурашки. Рука дяди Жени воровато скользит тёте Любе в ложбинку между сомкнутых бёдер, ползёт прямо к трусикам, где у женщин «запретное место».
Тётя Люба набрала воздуху, но не крикнула, только предупредила вполголоса:
– Куда, блин? Не распускай лапы! Отвали к своей суходранке! Кострецкий?… Чо неясно? Я заору! Заманали!
– Да! Ещё одна немаловажная деталь, – ласково сказал дядя Женя. – У девушки из кино в рот был вставлен кляп. Хоть это и не цивилизованно, но в некоторых случаях изумительно работает.
Он резко поднял тёте Любе голову за волосы, взял с кресла мамины лосины и комком запихал в шоколадные размазанные губы. Теперь тётя Люба не могла обзываться, зато побагровела от злости и урчала: «Хрр-рр, хрр-рр», как неисправный холодильник.