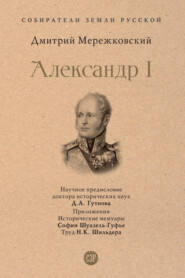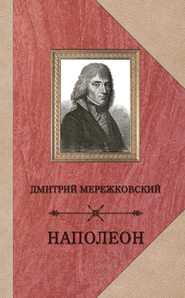По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи
Серия
Год написания книги
1901
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Указывая спутнику на странную форму одного низкорослого шелковичного дерева в саду, мимо которого они проходили, учитель заметил, что не только у каждого дерева, но и у каждого из листьев – особенная, единственная, более нигде и никогда в природе не повторяющаяся, форма, как у каждого человека – свое лицо.
Джованни подумал, что он говорит о деревьях с той же самой добротою, с которою только что говорил об его горе, как будто это внимание ко всему живому, обращаясь на природу, давало взгляду учителя проницательность ясновидящего.
На низменной, плодородной равнине из-за темнозеленых тутовых деревьев выступила церковь доминиканской обители Мария делле Грацие, кирпичная, розовая, веселая на белом облачном небе, с широким ломбардским куполом, подобным шатру, с лепными украшениями из обожженной глины – создание молодого Браманте. Они вошли в монастырскую трапезную.
Это была простая длинная зала с голыми выбеленными стенами, с темными деревянными балками потолка, уходившими вглубь. Пахло теплою сыростью, ладаном и застарелым чадом постных блюд. У простенка, ближайшего ко входу, находился небольшой обеденный стол отца-игумена. По обеим сторонам его-длинные узкие столы монахов.
Было так тихо, что слышалось жужжание мухи в окне с пыльно-желтыми гранями стекла. Из монастырской кухни доносился говор, стук железных сковород и кастрюль.
В глубине трапезной, у стены, противоположной столу приора, затянутой серым грубым холстом, возвышались дощатые подмостки.
Джованни догадался, что под этим холстом – произведение, над которым учитель работал уже более двенадцати лет, – Тайная Вечеря.
Леонардо взошел на подмостки, отпер деревянный ящик, где хранились подготовительные рисунки, картоны, кисти и краски, достал маленькую, исчерченную заметками на полях, истрепанную латинскую книгу, подал ее ученику и сказал:
– Прочти тринадцатую главу от Иоанна. И откинул покрывало.
Когда Джованни взглянул, в первое мгновение ему показалось, что перед ним не живопись на стене, а действительная глубина воздуха, продолжение монастырской трапезной – точно другая комната открылась за отдернутой завесою, так что продольные и поперечные балки потолка ушли в нее, суживаясь в отдалении, и свет дневной слился с тихим вечерним светом над голубыми вершинами Сиона, которые виднелись в трех окнах этой новой трапезной, почти такой же простой, как монашеская, только обитой коврами, более уютной и таинственной. Длинный стол, изображенный на картине, похож был на те, за которыми обедали монахи: такая же скатерть с узорными, тонкими полосками, с концами, завязанными в узлы, и четырехугольными, нерасправленными складками, как будто еще немного сырая, только что взятая из монастырской кладовой, такие же стаканы, тарелки, ножи, стеклянные сосуды с вином. И он прочел в Евангелии:
«Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их.
И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Искариоту предать Его, – возмутился духом, и сказал: аминь, аминь, глаголю вам, один из вас предаст меня.
Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит.
Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса.
Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит.
Он, припавши к груди Иисуса, сказал ему: „Господи, кто это?“
Иисус ответил: „тот, кому я, омочив хлеб, подам“. И омочив хлеб, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана».
Джованни поднял глаза на картину.
Лица апостолов дышали такою жизнью, что он как будто слышал их голоса, заглядывал в глубину их сердец, смущенных самым непонятным и страшным из всего, что когда-либо совершалось в мире, – рождением зла, от которого Бог должен умереть.
Особенно поразили Джованни Иуда, Иоанн и Петр. Голова Иуды не была еще написана, только тело, откинутое назад, слегка очерчено: сжимая в судорожных пальцах мошну со сребрениками, нечаянным движением руки опрокинул он солонку – и соль просыпалась.
Петр, в порыве гнева, стремительно вскочил из-за него, правой рукой схватил нож, левую опустил на плечо Иоанна, как бы вопрошая любимого ученика Иисусова: «кто предатель?» – и старая, серебристо-седая, лучезарно гневная голова его сияла тою огненною ревностью, жаждою подвига, с которою некогда он должен был воскликнуть, поняв неизбежность страданий и смерти Учителя: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя».
Ближе всех ко Христу был Иоанн; мягкие как шелк, гладкие вверху, книзу вьющиеся волосы, опущенные веки, отягченные негою сна, покорно сложенные руки, лицо с продолговато-круглым очерком – все дышало в нем небесной тишиной и ясностью. Один из всех учеников, он больше не страдал, не боялся, не гневался. В нем исполнилось слово Учителя: «да будут все едино, как Ты, Отче, во мне и Я в Тебе». Джованни смотрел и думал:
«Так вот кто Леонардо! А я еще сомневался, едва не поверил клевете. Человек, который создал это, – безбожник? Да кто же из людей ближе ко Христу, чем он!».
Окончив нежными прикосновениями кисти лицо Иоанна и взяв из ящика кусок угля, учитель пытался сделать очерк головы Иисуса. Но ничего не выходило.
Обдумывая десять лет эту голову, он все еще не умел набросать даже первого очерка.
И теперь, как всегда, перед гладким белым местом в картине, где должен был и не мог явиться лик Господа, художник чувствовал свое бессилие и недоумение.
Отбросив уголь, стер губкою легкий след его и погрузился в одно из тех размышлений перед картиной, которые длились иногда целыми часами.
Джованни взошел на подмостки, тихонько приблизился к нему и увидел, что мрачное, угрюмое, точно постаревшее, лицо Леонардо выражает упорное напряжение мысли, подобное отчаянию. Но, встретив взор ученика, он молвил приветливо: – Что скажешь, друг?
– Учитель, что я могу сказать? Это – прекрасно, прекраснее всего, что есть в мире. И этого никто из людей не понял, кроме вас. Но лучше не говорить. Я не умею…
Слезы задрожали в голосе его. И он прибавил тихо, как будто с боязнью:
– И вот, что я еще думаю и не понимаю: каким должно быть лицо Иуды среди таких лиц?
Учитель достал из ящика рисунок на клочке бумаги и показал ему.
Это было лицо страшное, но не отталкивающее, даже не злобное – только полное бесконечною скорбью и горечью познания.
Джованни сравнил его с лицом Иоанна. – Да, – произнес он шепотом, – это он! Тот, о ком сказано: «вошел в него сатана». Он, может быть, знал больше всех, но не принял этого слова: «да будут все едино». Он сам хотел быть один.
В трапезную вошел Чезаре да Сесто с человеком в одежде придворных истопников.
– Наконец-то нашли мы вас! – воскликнул Чезаре. – Всюду ищем… От герцогини по важному делу, мастер!..
– Не угодно ли будет вашей милости пожаловать во дворец? – добавил истопник почтительно. – Что случилось?
– Беда, мессер Леонардо! В банях трубы не действуют, да еще, как на грех, сегодня утром, только что герцогиня изволила в ванну сесть, а служанка за бельем вышла в соседнюю горницу, ручка на кране с горячей водою сломалась, так что их светлость никак не могли воду остановить. Хорошо, что успели выскочить из ванны. Едва кипятком не обожглись. Очень изволят, гневаться: мессер Амброджо да Феррари, управляющий, жалуются, говорят, – неоднократно предупреждали вашу милость о неисправности труб…
– Вздор! – молвил Леонардо. – Видишь, я занят. Ступай к Зороастро. Он в полчаса поправит. – Никак нет, мессере! Без вас приходить не велено… Не обращая на него внимания, Леонардо хотел опять приняться за работу. Но, взглянув на пустое место для головы Иисуса, поморщился с досадою, махнул рукой, как бы вдруг поняв, что и на этот раз ничего не выйдет, запер ящик с красками и сошел с подмосток.
– Ну, пойдем, все равно! Приходи за мной на большой двор замка, Джованни. Чезаре тебя проводит. Я буду ждать вас у Коня.
Этот Конь был памятник покойного герцога Франческо Сфорца.
И к изумлению Джованни, не оглянувшись на Тайную Вечерю, как будто радуясь предлогу уйти от работы, учитель пошел с истопником чинить трубы для спуска грязной воды в герцогских банях.
– Что? Насмотреться не можешь? – обратился Чезаре к Бельтраффио. – Пожалуй, оно и вправду удивительно, пока не раскусишь… – Что ты хочешь сказать?
– Нет, так… Я не буду разуверять тебя. Может быть, и сам увидишь. Ну, а пока – умиляйся…
– Прошу тебя, Чезаре, скажи прямо все, что ты думаешь.
– Изволь. Только, чур, потом не сердись и не пеняй за правду. Впрочем, я знаю все, что ты скажешь, и спорить не буду. Конечно, это – великое произведение. Ни у одного мастера не было такого знания анатомии, перспективы, законов света и тени. Еще бы! Все с природы списано – каждая морщинка в лицах, каждая складка на скатерти. Но духа живого нет. Бога нет и не будет. Все мертво – внутри, в сердце мертво! Ты только вглядись, Джованни, какая геометрическая правильность, какие треугольники: два созерцательных, два деятельных, средоточие во Христе. Вон по правую сторону – созерцательный: совершенное добро-в Иоанне, совершенное злов Иуде, различие добра от зла, справедливость – в Петре. А рядом – треугольник деятельный: Андрей, Иаков Младший, Варфоломей. И по левую сторону от центра – опять созерцательный: любовь Филиппа, вера Иакова Старшего, разум Фомы – и снова треугольник деятельный. Геометрия вместо вдохновения, математика вместо красоты! Все обдумано, рассчитано, изжевано разумом до тошноты, испытано до отвращения, взвешено на весах, измерено циркулем. Под святыней – кощунство!
– О, Чезаре! – произнес Джованни с тихим упреком, – как ты мало знаешь учителя! И за что ты так его… не любишь?..
– А ты знаешь и любишь? – быстро обернув к нему лицо, молвил Чезаре с язвительной усмешкой.
В глазах его сверкнула такая неожиданная злоба, что Джованни невольно потупился.
– Ты несправедлив, Чезаре, – прибавил он, помолчав. – Картина не кончена: Христа еще нет.
Джованни подумал, что он говорит о деревьях с той же самой добротою, с которою только что говорил об его горе, как будто это внимание ко всему живому, обращаясь на природу, давало взгляду учителя проницательность ясновидящего.
На низменной, плодородной равнине из-за темнозеленых тутовых деревьев выступила церковь доминиканской обители Мария делле Грацие, кирпичная, розовая, веселая на белом облачном небе, с широким ломбардским куполом, подобным шатру, с лепными украшениями из обожженной глины – создание молодого Браманте. Они вошли в монастырскую трапезную.
Это была простая длинная зала с голыми выбеленными стенами, с темными деревянными балками потолка, уходившими вглубь. Пахло теплою сыростью, ладаном и застарелым чадом постных блюд. У простенка, ближайшего ко входу, находился небольшой обеденный стол отца-игумена. По обеим сторонам его-длинные узкие столы монахов.
Было так тихо, что слышалось жужжание мухи в окне с пыльно-желтыми гранями стекла. Из монастырской кухни доносился говор, стук железных сковород и кастрюль.
В глубине трапезной, у стены, противоположной столу приора, затянутой серым грубым холстом, возвышались дощатые подмостки.
Джованни догадался, что под этим холстом – произведение, над которым учитель работал уже более двенадцати лет, – Тайная Вечеря.
Леонардо взошел на подмостки, отпер деревянный ящик, где хранились подготовительные рисунки, картоны, кисти и краски, достал маленькую, исчерченную заметками на полях, истрепанную латинскую книгу, подал ее ученику и сказал:
– Прочти тринадцатую главу от Иоанна. И откинул покрывало.
Когда Джованни взглянул, в первое мгновение ему показалось, что перед ним не живопись на стене, а действительная глубина воздуха, продолжение монастырской трапезной – точно другая комната открылась за отдернутой завесою, так что продольные и поперечные балки потолка ушли в нее, суживаясь в отдалении, и свет дневной слился с тихим вечерним светом над голубыми вершинами Сиона, которые виднелись в трех окнах этой новой трапезной, почти такой же простой, как монашеская, только обитой коврами, более уютной и таинственной. Длинный стол, изображенный на картине, похож был на те, за которыми обедали монахи: такая же скатерть с узорными, тонкими полосками, с концами, завязанными в узлы, и четырехугольными, нерасправленными складками, как будто еще немного сырая, только что взятая из монастырской кладовой, такие же стаканы, тарелки, ножи, стеклянные сосуды с вином. И он прочел в Евангелии:
«Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их.
И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Искариоту предать Его, – возмутился духом, и сказал: аминь, аминь, глаголю вам, один из вас предаст меня.
Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит.
Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса.
Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит.
Он, припавши к груди Иисуса, сказал ему: „Господи, кто это?“
Иисус ответил: „тот, кому я, омочив хлеб, подам“. И омочив хлеб, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана».
Джованни поднял глаза на картину.
Лица апостолов дышали такою жизнью, что он как будто слышал их голоса, заглядывал в глубину их сердец, смущенных самым непонятным и страшным из всего, что когда-либо совершалось в мире, – рождением зла, от которого Бог должен умереть.
Особенно поразили Джованни Иуда, Иоанн и Петр. Голова Иуды не была еще написана, только тело, откинутое назад, слегка очерчено: сжимая в судорожных пальцах мошну со сребрениками, нечаянным движением руки опрокинул он солонку – и соль просыпалась.
Петр, в порыве гнева, стремительно вскочил из-за него, правой рукой схватил нож, левую опустил на плечо Иоанна, как бы вопрошая любимого ученика Иисусова: «кто предатель?» – и старая, серебристо-седая, лучезарно гневная голова его сияла тою огненною ревностью, жаждою подвига, с которою некогда он должен был воскликнуть, поняв неизбежность страданий и смерти Учителя: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя».
Ближе всех ко Христу был Иоанн; мягкие как шелк, гладкие вверху, книзу вьющиеся волосы, опущенные веки, отягченные негою сна, покорно сложенные руки, лицо с продолговато-круглым очерком – все дышало в нем небесной тишиной и ясностью. Один из всех учеников, он больше не страдал, не боялся, не гневался. В нем исполнилось слово Учителя: «да будут все едино, как Ты, Отче, во мне и Я в Тебе». Джованни смотрел и думал:
«Так вот кто Леонардо! А я еще сомневался, едва не поверил клевете. Человек, который создал это, – безбожник? Да кто же из людей ближе ко Христу, чем он!».
Окончив нежными прикосновениями кисти лицо Иоанна и взяв из ящика кусок угля, учитель пытался сделать очерк головы Иисуса. Но ничего не выходило.
Обдумывая десять лет эту голову, он все еще не умел набросать даже первого очерка.
И теперь, как всегда, перед гладким белым местом в картине, где должен был и не мог явиться лик Господа, художник чувствовал свое бессилие и недоумение.
Отбросив уголь, стер губкою легкий след его и погрузился в одно из тех размышлений перед картиной, которые длились иногда целыми часами.
Джованни взошел на подмостки, тихонько приблизился к нему и увидел, что мрачное, угрюмое, точно постаревшее, лицо Леонардо выражает упорное напряжение мысли, подобное отчаянию. Но, встретив взор ученика, он молвил приветливо: – Что скажешь, друг?
– Учитель, что я могу сказать? Это – прекрасно, прекраснее всего, что есть в мире. И этого никто из людей не понял, кроме вас. Но лучше не говорить. Я не умею…
Слезы задрожали в голосе его. И он прибавил тихо, как будто с боязнью:
– И вот, что я еще думаю и не понимаю: каким должно быть лицо Иуды среди таких лиц?
Учитель достал из ящика рисунок на клочке бумаги и показал ему.
Это было лицо страшное, но не отталкивающее, даже не злобное – только полное бесконечною скорбью и горечью познания.
Джованни сравнил его с лицом Иоанна. – Да, – произнес он шепотом, – это он! Тот, о ком сказано: «вошел в него сатана». Он, может быть, знал больше всех, но не принял этого слова: «да будут все едино». Он сам хотел быть один.
В трапезную вошел Чезаре да Сесто с человеком в одежде придворных истопников.
– Наконец-то нашли мы вас! – воскликнул Чезаре. – Всюду ищем… От герцогини по важному делу, мастер!..
– Не угодно ли будет вашей милости пожаловать во дворец? – добавил истопник почтительно. – Что случилось?
– Беда, мессер Леонардо! В банях трубы не действуют, да еще, как на грех, сегодня утром, только что герцогиня изволила в ванну сесть, а служанка за бельем вышла в соседнюю горницу, ручка на кране с горячей водою сломалась, так что их светлость никак не могли воду остановить. Хорошо, что успели выскочить из ванны. Едва кипятком не обожглись. Очень изволят, гневаться: мессер Амброджо да Феррари, управляющий, жалуются, говорят, – неоднократно предупреждали вашу милость о неисправности труб…
– Вздор! – молвил Леонардо. – Видишь, я занят. Ступай к Зороастро. Он в полчаса поправит. – Никак нет, мессере! Без вас приходить не велено… Не обращая на него внимания, Леонардо хотел опять приняться за работу. Но, взглянув на пустое место для головы Иисуса, поморщился с досадою, махнул рукой, как бы вдруг поняв, что и на этот раз ничего не выйдет, запер ящик с красками и сошел с подмосток.
– Ну, пойдем, все равно! Приходи за мной на большой двор замка, Джованни. Чезаре тебя проводит. Я буду ждать вас у Коня.
Этот Конь был памятник покойного герцога Франческо Сфорца.
И к изумлению Джованни, не оглянувшись на Тайную Вечерю, как будто радуясь предлогу уйти от работы, учитель пошел с истопником чинить трубы для спуска грязной воды в герцогских банях.
– Что? Насмотреться не можешь? – обратился Чезаре к Бельтраффио. – Пожалуй, оно и вправду удивительно, пока не раскусишь… – Что ты хочешь сказать?
– Нет, так… Я не буду разуверять тебя. Может быть, и сам увидишь. Ну, а пока – умиляйся…
– Прошу тебя, Чезаре, скажи прямо все, что ты думаешь.
– Изволь. Только, чур, потом не сердись и не пеняй за правду. Впрочем, я знаю все, что ты скажешь, и спорить не буду. Конечно, это – великое произведение. Ни у одного мастера не было такого знания анатомии, перспективы, законов света и тени. Еще бы! Все с природы списано – каждая морщинка в лицах, каждая складка на скатерти. Но духа живого нет. Бога нет и не будет. Все мертво – внутри, в сердце мертво! Ты только вглядись, Джованни, какая геометрическая правильность, какие треугольники: два созерцательных, два деятельных, средоточие во Христе. Вон по правую сторону – созерцательный: совершенное добро-в Иоанне, совершенное злов Иуде, различие добра от зла, справедливость – в Петре. А рядом – треугольник деятельный: Андрей, Иаков Младший, Варфоломей. И по левую сторону от центра – опять созерцательный: любовь Филиппа, вера Иакова Старшего, разум Фомы – и снова треугольник деятельный. Геометрия вместо вдохновения, математика вместо красоты! Все обдумано, рассчитано, изжевано разумом до тошноты, испытано до отвращения, взвешено на весах, измерено циркулем. Под святыней – кощунство!
– О, Чезаре! – произнес Джованни с тихим упреком, – как ты мало знаешь учителя! И за что ты так его… не любишь?..
– А ты знаешь и любишь? – быстро обернув к нему лицо, молвил Чезаре с язвительной усмешкой.
В глазах его сверкнула такая неожиданная злоба, что Джованни невольно потупился.
– Ты несправедлив, Чезаре, – прибавил он, помолчав. – Картина не кончена: Христа еще нет.