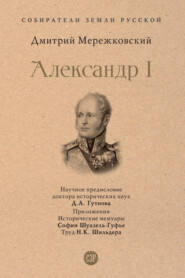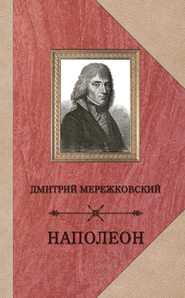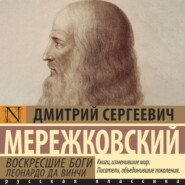По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи
Серия
Год написания книги
1901
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К Мельничному Холму подъехали новые всадники. То были остальные приглашенные на раскопки. Они опоздали, потому что заблудились.
Бельтраффио мельком взглянул, и как ни был поглощен созерцанием богини, заметил лицо одного из них. Выражение холодного, спокойного внимания и проникновенного любопытства, с которым незнакомец рассматривал Венеру и которое было так противоположно тревоге и смущению самого Джованни, – поразило его. Не подымая глаз, прикованных к статуе, все время чувствовал он за спиной своей человека с необыкновенным лицом.
– Вот что, – произнес мессер Чиприано после некоторого раздумья, – вилла в двух шагах. Ворота крепкие, какую угодно осаду выдержат…
– И то правда! – воскликнул обрадованный Грилло, – ну-ка, братцы, живее, подымайте!
Он заботился об сохранении идола с отеческой нежностью.
Статую благополучно перенесли через Мокрую Лощину.
Едва переступили за порог дома, как на вершине Мельничного Холма появился грозный облик отца Фаустино с поднятыми к небу руками.
Нижняя часть виллы была необитаема. Громадный зал, с выбеленными стенами и сводами, служил складом земледельческих орудий и больших глиняных сосудов для оливкового масла. Пшеничная солома, сваленная в углу, золотистою копною громоздилась до потолка.
На ту солому, смиренное сельское ложе, бережно положили богиню.
Только что все успели войти и запереть ворота, как послышались крики, ругательства и громкий стук в ворота.
– Отоприте, отоприте! – кричал тонким, надтреснутым голосом отец Фаустино. – Именем Бога живого заклинаю, отоприте!..
Мессер Чиприано по внутренней каменной лестнице поднялся к узкому решетчатому окну, находившемуся очень высоко над полом, оглянул толпу, убедился, что она не велика, и с улыбкой свойственной ему утонченной вежливости начал переговоры.
Священник не унимался и требовал, чтобы отдали идола, которого, по словам его, откопали на кладбищенской земле.
Консул Калималы, решив прибегнуть к военной хитрости, произнес твердо и спокойно:
– Берегитесь! Нарочный послан во Флоренцию к начальнику стражи, и через два часа будет здесь отряд кавалерии: силой никто не войдет в мой дом безнаказанно.
– Ломайте ворота, – воскликнул священник, – не бойтесь! С нами Бог! Рубите!
И, выхватив топор из рук подслеповатого рябого старичка с унылым, кротким лицом и подвязанной щекой, ударил в ворота со всего размаха. Толпа не последовала за ним.
– Дом Фаустино, а дом[9 - Дом (от лат. dominus – господин) – обращение к членам некоторых монашеских орденов.] Фаустино, – шепелявил кроткий старичок, тихонько трогая его за локоть, – люди мы бедные, денег мотыгою из земли не выкапываем. Засудят – разорят!.. Многие в толпе, заслышав о городских стражниках, думали о том, как бы улизнуть незаметно.
– Конечно, если бы на своей земле, на приходской, – другое дело, – рассуждали одни.
– А где межа-то проходит? Ведь по закону, братцы… – Что закон? Паутина: муха застрянет, шершень вылетит. Закон для господ не писан, – возражали другие. – И то правда! Каждый в земле своей владыка. В то время Джованни по-прежнеу глядел на спасенную Венеру.
Луч раннего солнца проник в боковое окно. Мраморное тело, еще не совсем очищенное от земли, искрилось на солнце, словно нежилось и грелось после долгого подземного мрака и холода. Тонкие желтые стебли пшеничной соломы загорались, окружая богиню смиренным и пышным золотым ореолом.
И опять Джованни обратил внимание на незнакомца. Стоя на коленях, рядом с Венерой, вынул он циркуль, угломер, полукруглую медную дугу, наподобие тех, какие употреблялись в математических приборах, и, с выражением того же упорного, спокойного и проникновенного любопытства в холодных, светло-голубых глазах и тонких, плотно сжатых губах, начал мерить различные части прекрасного тела, наклоняя голову, так что длинная белокурая борода касалась мрамора.
– Что он делает? Кто это? – думал Джованни с возрастающим удивлением, почти страхом, следя за быстрыми, дерзкими пальцами, которые скользили по членам богини, проникая во все тайны прелести, ощупывая, исследуя неуловимые для глаза выпуклости мрамора.
У ворот виллы толпа поселян с каждым мгновением редела и таяла.
– Стойте, стойте, бездельники, христопродавцы! Стражи городской испугались, а власти антихристовой не боитесь! – вопил священник, простирая к ним руки. – Ipse vero Antichristus opes malorum effodiet et exponet.[10 - Антихрист выроет древних богов из земли и снова явит их миру…] – Так говорил великий учитель Ансельм Кентерберийский. Effodiet?[11 - Слышите?]
– Но никто уже не слушал.
– И бедовый же у нас отец Фаустино! – покачивал головой благоразумный мельник. – В чем душа держится, а на, поди ты, как расхорохорился! Добро бы клад нашли… – Идолище-то, говорят, серебряное. – Какой серебряное! Сам видел: мраморная, вся голая, бесстыдница…
– С такой паскудою, прости Господи, и рук-то марать не стоит!
– Ты куда, Закелло?
– В поле пора.
– Ну, с богом, а я на виноградник. Вся ярость священника обратилась на прихожан: – А, вот вы как, псы неверные, хамово отродье! Пастыря покинули! Да знаете ли вы, исчадие сатанинское, что если бы я за вас денно и нощно не молился, не бил себя в грудь, не рыдал и не постился, – давно бы уже все ваше селение окаянное сквозь землю провалилось? Кончено! Уйду от вас, и прах от ног моих отряхну. Проклятье на землю сию! Проклятье на хлеб и воду, и стада, и детей, и внуков ваших! Не отец я вам больше, не пастырь! Анафема!
В тихой глубине виллы, где богиня лежала на золотом соломенном ложе, Джордже Мерула подошел к незнакомцу, измерявшему статую.
– Божественной пропорции ищете? – молвил ученый с покровительственной усмешкой. – Красоту желаете к математике свести?
Тот молча посмотрел на него, как будто не расслышал вопроса, и опять углубился в работу.
Ножки циркуля складывались и раздвигались, описывая правильные геометрические фигуры. Спокойным, твердым движением приставил он угломер к прекрасным губам Афродиты, – сердце Джованни улыбка этих губ наполняла ужасом, – сосчитал деления и записал в книгу.
– Позвольте полюбопытствовать, – приставал Мерула, – тут сколько делений?
– Прибор неточный, – ответил незнакомец нехотя. – Обыкновенно для измерения пропорций я разделяю человеческое лицо на градусы, доли, секунды и терции. Каждое деление – двенадцатая часть предыдущего.
– Однако! – произнес Мерула. – Мне кажется, что последнее деление – меньше, чем ширина тончайшего волоса. Пять раз двенадцатая часть…
– Терция, – так же нехотя объяснил ему собеседник, – одна сорок восемь тысяч восемьсот двадцать третья часть всего лица. Мерула поднял брови и усмехнулся:
– Век живи – век учись. Никогда не думал я, что можно дойти до такой точности! – Чем точнее, тем лучше, – заметил собеседник. – О, конечно!.. Хотя, знаете ли, в искусстве, в красоте, все эти математические расчеты – градусы, секунды… Я, признаться, не могу поверить, чтобы художник, в порыве восторга, пламенного вдохновения, так сказать, под наитием Бога…
– Да, да, вы правы, – со скучающим видом согласился незнакомец, – а все же любопытно знать…
И, наклонившись, сосчитал по угломеру число делений между началом волос и подбородком.
– Знать! – подумал Джованни. – Разве тут можно знать и мерить? Какое безумие! Или он не чувствует, не понимает?..
Мерула, очевидно желая задеть противника за живое и вызвать на спор, начал говорить о совершенстве древних, о том, что следует им подражать. Но собеседник молчал, и когда Мерула кончил, – произнес с тонкой усмешкой в свою длинную бороду:
– Кто может пить из родника – не станет пить из сосуда.
– Позвольте! – воскликнул ученый. – Если вы и древних считаете водою в сосуде, то где же родник? – Природа, – ответил незнакомец просто. И когда Мерула опять заговорил напыщенно и раздражительно, – он уже не спорил и соглашался с уклончивой любезностью. Только скучающий взор холодных глаз становился все равнодушнее.
Наконец, Джордже умолк, истощив свои доводы. Тогда собеседник указал на некоторые углубления в мраморе: ни в каком свете, ни слабом, ни сильном, нельзя было видеть их глазом, – только ощупью, проводя рукою по гладкой поверхности, можно было чувствовать эти бесконечные тонкости работы. И одним глубоким, чуждым восторга, пытливым взором окинул незнакомец все тело богини.
– А я думал, что он не чувствует! – удивился Джованни. – Но, если чувствует, то как можно мерить, испытывать, разлагать на числа? Кто это?
– Мессере, – прошептал Джованни на ухо старику, – послушайте, мессере Джордже, – как имя этого человека?
– А, ты здесь, монашек, – произнес Мерула, обернувшись, – я и забыл о тебе. Да ведь это и есть твой любимец. Как же ты не узнал? Это мессер Леонардо да Винчи. И Мерула познакомил Джованни с художником.
Бельтраффио мельком взглянул, и как ни был поглощен созерцанием богини, заметил лицо одного из них. Выражение холодного, спокойного внимания и проникновенного любопытства, с которым незнакомец рассматривал Венеру и которое было так противоположно тревоге и смущению самого Джованни, – поразило его. Не подымая глаз, прикованных к статуе, все время чувствовал он за спиной своей человека с необыкновенным лицом.
– Вот что, – произнес мессер Чиприано после некоторого раздумья, – вилла в двух шагах. Ворота крепкие, какую угодно осаду выдержат…
– И то правда! – воскликнул обрадованный Грилло, – ну-ка, братцы, живее, подымайте!
Он заботился об сохранении идола с отеческой нежностью.
Статую благополучно перенесли через Мокрую Лощину.
Едва переступили за порог дома, как на вершине Мельничного Холма появился грозный облик отца Фаустино с поднятыми к небу руками.
Нижняя часть виллы была необитаема. Громадный зал, с выбеленными стенами и сводами, служил складом земледельческих орудий и больших глиняных сосудов для оливкового масла. Пшеничная солома, сваленная в углу, золотистою копною громоздилась до потолка.
На ту солому, смиренное сельское ложе, бережно положили богиню.
Только что все успели войти и запереть ворота, как послышались крики, ругательства и громкий стук в ворота.
– Отоприте, отоприте! – кричал тонким, надтреснутым голосом отец Фаустино. – Именем Бога живого заклинаю, отоприте!..
Мессер Чиприано по внутренней каменной лестнице поднялся к узкому решетчатому окну, находившемуся очень высоко над полом, оглянул толпу, убедился, что она не велика, и с улыбкой свойственной ему утонченной вежливости начал переговоры.
Священник не унимался и требовал, чтобы отдали идола, которого, по словам его, откопали на кладбищенской земле.
Консул Калималы, решив прибегнуть к военной хитрости, произнес твердо и спокойно:
– Берегитесь! Нарочный послан во Флоренцию к начальнику стражи, и через два часа будет здесь отряд кавалерии: силой никто не войдет в мой дом безнаказанно.
– Ломайте ворота, – воскликнул священник, – не бойтесь! С нами Бог! Рубите!
И, выхватив топор из рук подслеповатого рябого старичка с унылым, кротким лицом и подвязанной щекой, ударил в ворота со всего размаха. Толпа не последовала за ним.
– Дом Фаустино, а дом[9 - Дом (от лат. dominus – господин) – обращение к членам некоторых монашеских орденов.] Фаустино, – шепелявил кроткий старичок, тихонько трогая его за локоть, – люди мы бедные, денег мотыгою из земли не выкапываем. Засудят – разорят!.. Многие в толпе, заслышав о городских стражниках, думали о том, как бы улизнуть незаметно.
– Конечно, если бы на своей земле, на приходской, – другое дело, – рассуждали одни.
– А где межа-то проходит? Ведь по закону, братцы… – Что закон? Паутина: муха застрянет, шершень вылетит. Закон для господ не писан, – возражали другие. – И то правда! Каждый в земле своей владыка. В то время Джованни по-прежнеу глядел на спасенную Венеру.
Луч раннего солнца проник в боковое окно. Мраморное тело, еще не совсем очищенное от земли, искрилось на солнце, словно нежилось и грелось после долгого подземного мрака и холода. Тонкие желтые стебли пшеничной соломы загорались, окружая богиню смиренным и пышным золотым ореолом.
И опять Джованни обратил внимание на незнакомца. Стоя на коленях, рядом с Венерой, вынул он циркуль, угломер, полукруглую медную дугу, наподобие тех, какие употреблялись в математических приборах, и, с выражением того же упорного, спокойного и проникновенного любопытства в холодных, светло-голубых глазах и тонких, плотно сжатых губах, начал мерить различные части прекрасного тела, наклоняя голову, так что длинная белокурая борода касалась мрамора.
– Что он делает? Кто это? – думал Джованни с возрастающим удивлением, почти страхом, следя за быстрыми, дерзкими пальцами, которые скользили по членам богини, проникая во все тайны прелести, ощупывая, исследуя неуловимые для глаза выпуклости мрамора.
У ворот виллы толпа поселян с каждым мгновением редела и таяла.
– Стойте, стойте, бездельники, христопродавцы! Стражи городской испугались, а власти антихристовой не боитесь! – вопил священник, простирая к ним руки. – Ipse vero Antichristus opes malorum effodiet et exponet.[10 - Антихрист выроет древних богов из земли и снова явит их миру…] – Так говорил великий учитель Ансельм Кентерберийский. Effodiet?[11 - Слышите?]
– Но никто уже не слушал.
– И бедовый же у нас отец Фаустино! – покачивал головой благоразумный мельник. – В чем душа держится, а на, поди ты, как расхорохорился! Добро бы клад нашли… – Идолище-то, говорят, серебряное. – Какой серебряное! Сам видел: мраморная, вся голая, бесстыдница…
– С такой паскудою, прости Господи, и рук-то марать не стоит!
– Ты куда, Закелло?
– В поле пора.
– Ну, с богом, а я на виноградник. Вся ярость священника обратилась на прихожан: – А, вот вы как, псы неверные, хамово отродье! Пастыря покинули! Да знаете ли вы, исчадие сатанинское, что если бы я за вас денно и нощно не молился, не бил себя в грудь, не рыдал и не постился, – давно бы уже все ваше селение окаянное сквозь землю провалилось? Кончено! Уйду от вас, и прах от ног моих отряхну. Проклятье на землю сию! Проклятье на хлеб и воду, и стада, и детей, и внуков ваших! Не отец я вам больше, не пастырь! Анафема!
В тихой глубине виллы, где богиня лежала на золотом соломенном ложе, Джордже Мерула подошел к незнакомцу, измерявшему статую.
– Божественной пропорции ищете? – молвил ученый с покровительственной усмешкой. – Красоту желаете к математике свести?
Тот молча посмотрел на него, как будто не расслышал вопроса, и опять углубился в работу.
Ножки циркуля складывались и раздвигались, описывая правильные геометрические фигуры. Спокойным, твердым движением приставил он угломер к прекрасным губам Афродиты, – сердце Джованни улыбка этих губ наполняла ужасом, – сосчитал деления и записал в книгу.
– Позвольте полюбопытствовать, – приставал Мерула, – тут сколько делений?
– Прибор неточный, – ответил незнакомец нехотя. – Обыкновенно для измерения пропорций я разделяю человеческое лицо на градусы, доли, секунды и терции. Каждое деление – двенадцатая часть предыдущего.
– Однако! – произнес Мерула. – Мне кажется, что последнее деление – меньше, чем ширина тончайшего волоса. Пять раз двенадцатая часть…
– Терция, – так же нехотя объяснил ему собеседник, – одна сорок восемь тысяч восемьсот двадцать третья часть всего лица. Мерула поднял брови и усмехнулся:
– Век живи – век учись. Никогда не думал я, что можно дойти до такой точности! – Чем точнее, тем лучше, – заметил собеседник. – О, конечно!.. Хотя, знаете ли, в искусстве, в красоте, все эти математические расчеты – градусы, секунды… Я, признаться, не могу поверить, чтобы художник, в порыве восторга, пламенного вдохновения, так сказать, под наитием Бога…
– Да, да, вы правы, – со скучающим видом согласился незнакомец, – а все же любопытно знать…
И, наклонившись, сосчитал по угломеру число делений между началом волос и подбородком.
– Знать! – подумал Джованни. – Разве тут можно знать и мерить? Какое безумие! Или он не чувствует, не понимает?..
Мерула, очевидно желая задеть противника за живое и вызвать на спор, начал говорить о совершенстве древних, о том, что следует им подражать. Но собеседник молчал, и когда Мерула кончил, – произнес с тонкой усмешкой в свою длинную бороду:
– Кто может пить из родника – не станет пить из сосуда.
– Позвольте! – воскликнул ученый. – Если вы и древних считаете водою в сосуде, то где же родник? – Природа, – ответил незнакомец просто. И когда Мерула опять заговорил напыщенно и раздражительно, – он уже не спорил и соглашался с уклончивой любезностью. Только скучающий взор холодных глаз становился все равнодушнее.
Наконец, Джордже умолк, истощив свои доводы. Тогда собеседник указал на некоторые углубления в мраморе: ни в каком свете, ни слабом, ни сильном, нельзя было видеть их глазом, – только ощупью, проводя рукою по гладкой поверхности, можно было чувствовать эти бесконечные тонкости работы. И одним глубоким, чуждым восторга, пытливым взором окинул незнакомец все тело богини.
– А я думал, что он не чувствует! – удивился Джованни. – Но, если чувствует, то как можно мерить, испытывать, разлагать на числа? Кто это?
– Мессере, – прошептал Джованни на ухо старику, – послушайте, мессере Джордже, – как имя этого человека?
– А, ты здесь, монашек, – произнес Мерула, обернувшись, – я и забыл о тебе. Да ведь это и есть твой любимец. Как же ты не узнал? Это мессер Леонардо да Винчи. И Мерула познакомил Джованни с художником.