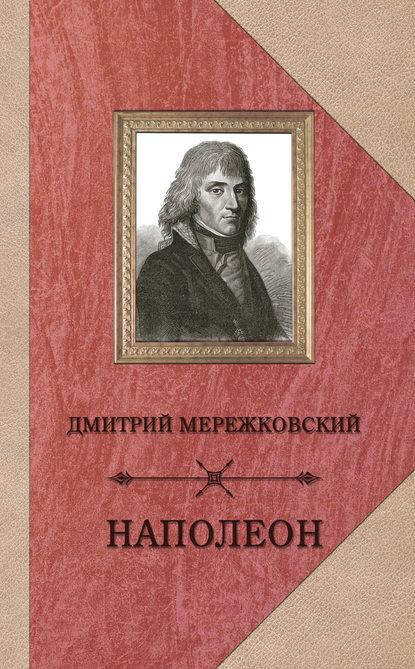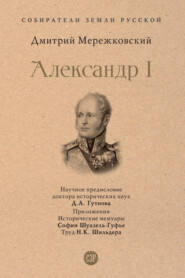По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Наполеон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он ее искал, но не нашел. Что же помешало ему? Уж конечно, не «злоупотребления священников», не катехизис, вместо «нужного народу, маленького курса геометрии».
Однажды, сажая бобы на Святой Елене и заметив чудное устройство их усиков, он заговорил о существовании Бога-Творца.
«Все-таки идея Бога самая простая: кто все это сделал?»
В звездную ночь, на палубе фрегата «Ориент», на пути из Франции в Египет, когда ученые спутники его, члены Института, доказывали ему, что нет Бога, он вдруг поднял руку и указал им на звезды: «А это все кто создал?» Это-то, уж конечно, из глубины сердца сказано.
А вот еще глубже: «Нет чудес – всё чудо». – «Что такое будущее? Что такое прошлое? И что такое мы сами? Какой магический туман окружает нас и скрывает от нас то, что нам всего важнее знать? Мы рождаемся, живем и умираем среди чудесного».
Как-то раз, на Святой Елене, уже больной, сидя в ванне и читая Новый Завет, он вдруг воскликнул: «Я вовсе не атеист!.. Человек нуждается в чудесном… Никто не может сказать, что он сделает в свои последние минуты».
В последние минуты он потребовал католического священника, «чтобы не умереть как собака». А доктора Антоммарки, когда тот усмехнулся на его слова духовнику: «Я хочу умереть как добрый католик», – выгнал из комнаты.
«Я умираю в апостольской римской религии, в лоне которой я родился», – сказал в завещании Наполеон. Правда это или неправда? Он и сам не знает. Но нет никакого сомнения, что около этого – не католичества, не даже христианства, а самого Христа, с кем же и борется он, как не с Ним, кого же и надо ему победить, как не Его, чтобы сделаться «величайшим из людей на земле», владыкою мира? – около самого Христа движется вся его ночная душа, та огромная идея, в которой «он живет весь».
«Всегда один среди людей, я возвращаюсь домой, чтобы мечтать наедине с самим собою и предаваться меланхолии, – пишет в своем дневнике 3 мая 1786 года семнадцатилетний артиллерийский подпоручик Бонапарт. – О чем же я буду сегодня мечтать? О смерти. На заре моих дней я мог бы надеяться еще долго прожить… и быть счастливым. Какое же безумие заставляет меня желать конца? Правда, что мне делать в этом мире?.. Как люди далеки от природы! Как они подлы, низки, презренны… Жизнь мне в тягость, потому что люди, с которыми я живу и, вероятно, всегда буду жить, так же непохожи на меня, как лунный свет на солнечный».
Что же, однако, сделал этот «маленький капрал», чтобы так презирать людей? И что это значит: все люди – «лунный свет», а он один – «солнечный»? Этого мы не знаем, но знает Ницше: «Наполеон был последним воплощением бога солнца Аполлона». Знает и Гете: «Жизнь Наполеона – жизнь полубога.
Вся она лучезарна» – солнечна. Но, может быть, лучше всех это знает тот старый гренадер, идущий рядом с императором в двадцатиградусный мороз на Березине: «Холодно тебе, мой друг?» – «Нет, государь, когда я смотрю на вас, мне тепло!» Он знает, чувствует всем своим замерзающим телом, что все люди – холодные, «лунные» и только один император – теплый, «солнечный».
День Бородина, 7 сентября, решивший участь Русской кампании, а может быть, и всей наполеоновской империи, совпал с началом осеннего равноденствия, поворотом солнца к зиме. В этот день Наполеон был болен. «Первые дни равноденствия оказали на него дурное действие», – объясняет Сегюр. Наполеон всегда чувствовал таинственную связь своего тела с солнцем. «Плоть твоя – свет солнечный; члены твои – лучи прекрасные. Воистину, из Солнца изшел ты, как дитя из чрева матери!» – возглашалось на утрени египетского царя Ахенатона, Сына Солнца. А через три с половиной тысячелетия на огненной всенощной люди поклонялись другому «сыну Солнца» – «Солнцу Аустерлица», самому императору.
Там же, в оксонских казармах, несколько лет спустя после тех строк о «лунных» и «солнечных» людях, он пишет странную повесть, похожую на бред, а может быть, и в самом деле бред: в это время он болен перемежающейся лихорадкой оксонских болот.
Повесть – о корсиканской мести, вендетте целому народу – французам. Он тогда ненавидел их за угнетение Корсики и любил будущих злейших врагов своих, англичан, за то, что они помогли корсиканцам в войне за освобождение.
Англичанин, от лица которого ведется рассказ, плывя на корабле из Ливорно в Испанию, попадает на необитаемый островок неподалеку от Корсики, на неприступную скалу с вечным прибоем яростных волн. Здесь происходят частые кораблекрушения, отчего, должно быть, островок и получил свое зловещее имя Горгона. Но англичанин, меланхолик, восхищен дикою прелестью этого места. «Никогда человек не обитал в таком пустынном убежище… Я мог бы здесь быть если не счастлив, то мудр и спокоен». С этими мыслями он засыпает ночью, в палатке, как вдруг пробуждается от блеска пламени и чьего-то крика «Умри, несчастный!».
Палатка вспыхивает. Он едва спасается из огня и узнает, что его хотела сжечь молодая девушка, дочь старика, единственного обитателя Горгоны. Старик, узнав, что он англичанин, принимает его как желанного гостя и рассказывает ему свою жизнь.
Он корсиканец; много лет сражался с поработителями Корсики – генуэзцами, австрийцами, французами. Когда же эти последние окончательно овладели островом и убили его отца, мать, жену и всех детей, кроме одной дочери, пропавшей без вести, он покинул Корсику и переселился на остров Горгону, где после разных приключений нашел свою дочь. Здесь они живут, как дикие, в развалинах старого монастыря, питаясь желудями и рыбой. «Горести сделали солнечный свет ненавистным мне. Солнце мне никогда не сияет. Я дышу воздухом только по ночам, чтобы не растравлять сердца видом гор, где обитали некогда мои предки… Я поклялся на моем алтаре (кажется, это алтарь монастырской часовни в тех развалинах, где они живут) не щадить ни одного француза. Когда корабли их разбиваются о скалы Горгоны, мы спасаем погибающих как людей и убиваем их как французов».
«В прошлом году здесь едва не погиб французский почтовый корабль. Страшные вопли погибающих пробудили во мне жалость… Я развел большой огонь около того места, где они могли причалить, и этим спас их… Чем же, вы думаете, они отблагодарили меня?.. Узнав, что я корсиканец, схватили и заковали в цепи… Так я был наказан за свою слабость. Гневные предки мстили мне за свои неотомщенные тени. Но, видя мое раскаянье, Бог спас меня. Корабль задержался на семь дней. Вся вода у них вышла. Надо было узнать, где колодец, и они обещали мне свободу, сняли с меня цепи. Я воспользовался этой минутой и вонзил кинжал в сердце одного из двух моих спутников. Тогда я в первый раз увидел солнце – какое лучезарное! Дочь моя осталась на корабле связанной. Я переоделся в платье одного из убитых мною солдат и, вооружившись двумя взятыми у него пистолетами, саблею и моими кинжалами, пошел на корабль. Капитан и юнга первые пали моими жертвами. Потом я перебил и всех остальных… Мы притащили к подножью алтаря тела убитых и там их сожгли. Этот новый фимиам, казалось, был угоден Богу».
Фимиам – новый? Нет, очень древний. Только первозданные скалы Горгоны помнят те времена, когда приносились человеческие жертвы Молоху, Ваалу, Шамашу и другим богам солнца, еще более древним, может быть, доисторической, допотопной древности. Эта-то кровавая жертва и оскверняет христианский алтарь, где приносилась некогда жертва бескровная. Человек не видит солнца, живет во тьме, пока не вонзит нож, как жрец Молоха, в сердце человеческой жертвы: только тогда оно засияет для него опять, лучезарное.
«Если бы мне нужно было выбирать религию, я обоготворил бы солнце, потому что оно все оживляет: это истинный бог земли», – говорит Наполеон на Святой Елене, роняя эти слова как будто небрежно, случайно, а на самом деле из глубины глубин сердечных.
«Лунная» богиня Разума, которой тоже приносились человеческие жертвы Робеспьером и Маратом, как бледна и бескровна перед этим Наполеоновым солнечным богом: «Такой человек, как я, плюет на жизнь миллиона людей». Миллион человеческих жертв он уже принес и сколько бы еще принес, если бы сделался владыкою мира!
Слишком понятно, что человек, у которого проносятся в душе, как метеоры в ночи, такие мысли, раскаленные глыбы, – не корсиканец, не итальянец, не француз, даже вообще не европеец, даже не человек нашего всемирно-исторического, а может быть и нашего космического «века» – эона. Вскормленник иных веков, «солнечных», он задыхается в этом «лунном» веке, где и дряхлеющее солнце бледно, как луна. Давит людей нечаянно своей неуклюжею огромностью, как допотопное чудовище.
«Цивилизация всегда ему немного личный враг», – говорил о Наполеоне Талейран. Только снаружи – «немного», а внутри, может быть, и очень много.
Всякая цивилизация, а особенно европейская, есть «условность», «пристойность», «хорошее воспитание». «Как жаль, что такой великий человек так дурно воспитан!» – ответил ему однажды Талейран, конечно за глаза, на его площадное ругательство. «Ему недостает воспитания и хороших манер, – говорит госпожа Ремюза, Талейранова наперсница. – Он не умеет ни войти, ни выйти из комнаты, ни поклониться, ни встать, ни сесть. Все его движенья резки и угловаты; манера говорить – тоже… Вообще, всякое постоянное правило для него невыносимо стеснительно; всякая вольность нравится ему как победа; он никогда ничему не хотел подчиняться, ни даже грамматике, ни даже одежде: сам не умеет одеваться; камердинер одевает его, как ребенка, но, раздеваясь ночью, он нетерпеливо срывает с себя и бросает одежду на пол, как непривычную и ненужную тяжесть; естественное состояние тела его – древняя, целомудренная и нестыдящаяся нагота».
Цивилизация есть «хороший вкус». «А-а, хороший вкус, вот еще одно из тех классических словечек, которых я не признаю!» – «Хороший вкус – ваш личный враг. Если бы вы могли от него отделаться пушками, его бы уже давно не существовало», – говорит ему Талейран. Талейрану кажется, что Наполеон не умеет быть «цивилизованным»; но, может быть, он этого вовсе и не хочет. «Вы, сударь, – навоз в шелковом мешке!» – сказал он однажды Талейрану. Но, может быть, и вся европейская «цивилизация» для Наполеона такой же «навоз». «Проходя мимо всей этой нелепости, мне иногда хочется просто-напросто взять все за хвост и стряхнуть к черту!» – мог бы и он сказать, как Раскольников.
«Вольный полет в пространстве – вот что нужно для таких крыльев. Он здесь умрет; ему надо уехать отсюда», – замечает одна современница перед самым отъездом его в Египет[10 - Речь о герцогине Абрантес. Ее «Записки о Наполеоне» выходили в «Захарове» в 2013 году.]. Он и сам понимает, что ему надо бежать: «Этот Париж давит меня, как свинцовый плащ». Не только Париж, но и вся европейская цивилизация.
Вот отчего тянет его на Восток. «В Египте я чувствовал себя освобожденным от пут стеснительной цивилизации… Это было лучшее время моей жизни, потому что самое идеальное. Но судьба решила иначе… Я должен был вернуться в действительность социального порядка». В европейскую цивилизацию – «шелковый мешок с навозом».
Вот почему он любит войну. «Война – естественное состояние, оголение, освобождение от „свинцового плаща“ цивилизации».
Вот почему он любит и Революцию – ненавидит, убивает ее, а все-таки любит. «Марат… я его люблю, потому что он искренен. Он всегда говорит, что думает. Это характер. Он один борется против всех».
Обуздатель, устроитель революционного хаоса, Наполеон чувствует в себе самом бушующий хаос, может быть, больший, чем революция, и величайший подвиг его в том, что он обуздал не только тот, внешний, но и внутренний хаос – «ужас Горгоны». Сам бы он, впрочем, не спасся от него. Мать-Земля спасла его, а может быть, и Матерь Небесная.
Что же значит его «ненависть к цивилизации»? Куда он из нее стремится? В «естественное состояние», – так ему казалось в юности, когда он увлекался Руссо. Но он был слишком умен и трезв для таких увлечений: Жан-Жакова дурь скоро с него соскочила. «Мне особенно опротивел Руссо, когда я увидел Восток: дикий человек – собака».
Но если не в «дикость», то куда же? В иную цивилизацию или, точнее, в иной всемирно-исторический, а может быть и космический, век – эон; из нашего, «лунного» – в «солнечный». Что же это за «солнечный век»?
Ах, две души живут в моей груди!
Может быть, мы все еще не понимаем как следует трагического значения для нас этих двух душ.
Две души – два сознания: бодрствующее, дневное, поверхностное и ночное, спящее, глубокое. Первое движется, по закону тождества, в силлогизмах, в индукциях и, доведенное до крайности, дает всему строению культуры тот мертвый, «механический» облик, который нам так хорошо знаком; второе движется, по законам какой-то неведомой нам логики, в прозреньях, ясновиденьях, интуициях и дает культуре облик живой, органический или, как сказали бы древние, «магический».
«Магия», «теургия» – эти слова давно потеряли для нас свой реальный смысл. Чтобы напомнить его, мы могли бы только указать на такую слабую и грубую аналогию, как «животный инстинкт». Муравьи на берегу реки знают, где надо строить муравейник, чтобы не залило водой половодья! Ласточки знают, куда нужно лететь, чтобы попасть в прошлогоднее гнездо, за две тысячи верст. И это знание, не менее достоверное, чем то, которое мы получаем путем индукций и силлогизмов, кажется нам «чудесным», «магическим». Мы могли бы указать и на менее грубую, но еще более слабую аналогию гениальных прозрений, интуиции в научном и художественном творчестве, которые ведь тоже приходят не по лестнице силлогизмов и индукций, а внезапными, как бы «чудесными», взлетами, так что в этой «чудесности» гения и заключается его особенность, несоизмеримость с нашей обыденной «механикой». Но все это лишь слабые намеки на какую-то огромную, исчезнувшую для нас действительность; малые дроби какого-то неведомого нам огромного целого.
Наблюдая с этой точки зрения ряд нисходящих от нас в глубину древности великих культур, мы замечаем, что по мере нисхождения механичность дневного сознания в них убывает и возрастает органичность сознания ночного, та для нас темная область его, которую древние называют «магией», «теургией». Если же довести этот ряд до конца, то получится наш крайний антипод, противоположно подобный, двойник – противоположный в путях, подобный в цели – в титанической власти над природою – та совершенно органическая, «магическая» культура, которую миф Платона называет Атлантидою.
«Был некогда Остров против Геркулесовых Столпов; земля, по размерам большая, чем Ливия и Малая Азия, взятые вместе. Этот Остров – Атлантида», – сообщает Солону, афинянину, старый саксский жрец одно из древнейших сказаний Египта в «Тимее» Платона. «Произошли великие землетрясения, потопы, и в один день, в одну ночь остров Атлантида исчез в морской пучине».
Миф о конце Атлантиды могли рассказать Бонапарту ученые спутники его, члены Института, когда на фрегате «Мюирон», на возвратном пути из Египта во Францию в 1799 году, он однажды после чтения Библии беседовал с ними о вероятном разрушении Земли новым всемирным потопом или пожаром. Или раньше, в Египте, могли они напомнить ему об атлантах, распространивших свое владычество до пределов Египта (Платон, «Критий»).
Что почувствовал бы Наполеон, слушая эти сказания? Пронеслось ли бы над душой его родное веянье?
Первое мировое владычество основали атланты, а он хотел основать последнее.
Атланты – сыны Океана, и он тоже:
Твой образ был на нем означен;
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем не укротим.
Пушкин. «К морю»
Атланты – островитяне, и он тоже: родился на острове Корсике; умер на острове Святой Елены; первый раз пал на остров Эльбу; всю жизнь боролся с островом Англией – современной Атлантидой, маленькой, за будущую великую – всю земную сушу, окруженную морями.
Но, может быть, еще глубже этих внешних сходств – сходство внутреннее.
Мать – Земля, Солнце – Отец, Человек – Сын – такова религия атлантов, судя по обломкам ее, которые сохранили нам вавилонские и шумеро-аккадские прапращуры нашей истории.
Клинописные скрижали Допотопных мудрецов.
«Если бы мне надо было выбирать религию, я обоготворил бы Солнце… Это истинный Бог земли». Мать – Земля, Солнце – Отец, Человек – Сын, – может быть, это и есть та «религия, от начала мира одна», которой он искал.