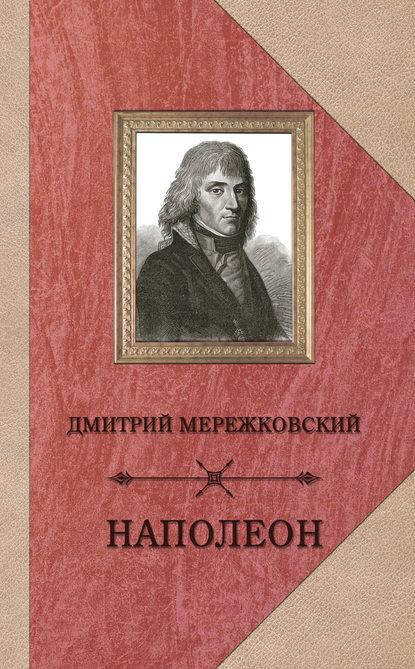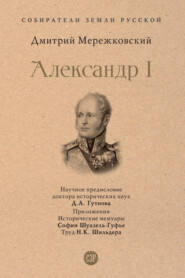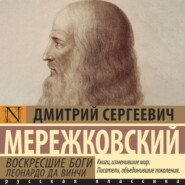По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Наполеон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Клянусь, если я не даю Франции больше свободы, то потому только, что думаю, что это для нее полезнее». – «Мой деспотизм. Но историк докажет, что диктатура была необходима, что своеволье, анархия, великие беспорядки стояли еще при дверях». – «Я мог быть только коронованным Вашингтоном, в сонме побежденных царей… Но этого нельзя было достигнуть иначе как через всемирную диктатуру; я к ней и шел. В чем же мое преступление». И за два дня до смерти, уже почти в бреду, в такую минуту, когда люди не лгут: «Я освятил все начала (Революции); я перелил их в мои законы, в мои дела… К несчастью, обстоятельства были суровы, принуждая и меня быть суровым в ожидании лучших времен… Но подошли неудачи, я не мог ослабить лука, и Франция была лишена свободных учреждений, которые я предназначал для нее».
Чтобы Наполеон, при каких бы то ни было обстоятельствах, сделался Вашингтоном, мало вероятно. Но, может быть, вина его перед свободой все-таки меньше, чем это казалось его современникам.
Свобода и равенство – два явления одной силы, свет и тепло одного солнца. Истинного равенства нет без свободы, хотя бы только без искры ее, а Наполеонова «открытая дорога талантам», основа современной демократии – истинное равенство. Люди вообще не выносят большой меры свободы, но и совсем без нее жить не могут. Очень малая мера ее дана в Наполеоновом Кодексе, но зато так надежно и крепко, что всей европейской цивилизации надо разрушиться, чтобы она была отнята у людей.
Демократия – плохонький рай; но кто побывал в аду, знает, что лучше ада и плохонький рай и что малая свобода демократии по сравнению с абсолютным рабством коммунизма та же свежесть весеннего утра по сравнению с ледяным крутом Дантова ада или холодом междупланетных пространств.
Может быть, сейчас русские люди, побывавшие в аду коммунизма, знают о Наполеоне то, чего европейцы не знают и чего нельзя узнать из сорока тысяч книг.
«Мне надо было победить в Москве». – «Без этого пожара (Москвы) я бы достиг всего».
1812–1917. В том году началось, кончилось в этом; может быть, без того не было бы и этого. «Я объявил бы свободу крепостных в России». Если бы он это сделал, может быть, не было бы русской революции, русского ада.
Кто поджег Москву? Русские «сыны отечества»? Нет, выпущенные из тюрем воры, убийцы и разбойники. «Люди с дьявольскими лицами в бушующем пламени – настоящий образ ада», – вспоминает Сегюр.
«Какие люди! Какие люди! Это скифы!» – повторял Наполеон в вещем ужасе. Скифы «с раскосыми и жадными очами», готовые кинуться на Рим, как волки на падаль. Наполеон это знал – он один из всех европейцев.
Померкни, Солнце Аустерлица.
Пылай, великая Москва!
Пушкин. «Наполеон»
Москва запылала, и совершились пророчества.
«Какое несчастье – мое паденье. Я завязал мех ветров, а вражий штык опять его проткнул. Я мог бы идти спокойно к обновлению мира, а теперь оно совершится только в бурях. Может быть, достаточно будет искры, чтобы вспыхнул мировой пожар». Зарево этого пожара он и увидел в Москве.
«Русские суть варвары, у которых нет отечества и которым все страны кажутся лучше той, где они родились».
«Вспомнят обо мне, когда русские варвары овладеют Европой, что не случилось бы без вас, господа англичане». Мы теперь сказали бы: «Без вас, господа европейцы».
«Будете плакать обо мне кровавыми слезами!» – «Франция больше нуждалась во мне, чем я в ней». Эти слова Наполеона все еще загадка для Франции, но не для России.
К русским он был не совсем справедлив: не все они «варвары»; есть среди них и такие, которые любят Европу и знают ее, может быть, лучше самих европейцев.
Вот и сейчас видят русские то, чего европейцы не видят: страшно высоко над ними – по этой высоте мы можем судить, в какую мы сошли низину, в какую пропасть сползли, – страшно высоко над нами, по горам Запада, едет Всадник, четко чернея на небе, красном от зарева. Кто он? Как не узнать.
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук.
Лермонтов. «Воздушный корабль»
Едет шагом, смотрит вдаль, на Восток, держит в руке обнаженную шпагу – сторожит. Что от кого? Европейцы не знают, знают русские: святую Европу – от красного диавола.
Владыка мира
«Идея всемирного объединения людей есть идея европейского человечества; из нее составилась его цивилизация, для нее одной оно и живет», – говорит Достоевский в «Дневнике писателя» и, устами Великого Инквизитора, о трех искушениях Христа – хлебом, чудом и властью: «Потребность всемирного соединения есть последнее мучение людей. Всегда человечество, в целом своем, стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великою историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастливее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей».
Достоевский прав: вечная и главная мука человечества – неутолимая жажда всемирности.
Если на первый взгляд кажется, что единственно реальные существа в истории суть существа национальные – «народы, племена, языки», то при более глубоком взгляде оказывается, что все они только и делают, что борются с собой и друг с другом, преодолевают себя и друг друга, чтобы образовать какое-то высшее существо, сверхнациональное, всемирное; что все они более или менее чувствуют себя и друг друга «разбросанными членами», membra distecta этого бывшего и будущего тела; все движутся в истории, шевелятся, как звенья разрубленной, но не убитой змеи, чтобы снова соединиться и срастись; или как мертвые кости Иезекиилева поля: «произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кость с костью, а духа не было в них».
От основателя первой всемирной монархии вавилонского царя Сарганисара, Саргона Древнего (около 2800 года), до Третьего Интернационала вся всемирная история есть шевеление этих змеиных обрубков, шум этих мертвых костей.
Только что человечество начинает понимать себя, как уже мучается этою мукою – неутолимою жаждою всемирности.
Древние всемирные монархии – Египет, Вавилон, Ассирия, Мидия, Персия, Македония – ряд попыток утолить ее, «устроиться непременно всемирно». Та же идея соединяет обе половины человечества, языческую и христианскую; только в эллино-римской всемирности могло осуществиться христианство: Сын Человеческий родился не случайно на всемирной земле Рима, под всемирной державой римского кесаря.
Дело всемирности, начатое языческим Римом, продолжает Рим христианский, до наших дней, до Революции. Революция отступила от христианства во всем, кроме этого – всемирности. «Французская революция, в сущности, была не более как последним видоизменением и перевоплощением той же древнеримской формулы всемирного единения», – говорит Достоевский, но не договаривает: последним воплощением всемирности была не сама Революция, не хаос, а его обуздатель, Наполеон.
Дело всемирности есть главное и, можно сказать, единственное дело всей жизни его. Не поняв этого, ничего нельзя в ней понять. Все его дела, мысли, чувства идут от этого и к этому.
«Жажда всемирного владычества заложена в природе его; можно ее видоизменить, задержать, но уничтожить нельзя», – верно угадывает Меттерних. И он же: «Мнение мое о тайных планах и замыслах Наполеона никогда не изменялось. Его чудовищная цель всегда была и есть – порабощение всего континента под власть одного».
Почему же эта цель «чудовищна»? Почему Наполеоново всемирное владычество – «порабощение»? Потому что он «честолюбец», «властолюбец», каких мир не видал.
Ставить Наполеону в вину любовь к власти все равно что ваятелю – любовь к мрамору или музыканту – любовь к звукам. Вопрос не в том, любит ли он власть, а в том, для чего он любит ее и что с нею делает.
Властолюбие – сильная страсть, но не самая сильная. Из всех человеческих страстей сильнейшая, огненнейшая, раскаляющая душу трансцендентным огнем – страсть мысли; а из всех страстных мыслей самая страстная та, которая владела им, – «последняя мука людей», неутолимейшая жажда их, мысль о всемирности. Может быть, это уже не страсть, а что-то большее, для чего у нас нет слова, потому что вообще, как верно замечает госпожа де Сталь, «личность Наполеона неопределима словами».
«Я хотел всемирного владычества, – признается он сам, – и кто на моем месте не захотел бы его? Мир звал меня к власти. Государи и подданные сами устремлялись наперерыв под мой скипетр».
Он мог бы сказать о мире то же, что говорил о Франции: «Мир больше нуждался во мне, чем я в нем».
Если это – «властолюбие», «честолюбие», то какого-то особого порядка, не нашего, и нашими словами, в самом деле, неопределимого. Он и сам хорошенько не знает, есть ли оно у него. «У меня нет честолюбия… а если даже есть, то такое естественное, врожденное, слитое с моим существом, что оно, текущее в моих жилах, – как воздух, которым я дышу». – «Мое честолюбие?.. О да, оно, может быть, величайшее и высочайшее, какое когда-либо существовало! Оно заключалось в том, чтобы утвердить и освятить наконец царство разума – полное проявление и совершенное торжество человеческих сил».
Царство разума – царство всемирное. Как же он к нему идет?
«Одной из моих величайших мыслей было собирание, соединение народов, географически единых, но разъединенных, раздробленных революциями и политикой… Я хотел сделать из каждого одно национальное тело».
«Как было бы прекрасно в таком шествии народов вступить в потомство, в благословение веков! Только тогда, после такого первого упрощенья, можно бы отдаться прекрасной мечте цивилизации: всюду единство законов, нравственных начал, мнений, чувств, мыслей и вещественных польз». – «Общеевропейский кодекс, общеевропейский суд; одна монета, один вес, одна мера, один закон». – «Все реки судоходны для всех; все моря свободны». – Всеобщее разоружение, конец войн, мир всего мира. «Вся Европа – одна семья, так, чтобы всякий европеец, путешествуя по ней, был бы везде дома». – «Тогда-то, может быть, при свете всемирного просвещения, можно бы подумать об американском Конгрессе или греческих Амфиктиониях для великой европейской семьи, и какие бы открылись горизонты силы, славы, счастья, благоденствия!»
Все это уже было близко, так близко, как еще никогда: только руку протянуть. И он уже протягивал ее дважды; две попытки всемирного «обновления» были им сделаны: первая, с юга, через Англию, республиканская; вторая, с севера, через Россию, монархическая. Обе шли к одной цели и совершились бы твердо, умеренно, искренно. И каких только бедствий, ведомых нам и неведомых, не избегла бы несчастная Европа! Никогда не возникало замысла более великого и благодетельного для цивилизации; и никогда еще не был он ближе к исполнению. И вот что замечательно: «Неудача моя произошла не от людей, а от стихий; море погубило меня на юге, а на севере – пожар Москвы и мороз. Так вода, воздух, огонь – вся природа оказалась враждебною всемирному обновлению, которого требовала сама же природа. Неисповедимы тайны Промысла!» – «Но как бы то ни было, рано или поздно, это соединение народов произойдет силою вещей: толчок дан, и я думаю, чтобы, после моего падения и крушения моей системы, оказалось возможным в Европе другое великое равновесие, помимо собирания и союза великих народов».
«„Но зачем все это?“ – может быть, спросите вы, как Пирров советник. Я вам отвечу: чтобы основать новое общество и предотвратить великие бедствия. Вся Европа этого ждет, этого требует; старый порядок разрушился, а новый еще не окреп и не окрепнет без долгих и страшных судорог».
Никогда еще эти слова Наполеона не звучали так пророчески, как в наши дни. 1814–1914. Этот год ответил тому: в том – пала Наполеонова империя, начало всемирности, а в этом – вспыхнула всемирная война. «Страшная судорога» только что прошла по человечеству, и, может быть, близится страшнейшая, по его же пророчеству: «Искры, может быть, будет достаточно, чтобы снова вспыхнул мировой пожар». И единственная наша защита – жалкая тень всемирности, душа младенца нерожденного, витающая в Лимбахе, или мертворожденный выкидыш – Лига Наций.
Чтобы понять до конца, что значит для Наполеона всемирность, надо понять, что она у него не отвлеченная, а кровная, плотская; не то, что для него еще будет, а то, что в нем уже есть; надо понять, что Наполеон – не человек с идеей всемирности, а уже всемирный человек, или, говоря языком Достоевского, «слишком ранний всечеловек». И в этом, как во многом другом, он – «существо, не имеющее себе подобного», по глубокому впечатлению госпожи де Сталь.
Он современен не своему времени, а бесконечно далекому прошлому, когда «на всей земле был один язык и одно наречие», одно человечество; или бесконечно далекому будущему, когда будет «одно стадо, один Пастырь». Он как бы иного творения тварь; слишком древен или слишком нов; допотопен или апокалиптичен.
Человек без отечества, но не по недостатку в себе чего-то, а по избытку. В юности он любил родную землю, Корсику, и хотел быть «патриотом», подражая корсиканскому герою Паоли или классическим героям Плутарха. Но это плохо удалось ему, и скоро соотечественники изгнали его, объявив «врагом отечества».
Он и сам в себе это чувствует и недоумевает; сам искренне и до конца жизни не знает, что он. «Я скорее итальянец или тосканец, чем корсиканец». – «Я непременно хотел быть французом. Когда меня называли „корсиканцем“, это было для меня самым чувствительным из всех оскорблений». – «Один мэр, кажется, в Лионе, сказал мне, думая, что говорит комплимент: „Удивительно, что ваше величество, не будучи французом, так любит Францию и столько для нее сделал“. Точно палкой он меня ударил».
«На каком бы языке ни говорил он, казалось, что этот язык ему не родной; он должен был насиловать его, чтобы выразить свою мысль» (Госпожа Ремюза, «Мемуары»)[8 - «Мемуары» госпожи Ремюза переиздавались в «Захарове» в 2017 году.]. – «Когда произносил речи (по-французски), все замечали недостатки произношения. Ему сочиняли речи заранее, переписывали крупными буквами и учили его произносить слова; но, начиная говорить, он забывал урок и глухим голосом, едва открывая рот, читал по бумаге, с выговором еще более странным, чем иностранным, что производило тягостное впечатление: ухо и мысль неприятно поражались этим непреложным свидетельством его национальной чуждости» (госпожа Ремюза).
Это и значит: человек без языка, без народа, без родины.
Любит ли он Францию? О, конечно, любит! Но даже такой проницательный человек, как Стендаль, ошибается, думая, что он любит ее как отечество. Он и сам в этом ошибается: «Клянусь, все, что я делаю, я делаю только для Франции». – «В счастье, в горе, на полях сражений, в совете, на троне, в изгнании Франция была постоянным предметом всех моих мыслей и действий». – «Всё для французского народа», – завещает он сыну. Но всё ли он отдал ему сам?