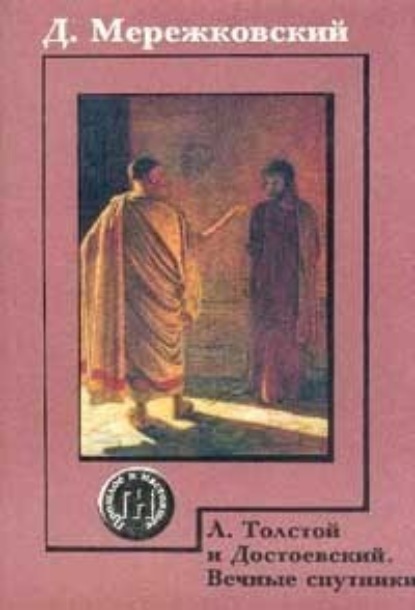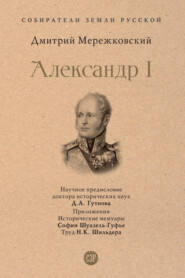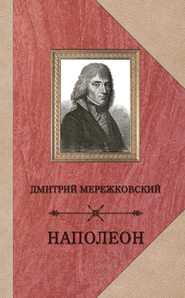По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Л.Толстой и Достоевский
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И в это же время, как бы одолев препятствие, ветер посыпал снег с крыш вагонов и затрепал каким-то железным оторванным листом». Анне уже не страшно, а весело то, что звук самых нежных человеческих слов сливается с этим грубым, стихийным звуком железа и бури в одну нестройно-дикую, опьяняющую музыку.
Перед самою развязкою – тою последнею ссорою с Вронским, после которой Анна решается на самоубийство – пророческое сновидение приобретает свою окончательную определенность. «Страшный кошмар, несколько раз повторявшийся ей в сновидениях еще до связи с Вронским, представился ей опять и разбудил ее. Старичок с взлохмаченною бородой что-то делал над железом, приговаривая бессмысленные французские слова, а она, как и всегда при этом кошмаре (что и составляло его ужас), чувствовала, что мужичок этот не обращает на нее внимания, но делает это страшное дело в железе – над нею». И в последний раз сверхъестественное соприкасается с естественным, сон – с явью; одно входит в другое, одно соединяется с другим – и оба мира становятся взаимно-прозрачными, символическими. Когда, после отчаянной и беспощадной попытки примирения, Анна уезжает и садится в вагон, за несколько минут до смерти, уже со смертью в душе: «Все неправда, все ложь, все обман, все зло!..» – «испачканный, уродливый мужик в фуражке, из-под которой торчали спутанные волосы, прошел мимо окна вагона, нагибаясь к колесам». «Что-то знакомое в этом безобразном мужике», – подумала Анна. И, вспомнив свой сон, она, дрожа от страха, отошла к противоположной двери. Это уже сон въяве, страшный сон, сделавшийся еще более страшною явью. В полусознании, сама не понимая, куда идет, что делает, Анна выходит на станции. «Боже мой, куда мне?» – все дальше и дальше уходя по платформе, думала она. – Подходил товарный поезд. Платформа затряслась, и ей показалось, что она едет опять. И вдруг, вспомнив раздавленного человека в день ее первой встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать. – Она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона. И ровно в ту минуту, как середина между колесами поровнялась с нею, она, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки, и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колени. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что сделала. «Где я? Что я делаю? Зачем?» Она хотела подняться, откинуться; но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину. «Господи, прости мне все!» – проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом».
Мужичок вырос до исполинских размеров и предстал ей в последний раз, как «неимоверное видение», которым кончается все, которое воплотило для нее смысл всей ее жизни, всей жизни мира, соединило явь этой жизни с последним сном. В смерти окончил таинственный мужичок то, что начал в жизни любви, сладострастии: сделал-таки свое страшное дело над нею в железе, в железе беспощадных законов природы, – законов необходимости. Он кажется жестоким, как железо, которое давит и режет живое тело; но ведь и Вронский, когда ласкает ее, покрывает поцелуями ее лицо и плечи, кажется жестоким, страшным; он тоже похож на зверя или убийцу, который тащит и режет окровавленное тело. «Я вас истреблю!» – говорит у Достоевского любящий возлюбленной. «Чуть достиг удовлетворения, является желание истребить, раздавить». – «Надо его бить, раздавить, размозжить» – «il faut le battre, le broyer, le pеtrir»; звук жестокого железа в оргийной буре сладострастия, в этой симфонии мира, сливается со звуком самых нежных человеческих слов. Теперь только, в смерти, Анна поняла, что значил пророческий сон ее жизни: «Все неправда, все обман, все ложь, все зло». И добро есть зло, и любовь есть ненависть, и сладострастие есть жестокость. Нет Бога, нет Отца: Бог не «Он», а Оно – то «огромное, неумолимое», что «толкнуло ее в голову и потащило за спину» под колеса железной «машины». У такого Бога нет милосердия, а есть только железный закон правосудия, закон необходимости: «Мне отмщение, Аз воздам». Призрак «Ветхого деньми», христианский призрак до-христианского Бога и есть этот маленький Старичок со взлохмаченной бородой, который вечно работает над железом какой-то «громадной машины», «делает свое страшное дело в железе», над всякою «дышащею, любящею» плотью: «Надо ее бить, раздавить, размозжить». – «Отчего одеяние Твое красно и ризы Твои, как у топтавшего в точиле?» – «Я топтал точило один. Я топтал народы во гневе Моем, и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое» (Исаии, гл. LXIII, 2–3). «Бог – получеловек, получудовище», – говорит Л. Толстой об этом именно видении, провидении Бога, до-христианского в самом христианстве. «Природа, – говорит один из героев Достоевского, – мерещится в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила, поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное Существо – такое, которое одно стоило всей природы и всех законов ее – то есть Сына Божьего. Бог есть «первый двигатель» этой машины. «Я помню, что кто-то, будто бы, повел меня за руку, со свечкой в руках, показал мне какого-то огромного и отвратительного тарантула и стал уверять, что это то самое темное, глухое и всесильное Существо, и смеялся над моим негодованием». Когда, при последней вспышке свечи, которая должна потухнуть, Анна заглянула, наконец, в лицо своего безобразного Мужичка и, может быть, увидела то, что страшнее всякого лица человеческого или божеского – нечто безликое, серое, как железо, шершавое, паучье, – то не поняла ли она, что это и есть Оно – Чудовище, темное, глухое и немое, похожее на огромного «тарантула», Бог-Зверь, Бог-Дьявол? Мы видели, что в другом, равно великом произведении Л. Толстого, в «Войне и мире», является тот же самый призрак до-христианского Бога, попирающего народы в ярости Своей, обрызганного кровью мщения; мы видели Его в конце Бородинского сражения, над кровавою бойнею народов, которые устали истреблять друг друга, но не могут остановиться, потому что «какая-то непонятная, таинственная сила еще продолжает руководить ими… И ядра так же быстро и жестоко перелетали с обеих сторон и расплюскивали человеческое тело, и продолжало совершаться то страшное дело, которое совершается не по воле людей, а по воле Того, Кто руководит людьми и мирами». Чугунные ядра точно так же расплющивают тело солдат, как чугунные колеса – тело Анны.
Когда умирающий Иван Ильич «просовывается в черный, узкий мешок» и никак не может просунуться, – «вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то». Точно так же и Анну, когда она хотела «подняться, откинуться от колес вагона», вдруг «что-то неумолимое толкнуло в голову и потащило за спину». – «Боже, прости мне все», – сказала Анна. «Пропусти» вместо «прости», – говорит Иван Ильич. «Пропусти без суда Твоего!» – молится и Дмитрий Карамазов: «без суда», помимо суда, помимо железного закона отмщения и воздаяния. Когда Анна «провалилась в дыру», когда свеча навсегда «потухла», то, может быть, и для нее так же, как для Ивана Ильича, «там, в конце дыры, засветилось что-то» – уже не тусклый свет свечи, а новый, невечерний, не мерцающий свет. Может быть, и для нее «вместо смерти был свет». Может быть, и она сказала себе: «Где она? Какая смерть?» Страха никакого не было, потому что и смерти не было. «Так вот что!.. Какая радость». И при этом-то свете лицо страшного Старичка преобразилось, просветлело, сделалось родным, знакомым, любящим, лицом доброго, простого Старичка «с белой бородой», которому молилась она в детстве: «Отче наш». – «Боже, прости мне все!» И Он ее простил. Сказал ей, не как жестокий «Хозяин» – христианский старец Аким, для которого во всякой плоти есть нечто проклятое: «Мне отмщение, Аз воздам», а как Отец – Своей дочери, Им же созданной плоти, как великий «язычник», дядя Ерошка, благословляющий всякую живую плоть, всякую «Божью тварь»: «ни в чем греха нет. Все Бог сделал на радость человеку» – и тогда, может быть, заглянув уже бесстрашно в лик Отчий, узнала она в нем Сыновний лик, лик Второго Пришествия, славный, сияющий, как солнце, – лик Господа.
И сказал ей Господь, как некогда жене, «взятой в прелюбодеянии»:
– Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?
– Никто, Господи.
– И Я не осуждаю тебя.
«Когда книжники и фарисеи привели к Иисусу женщину, взятую в прелюбодеянии, и сказали Ему, искушая Его: Учитель! Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? – Тогда Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. – И опять, наклонившись низко, писал на земле. – Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди».
Женщина, стоящая посреди, это – Анна Каренина. Но, по-видимому, у нас, «христиан», совесть бесстрашнее, чем у фарисеев. Мы твердо держим камень и все еще готовы бросить его. Именно так, то есть как совершение Ветхого закона, понята была эта трагедия всеми нами, «от старших до последних», кажется, так понята была она и самим Толстым, даже самим Достоевским. Но почему же Тот, Кому принадлежит отмщение и воздаяние, Кто один «без греха», почему, не глядя нам в очи, как бы стыдясь увидеть тайну совести нашей, «наклонившись низко, что-то пишет перстом на земле». Что пишет Он? Какое слово? Не слово ли последней любви и последней свободы о тайне пола преображенного, о тайне святого целомудрия и святого сладострастия? В Евангелии нет этого слова, единственного, не сказанного им, а написанного, никем не прочтено оно, навсегда забыто, стерто с земли, развеяно пустынным ветром почти двух тысячелетий скопческого и прелюбодейного христианства. «Кто может вместить, да вместит». Но «слово Мое в вас не вмещается». Кажется, именно это слово о старом грехе, о новой святости пола всего менее вмещается в нас. – «Вы теперь не можете вместить; когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Не потому ли эта скорбь осталась неутешенной, эта истина – незавершенною первым Пришествием, что Духу-Утешителю, ведущему нас от первого ко второму Пришествию, предстоит утешить нас от этой скорби, возвестить нам эту истину? Во всяком случае, недаром же самая глубокая мысль двух величайших русских писателей, искавших дерзновеннее чем кто-либо, новой религии, два самые пророческие видения, обоих – Старичок Л. Толстого, Тарантул Достоевского, – устремлены именно в эту сторону – к тайне пола: как будто они предчувствовали, что от вмещения этого слова Господня, главным образом, и зависит вся будущность христианства.
Смерть Анны не случайно противопоставлена художником родам Кити: и здесь, И там, и в смерти, и в рождении, одинаково приподымаются все «покровы», завеса плоти и крови над тем, что за плотью и кровью.
Когда, в самом начале родов, при первом приступе болей, муж Кити, Левин, смотрит на «зарумянившееся лицо ее», которое «сияет радостью и решимостью», он «поражен тем, что обнажается теперь, когда вдруг все покровы сняты, и самое ядро ее души светится перед ним». «Кити страдала и как будто жаловалась ему на свои страданья. И ему в первую минуту по привычке показалось, что он виноват». – «Если не я, то кто же виноват в этом?» – невольно подумал он, отыскивая виновника этих страданий, чтобы наказать его; но виновника не было. Кому же «отмщение», кто «воздаст»? Левин этого «не мог понять», «это было выше его понимания».
Глубже, чем Левин, задумался над этою странною «виною» Позднышев. Описывая «мерзость медового месяца», говорит он, между прочим: «Неловко, стыдно, гадко, жалко и, главное, скучно, до невозможности скучно… Надо, чтобы супруг воспитал в жене этот порок для того, чтобы получить от него наслаждение.
– Как порок? Ведь вы говорите о самом естественном человеческом свойстве.
– Естественном? – сказал он. – Естественном? Нет, я скажу вам напротив, что я пришел к убеждению, что это не… естественно. Да, совершенно, не… естественно. Спросите у детей, спросите у неразвращенной девушки.
Вы говорите: естественно!
Естественно есть, и есть радостно, легко, приятно и не стыдно с самого начала; здесь же и мерзко, и стыдно, и больно. Нет, это неестественно! И девушка неиспорченная, я убедился, всегда ненавидит это.
– Как же продолжался бы род человеческий?
– Зачем ему продолжаться, роду-то человеческому?
– Как зачем? Иначе бы нас не было.
– Да зачем нам быть?
– Как зачем? Да чтобы жить.
– А жить зачем?.. Если есть цель жизни, то ясно, что жизнь должна прекратиться, когда достигается цель… Если цель человечества благо, добро, любовь, то ведь достижению этой цели мешает что? Мешают страсти. Из страстей самая сильная и злая, и упорная – половая, плотская любовь, и потому, если уничтожатся страсти, и последняя, самая сильная из них, плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему незачем будет жить». – «Я думаю, – говорит у Достоевского Кириллов по поводу минут „вечной гармонии“, – я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коль цель достигнута? В Евангелии сказано, что в воскресении не будут родить, а будут, как ангелы Божии».
Так вот откуда, из каких религиозных глубин идет это чувство вины, преступности, которое испытывает Левин. Брак его с Кити – истинное таинство, освященное церковью, благословенное Самим Господом. Когда Кити стоит перед алтарем в подвенечном уборе, она «чистейшей прелести чистейший образец». Но ведь вот совершится же и над нею уже вне церкви, как будто помимо церкви, нечто, по мнению Позднышева, «стыдное, мерзкое, свиное», и даже «не естественное», нечто, как будто действительно похожее на самое жестокое насилье, на убийство, – то, что, может быть, недаром самою природою отмечено кровью. Белые одежды девственницы запятнаются кровью. Наступит такое мгновение и для добрейшего, добродетельнейшего Левина, когда он вдруг сделается, по крайней мере, в глазах циника Позднышева, похожим на «убийцу», который «режет и тащит» убитое тело, или на того человека-зверя, который у Достоевского говорит любимой женщине: «Я вас истреблю!» Вот уже почти два тысячелетия, как мы закрываем на это глаза, стараемся об этом не думать, не говорить, пройти мимо этого. Но не видеть этого нельзя; уже все «покровы» сняты: рано или поздно мы должны будем либо отречься от всякой крови, либо освятить до конца и эту все еще не святую кровь. Вот в этой-то недостаточной, «не вмещенной» нами святости плотского, кровного соединения («вы теперь еще не можете вместить») и зародилось то чувство вины, преступности, отнюдь не реального, но нравственного порядка, которое впоследствии перед болями рожающей Кити испытывает Левин, и которое заставит Позднышева кощунствовать – видеть только мерзость запустения на святом месте пола. Все считают Анну Каренину, она сама себя считает виноватою какой-то страшною виною; но, может быть, и ее вина, как вина Левина перед Кити, тоже вовсе не реального, нравственного, а какого-то высшего, сверх-нравственного порядка, «какой-то первородный грех» всей рождаемой и рождающей твари, – грех, не искупимый никаким человеческим и уже искупленный божеским искуплением – «кровью Агнца»? Религиозное сознание современного человечества против Анны за Левина. Но если бы оно было и за нее, то, может быть, это, связанное с полом, чувство мистической вины, преступного, преступающего за все пределы жизни, не отдалило бы и ее, Анну, от Бога, а устремило бы к нему, точно так же, как Левина.
«Боже, прости мне все!» – молится она перед смертью. «Господи, помилуй! прости, помоги!» – молится и Левин перед родами Кити. «И он, неверующий человек, – говорит Л. Толстой, – повторял эти слова не одними устами. Теперь, в эту минуту, он знал, что все не только сомнения его, но та невозможность по разуму верить, которую он знал в себе, нисколько не мешают ему обращаться к Богу. Все это теперь, как прах, слетело с его души. К кому же ему было обращаться, как не к Тому, в Чьих руках он чувствовал себя, свою душу и свою любовь?» Невинно виноватый Левин мог бы теперь точно так же молиться, как «преступный» Дмитрий Карамазов: «Господи, не суди меня. Пропусти мимо, без суда Твоего!» Без суда – ибо, что здесь, в тайне зачатия и рождения, совершается, – выше всякого, даже Твоего суда, всякого «отмщения» и «воздаяния».
Может быть, впрочем, и здесь совершается какое-то таинственное «отмщение» за какую-то таинственную вину; но и эта вина, и это отмщение с человеческою нравственностью, с человеческим злом и добром несоизмеримы.
«Вдруг раздался крик, ни на что не похожий. Крик был так страшен, что Левин даже не вскочил, но, не переводя дыхания, испуганно-вопросительно посмотрел на доктора. – Прислонившись головой к притолке, он стоял в соседней комнате и слышал чей-то, никогда не слыханный им визг, рев, и он знал, что это кричало то, что прежде было Кити».
Это живая плоть визжит, ревет под жестоким железом вечного «Старичка»; это он «работает над железом», «не обращая на нее внимания, делает свое страшное дело в железе над нею», над рожающею Кити, так же, как над умирающею Анною: il faut le battre, le broyer, le pеtrir. Как будто и здесь – сладострастная жестокость, желание «истребить, раздавить». И не мерещится ли природа, при взгляде на эти безобразные муки, как мерещилась она Достоевскому, «в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя, или в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя существо человеческое и, вместо живой плоти, вместо лица, выбросила только «раздавленное тело», «мясо», что-то страшное, близкое: «лица Кити не было. На том месте, где оно было прежде, было что-то страшное и по виду напряжения, и по звуку, выходившему оттуда. Левин припал головой к дереву кровати, чувствуя, что сердце его разрывается». И здесь, как в бреду князя Андрея, «за дверью стоит оно; это что-то ужасное, уже надавливая с другой стороны, ломится в дверь. Что-то нечеловеческое, смерть ломится в дверь, и надо удержать ее. Но силы слабы… Еще раз оно надавило оттуда. Последние сверхъестественные усилия тщетны, обе половинки отворились беззвучно. Оно вошло». И оно есть смерть? Нет, не смерть. «Ужасный крик» рождающей Кити, «как бы дойдя до последнего предела ужаса, вдруг затих. Левин не верил своему слуху, но нельзя было сомневаться: крик затих, и слышалась тихая, суетная шелесть и торопливые дыхания, и ее прерывающийся, живой и нежный, счастливый голос тихо произнес: „Кончено“. И вдруг, из того таинственного и ужасного, нездешнего мира, в котором он жил эти двадцать два часа, Левин мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний, обычный мир, но сияющий теперь таким новым светом счастья, что он не перенес его. Рыдания и слезы радости поднялись в нем». – «Так вот что! Какая радость!» – мог бы воскликнуть и он, подобно Ивану Ильичу, когда тот провалился в «дыру», и «там, в самом конце дыры, засветилось что-то». Когда «ложесна» Кити разверзлись, и крик затих, когда «обе половинки двери распахнулись беззвучно», то оно вышло оттуда, – и оно не смерть, а новая жизнь, новый свет. Свеча жизни для Кити и Левина, так же как для Анны «вспыхнула более ярким светом, чем когда-либо, озаряя все, что было во мраке», и зажгла новую свечу. «Там в ногах постели, в ловких руках Лизаветы Петровны (повивальной бабки), как огонек над светильником, колебалась жизнь человеческого существа, которого никогда прежде не было, и которое так же, с тем же правом, с тою же значительностью для себя, будет жить и плодить себе подобных». – «Вместо смерти был свет». – «Кончено», – тихо произнес счастливый голос матери. Кончено страшное дело Старичка в железе над живою плотью; и дело это здесь, в рождении, так же как там, в смерти, оказалось благим, святым, радостным. И здесь, как там, жестокое железо необходимости, достигнув последней жестокости, вдруг умягчилось, развеялось, как веяние последней тишины и свободы, как «тихая суетная шелесть» и «торопливые дыхания» любящих, как живой и нежный голос матери: «Кончено». Недаром Левин, подобно Анне и Дмитрию Карамазову, молился: «Господи, помоги, прости, пропусти мимо, без суда Твоего». И здесь, в рождении, так же, как там, в смерти, страшный Старичок оказался Богом-Отцом, Тем самым, к которому Левин во времена детства обращался доверчиво и просто. Нет вины, нет преступления. «Ни в чем греха нет». Бог не проклинает соединения плоти с плотью, подобно христианскому старцу Акиму или Позднышеву: «Люди, перестаньте быть свиньями, или я вас истреблю, и вы превратитесь в кусок разлагающейся плоти под железным законом моего правосудия»; – а подобно дяде Ерошке благословляет всякую живую, дышащую, любящую плоть, всякую «Божью тварь». «Все Бог создал на радость человеку».
Да, «все покровы сняты», и в обнажившейся последней глубине плоти и крови, «там, в самом конце дыры, засветилось что-то»: засветилось за кажущеюся противоположностью действительное единство тайны рождения и тайны смерти.
Во время родов Кити Левин «знал и чувствовал, что то, что совершалось, было подобно тому, что совершалось год тому назад на одре смерти брата Николая». Мы могли бы прибавить: и в смерти князя Андрея, и в смерти Ивана Ильича, и в смерти Анны Карениной, и вообще во всякой смерти. «Но то (смерть) было горе, это (рождение) была радость. Но и то горе, и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни, были в этой обычной жизни, как будто отверстия, сквозь которые показывалось что-то высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и одинаково непостижимо, при созерцании этого высшего, подымалась душа на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде, и куда рассудок уже не поспевал за нею». Смерть и рождение – два «отверстия» или, говоря позднейшим, толстовским, как будто циническим, на самом деле, бесконечно-целомудренным языком – «две дыры» в завесе плоти и крови, сквозь которые «одинаково», то есть в своем последнем соединении, символе, «показывается что-то высшее», чем рождение и смерть. Именно здесь, в сияющей точке пола, как в своем оптическом фокусе, пересекаются, скрещиваются все противоположные лучи верхнего и нижнего неба, двух половин мира, двух полумиров.
Когда Левин, уже после родов, подходит к Кити, она «встречает его взглядом, – взглядом притягивает к себе. Взгляд ее, и так светлый, еще более светлел, по мере того, как он приближался к ней. На ее лице была та самая перемена от земного к неземному, которая бывает на лице покойников; но там прощание, здесь встреча». Взгляд рождающей Кити совершенно подобен и совершенно противоположен, как полюс полюсу, взгляду умирающего князя Андрея. «Они обе (сестра и невеста князя) видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно, опускался от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть, и что это хорошо».
«– Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: «Да, это правда, это хорошо», – описывает Кириллов минуту «вечной гармонии». Князь Андрей опускается куда-то туда, в какую-то «дыру», в какое-то отверзшееся «чрево мира». И когда сквозь отверзшиеся ложесна Кити выходит новая жизнь, новый свет жизни, что-то опять-таки «опускается», но уже в обратном движении – оттуда сюда, из того же самого «чрева мира», – в здешний мир. И опять: «это правда, это хорошо». «Тут чревом любишь, – говорит Иван Карамазов о своей любви к плоти и крови. – И это прекрасно, это хорошо, – отвечает Алеша. – Одна половина твоего дела сделана, теперь надо постараться тебе о второй твоей половине, и ты спасен». Все равно, куда бы ни шли мы – оттуда или сюда – из второй ли половины в первую, или из первой во вторую, в чрево, или из чрева мира, это одинаково хорошо, мы идем не по двум разным путям, а по одному и тому же пути в две противоположные стороны, совершая вечный круг, от Бога к Богу. Рождение и смерть – одно, Вифлеем и Голгофа – одно, Отец и Сын – одно. Но ведь это и есть глубочайшая, хотя все еще сокровенная, «не вмещенная» нами, тайна Христова. «Ибо Он, по слову апостола Павла (к Ефесянам, II, 14–15), есть мир наш (мир, то есть примирение, соединение, Символ), соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, дабы из двух создать в Себе Самом одного – и в одном теле примирить обоих с Богом». Вот к этой-то тайне последнего соединения, тайне святой Плоти, святой Крови и прикоснулся ясновидец плоти, Л. Толстой, именно здесь, в величайшем своем создании, в Анне Карениной – в сопоставлении смерти Анны и родов Кити; здесь бессознательно приобщился он страшных тайн Христовых, может быть, в большей мере, чем даже ясновидец духа, Достоевский, в своем полном сознании. Здесь уже действительно «все покровы сняты», «преграда, стоявшая посреди, разрушена», обнажены оба полюса мира – «концы обнажены», и, кажется, вот-вот
Концы концов коснутся,
Проснутся «да» и «нет»,
И «да» и «нет» сольются,
И смерть их будет Свет, —
свет «неимоверного видения», которым кончается все, видение Савла по пути в Дамаск: «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба; он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Сауле, Сауле, что Мя гониши? жестоко ти есть противу рожна прати“. И Л. Толстому, уже „дышавшему угрозами и убийствами“ ветхозаветными, уже по пути в Дамаск бесплотного и бескровного «обрезанного» христианства, предстало, как Савлу, видение Плоти и Крови в Анне Карениной. В рождении и в смерти услышал он один и тот же голос, говоривший ему: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?» Если бы узнал он Того, Кто с ним говорил тогда, и действительно обратился бы к Нему, то стал бы христианином, может быть, большим, чем Достоевский – одним из великих апостолов, Павлом нового христианства. Почему же он не узнал Христа? Почему не только ослеп от осиявшего его света, но так и остался слепым, не прозрел, как Савл? Что за пелена застилает и доныне от этих глаз ясновидящего то единственное, что ему всего нужнее видеть? Почему и доныне, как это ни «трудно», ни «жестоко» ему, Л. Толстой «прет противу рожна» своей же собственной, единственно подлинной святыни – святой Плоти и Крови?
«В детстве, лет семи или восьми, Лев Николаевич возымел страстное желание полетать в воздухе, – рассказывается в одном из толстовских „житий“. – Он вообразил, что это вполне возможно, если сесть на корточки и обнять руками свои колени, при этом, чем сильнее сжимать колени, тем выше можно полететь. Мысль эта долго не давала ему покою, и, наконец, он решился привести ее в исполнение. Он заперся в классную комнату, взлез на окно и в точности исполнил все задуманное. Он упал с окна на землю с высоты около двух с половиною сажен и отшиб себе ноги и не мог встать» («Воспоминания» С. А. Берс).
Мы, взрослые, презираем детские мысли; но, может быть, дети еще не знают, помнят кое-что, о чем забыли взрослые; может быть, и в этой детской мысли Льва Николаевича о полете, которая едва не стоила ему жизни, сказывается нечто глубокое, предзнаменующее для всей его жизни? Если так, то тут прежде всего любопытна безграничная вера в себя, в свою способность гениальных открытий и какая-то отчаянная преданность мечте о самом невозможном, – преданность, доходящая до мгновенного безумия, ибо подобное смешение реального с чудесным, естественного со сверхъестественным, есть что-то большее, чем простая глупость, даже для семилетнего ребенка: это уж какой-то бред, чуть прорастающее семя какого-то безумия. В этом сне наяву о крыльях (все мы летали во сне) не сказывается ли какая-то очень темная, мистическая черта, свойственная природе человеческой вообще: притяжение бездны, соблазн крыльев, искушение чудом полета, – может быть, смутная мечта о той самой «физической перемене» людей и законов природы, которой бредит Кириллов у Достоевского, и о которой пророчествует апостол: «Не все мы умрем, но все мы изменимся скоро, во мгновение ока», – самое страшное и таинственное искушение Господа Дьяволом: «поставил Его на крыле храма и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз». Замечательно, что именно в то время, когда все три искушения пробудились вновь, и вновь борьба Дьявола с Богом загорелась в человечестве с еще небывалою силою – во время Итальянского Возрождения – у человека, внутренне стоявшего ближе всех к этой борьбе, у Того, Кто в Тайной Вечере дал людям совершеннейший лик Господа – у Леонардо-да-Винчи является эта же искусительная мечта о полете, о крыльях человеческих: дневники Леонардо полны вычислениями и чертежами летательной машины; при тогдашнем состоянии механики это была самая невозможная, дерзкая и даже как бы детская мысль, что-то вроде желания Левушки лететь «на корточках»; и, однако, всю жизнь этого предтечу Галилея и Бэкона, точнейший из математических умов, преследует «неимоверное видение» «Лебедя», «великой Птицы», «grande uccello», крылатого «сверх-человека». Но, может быть, еще более замечательно то, что и с противоположной стороны, в глубинах Востока, в аскетическом христианстве возникает подобное же видение: из византийской иконописи переходит в древнерусскую и здесь достигает огромных, апокалипсических размеров, образ крылатого человека, Иоанна Предтечи Крылатого. И, наконец, по преданию Церкви, величайшее последнее чудо и знамение Антихриста, то чудо, после которого он будет уничтожен «дыханием уст Господних», – есть чудо полета.
Сказавшееся в детской мечте Льва Николаевича искушение бездною повторяется отчасти и в другом, столь же вещем сне его, который приснился ему уже на пороге старости, в самое роковое мгновение совершавшегося в нем религиозного переворота, и который окончательно, в его собственных глазах, определил мистический смысл этого переворота. Вот как рассказывает он сам в «Исповеди» об этом сновидении:
«Вижу я, что лежу на постели, на плетеных веревочных помочах, прикрепленных к бочинам кровати. Мне неловко, я двигаюсь и соскальзываю с этих помочей. Весь низ моего тела спускается и висит, ноги не достают до земли. Я держусь только верхом спины, и мне становится не только неловко, но отчего-то жутко. Тут только я спрашиваю себя: где я и на чем я лежу? И начинаю оглядываться, и прежде всего гляжу вниз, туда, куда свисло мое тело, и куда, я чувствую, что должен упасть сейчас. Я гляжу вниз и не верю своим глазам: не то, что я на высоте, подобной высоте высочайшей богини или горы, а я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе. – Я не могу даже разобрать, вижу ли я что-нибудь там, внизу, в той бездонной пропасти, над которой я вишу и куда меня тянет. Сердце сжимается, и я испытываю ужас. Смотреть туда ужасно. Если я буду смотреть туда, я чувствую, что я сейчас соскользну с последней помочи и погибну. Я не смотрю; но не смотреть еще хуже, потому что я думаю о том, что будет со мной сейчас, когда я сорвусь с последней помочи. И я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно скольжу по спине ниже и ниже. Еще мгновение – и я оторвусь. И тогда приходит мне мысль: не может это быть правда. Это сон. Проснись. – Я пытаюсь проснуться и не могу. – Что же делать, что же делать? – спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу, и действительно я забываю. Бесконечность внизу отталкивает меня и ужасает; бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я также вишу на последних, не выскочивших из-под меня помочах над пропастью; я знаю, что я вишу, но я смотрю только вверх – и страх мой пропадает. – И я гляжу все дальше и дальше, в бесконечность, вверх. – И я спрашиваю себя: ну, а теперь что же, – я все так же? – И я не столько оглядываюсь, сколько всем телом своим испытываю ту точку опоры, на которой я держусь. И вижу, что я уже не вишу и не падаю, а держусь крепко. Я спрашиваю себя, как я держусь, ощупываюсь, оглядываюсь, и вижу, что подо мной, под серединой моего тела – одна помоча, и что, глядя вверх, я лежу на ней в самом устойчивом равновесии; что она одна и держала прежде. И тут, как это бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, – очень естественным, понятным и несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет никакого смысла. Я во сне даже удивляюсь, как я не понимал этого раньше: оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твердость этого столба не подлежит никакому сомнению, несмотря на то, что стоять этому тонкому столбу не на чем; потом от столба проведена петля, как-то очень хитро и вместе просто, и если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении. Все это мне было ясно, и я был рад и спокоен. И как будто кто-то мне говорил: смотри же, запомни. – И я проснулся».
Этот вещий сон исполнился, как мы видели, с поразительною точностью в дальнейших религиозных судьбах Л. Толстого: «христианство» его оказалось не живым открылением, не вольным полетом, о котором мечтал он в детстве, а именно только «механизмом» неподвижного равновесия, то есть чем-то машинным, автоматическим, мертвенным и притом самоубийственным и самообманным: для того, чтобы «механизм» этот действовал, надо умертвить целую половину своего религиозного зрения – глядеть только вверх, видеть только верхнюю, исключительно будто бы христианскую бездну духа, закрывая глаза на нижнюю, исключительно будто бы языческую бездну плоти; мало того – уже заглянув нечаянно в эту нижнюю бездну, уже увидев, что она совершенно равна верхней, что она – такая же «бесконечность», надо все-таки себя обманывать, утверждая, будто бы она вовсе не бездна, а только яма, – что-то смрадное, грязное, гадкое, смешное, «свиное». Да весь этот «механизм», вся эта евангельская машина – неподвижный столб и петля, прикрепленная к столбу – до ужаса напоминают виселицу: вместо крылатого, летящего над бездною, оказался только повешенный. Если бы маленькому русскому Икару – Левушке предложили такой «механизм» вместо крыльев и такое висение вместо полета, то он отверг бы дар этот с отвращением и ужасом, предпочел бы сразу упасть и разбиться. Ребенком наяву Лев Николаевич был храбрее, чем взрослым во сне. Будь он столь же храбр во сне, как наяву, то понял бы, что последняя из ослабевших под ним «помочей», то есть бессознательное христианство, не может его спасти, что, напротив, она-то и губит его; он сделал бы последнее усилие, чтобы освободиться от нее, и жалкая полуистлевшая веревка не оказалась бы тою мертвою петлею, в которой он удавился, – он бы сорвался с нее, упал, полетел. И тогда, может быть, совершилось бы чудо, то самое чудо полета, о котором в детстве, да и потом, кажется, всю жизнь мечтал он бессознательно. Тогда понял бы он, что казавшееся ему гибелью было единственным спасением. Почувствовал бы вдруг, что за плечами его выросли два крыла, которые несут его между двойною бездною, и что ему уже нечего бояться, потому что
Небо – вверху, небо – внизу,
Звезды вверху, звезды внизу,
Все, что вверху, – все и внизу.
Ужас падения сделался бы восторгом полета; он окончательно проснулся бы, прозрел и увидел, что бесконечность верхняя и нижняя – не два, а одно, дух и плоть – одно, Сын и Отец – одно. И окончательно победил бы он свой противоположный сон, привидение старого языческого Бога-Зверя, страшного подземного «Старичка», который «работает в железе», победил бы сверхъестественною свободою и легкостью полета этого дьявола «земной тяги», земной тяжести – рабства железным законам естественной необходимости. И открылась бы ему последняя истина, последняя свобода Христа («познаете истину и истина сделает вас свободными». Иоанна, VIII, 32), которая – сверх добра и зла, которая есть последнее соединение двух бесконечностей. И вместо «повешенного», мертвого старца Акима, явился бы воистину воскресший, преображенный дядя Ерошка – «полной славой тверди звездной отовсюду окруженный», «Лебедь» – русская «великая Птица», летящая к будущему – русский Крылатый Предтеча Второго Пришествия.
«Когда страшный и премудрый дух поставил Тебя на вершине храма и сказал Тебе: „Если хочешь узнать, Сын ли Ты Божий, то верзись вниз, ибо сказано про Того, что ангелы подхватят и понесут его, и не упадет, и не расшибется, – и узнаешь тогда, Сын ли Ты Божий, и докажешь тогда, какова вера Твоя в Отца Твоего“; Ты, выслушав предложение, отверг его и не поддался, и не бросился вниз». – Это у Достоевского говорит Великий Инквизитор Тому, Кто кажется ему «православным» Христом: для религиозного сознания Достоевского, точно так же, как для бессознательной стихии Л. Толстого, искушение чудом полета, преображенною плотью есть главное искушение Христа и всего христианства. И здесь, то есть в самом важном, глубоком, как всегда, везде, Достоевский в своей противоположности совершенно, хотя и обратно-подобен Л. Толстому. Сон Толстого – явь Достоевского; Достоевский видит наяву те самые две бесконечности, которые Л. Толстой видит во сне. Сам Достоевский принадлежал к числу великих созерцателей-подвижников христианских, которые, по выражению Черта, «такие бездны веры и неверия могут созерцать в один и тот же момент, что, право, иной раз кажется, только бы еще один волосок, и полетит человек…» Но Достоевский не старался, подобно Л. Толстому, смотреть в одну лишь верхнюю бездну, закрывая глаза на нижнюю; он испытывал бесстрашным взором обе бездны, и понимал, что они равны в своей противоположности: «Все, что вверху – все и внизу»; бездна нижняя притягивала его не менее, чем верхняя, может быть, даже более (и в этом более – слабость Достоевского, опять-таки обратная слабости Л. Толстого – его непобежденный демонизм): «потому что я Карамазов: потому что, если уж полечу в бездну, то опять-таки прямо головой вниз и вверх пятами… И вот, в самом-то позоре, я вдруг начинаю гимн. Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог мой; пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки и Твой сын, Господи, я люблю Тебя и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть». Это падение в бездну, которое будет полетом над бездною, и есть вся религиозная жизнь Достоевского: уже не во сне, а в яви, более вещий, чем самый вещий сон, висит он «между двумя бесконечностями»; но не цепляется, судорожно и боязливо, как Л. Толстой, за полусгнившую веревку, за ослабевшую детскую «помочу» бессознательной религии, а рвется на свободу, прикованный, подобно древнему титану, железною цепью к «неподвижному столбу», к несокрушимой скале церкви; цепь эта есть кровная связь Достоевского с русским народом, любовь его к народной, даже простонародной вере – к православию. Он уже почти сознавал, что, если разорвет цепь и кинется в бездну, то не упадет, а полетит, что у него есть крылья; но когда хотел он их расправить, чтобы лететь, – цепь не пускала его, и он вдруг чувствовал, что последнее звено ее – в самом сердце его, что вырвать ее можно только вместе с сердцем.
«О, Ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, лишь движение броситься вниз, Ты тотчас бы и искусил Господа, и веру в Него всю потерял и разбился бы о землю, которую спасать пришел, и возрадовался бы умный дух, искушавший Тебя. – Но много ли таких, как Ты? И неужели Ты, в самом деле, мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтобы отвергнуть чудо и оставаться лишь со свободным решением сердца? – Ты понадеялся, что, следуя Тебе, и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но Ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. – Ты не сошел с креста, когда кричали Тебе, издеваясь и дразня Тебя: „Сойди с креста, и уверуем, что это Ты“. Ты не сошел, потому что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника перед могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут Ты судил о людях слишком высоко… И чем виноваты слабые люди, что не могли вытерпеть?.. Чем виновата слабая душа, что не могла вместить столь страшных даров. Да неужто же и впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных?.. Свобода Твоя, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят их перед такими чудами и неразрушимыми тайнами, что приползут они к ногам нашим и возопиют: «Спасите нас от себя самих».
Вот одна из двух бездн, бездна верхняя, бездна духа – человеческая свобода, противопоставленная божеской любви; мистическая невозможность, противопоставленная реальной необходимости чуда. Великий Инквизитор соблазнительно умалчивает о чудесах Евангельских, принятых не только Западною, но и Восточною православною церковью, и о главном из них, о том, без которого вся «вера наша тщетна» – о чуде воскресения. Христос отверг предложенное дьяволом чудо полета; но отверг его только «до времени»; когда же наступило время, принял это же самое чудо, уже не от дьявола, а от Бога: «бросился вниз», в глубочайшую из всех бездн, в бездну смерти, и не упал, не разбился, а перелетел через нее, вознесся над нею, в силе и славе. – Ну, а что, если все-таки не перелетел – упал и «разбился о ту самую землю, которую пришел спасать»? Что значит этот «труп человека», – это «лицо, страшно разбитое ударами, вспухшее, со страшными, вспухшими и окровавленными синяками», эти «открытые глаза», «скосившиеся зрачки», «большие, открытые белки глаз, блещущие каким-то мертвенным стеклянным отблеском»? «Как могли они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет?» Вот главное сомнение Кириллова, которое доводит его до безумия: «не оправдалось сказанное… А если так, если законы природы не пожалели и Этого, даже чудо свое не пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и дьяволов водевиль». И природа мерещится в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя, или в виде какой-нибудь громадной машины, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя великое и бесценное Существо. И Бог, Бог-Отец, покинувший Сына Своего («Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?») – в виде «какого-то огромного и отвратительного Тарантула» или ужасного Механика этой ужасной машины. Вот противоположная верхней бездне духа и свободы – бездна плоти и необходимости, зияющая пасть Зверя, разверзшееся «чрево мира», откуда выходит и куда возвращается все.
Противоположность этих двух бездн, противоречие божеской любви и человеческой свободы, мистической необходимости и реальной невозможности чуда – это неразрешимое для религиозного сознания Достоевского противоречие мучило его всю жизнь, отразилось на всех его произведениях – но с величайшею силою на величайшем, последнем из них, на «Братьях Карамазовых», на мыслях и чувствах, переживаемых главным героем Алешею, по поводу «тлетворного духа», когда усопший старец Зосима «предупредил естество в тлении», или, по циническому слову нигилиста Ракитина, «провонял».
«Не чудес ему нужно было, а лишь „высшей справедливости“, которая была, по верованию его, нарушена… За что? Кто судил? Кто мог так рассудить – вот вопросы, которые тотчас же измучили сердце его… Ну, и пусть бы не было чудес вовсе, – но зачем же объявилось бесславие, зачем попустился позор, зачем это поспешное тление, «предупредившее естество», как говорили злобные монахи? Где же Провидение и перст Его? К чему сокрыло Оно свой перст «в самую нужную минуту» (думал Алеша) и как бы Само захотело подчинить Себя слепым, немым, безжалостным законам естественным?» – законам необходимости, жестоким, как то «железо», в котором толстовский мужичок делает свое страшное дело над всякою живою и мертвою плотью: «il faut le battre, le broyer, le pеtrir».
Это сомнение Алеши не есть отвлеченная мысль, а уничтожающая боль, которая вдруг пронизывает все существо его, оружие, проходящее душу: всею тленностью состава своего человек вдруг чувствует невозможность нетления; всею смертною тяжестью тела своего – невозможность полета над бездною смерти. Алеша, может быть, первый из людей пережил снова ту единственную, никогда никем на земле не испытанную тоску, которую девятнадцать веков назад переживали ученики Господни, там, на Голгофе, у подножия креста, при взгляде на «труп измученного Человека». Из-за трупного запаха над гробом старца Зосимы слышится Алеше иной, еще более ужасный, «тлетворный дух», веющий сквозь все благоухания Жен-мироносиц. Сняты покровы, коими века обвили, как плащаницею, это мертвое Тело, – и вот опять лежит Он перед нами в страшной наготе своей. И бесстыдный обман кажется бесстыдною правдою: «собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: „Господин! мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну; – итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, пришедши ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых. И будет последний обман хуже первого“ (Матфея, XXVII, 62–64). Из-за чувств и мыслей Алеши по поводу „тлетворного духа“ подымается с такою силою, как, может быть, нигде, никогда, за все девятнадцать веков христианства, вопрос о самом его существовании, вопрос Ницше и Достоевского; «Кто это был? что это было». Во время великого отступления, которое только что пережило европейское человечество, Христос как бы снова умер на кресте, и чудо воскресения должно совершиться снова; теперь, как и тогда, чудо это, прежде, чем в гробу, совершится в сердце человеческом. В сердце Алеши Достоевский и подслушал первое, самое таинственное рождение самого таинственного из чудес – первое во гробе движение воскресающей плоти.
«Кана Галилейская» есть ответ на вопрос последних пяти веков отступления от Христа – о «тлетворном духе».
Перед самою развязкою – тою последнею ссорою с Вронским, после которой Анна решается на самоубийство – пророческое сновидение приобретает свою окончательную определенность. «Страшный кошмар, несколько раз повторявшийся ей в сновидениях еще до связи с Вронским, представился ей опять и разбудил ее. Старичок с взлохмаченною бородой что-то делал над железом, приговаривая бессмысленные французские слова, а она, как и всегда при этом кошмаре (что и составляло его ужас), чувствовала, что мужичок этот не обращает на нее внимания, но делает это страшное дело в железе – над нею». И в последний раз сверхъестественное соприкасается с естественным, сон – с явью; одно входит в другое, одно соединяется с другим – и оба мира становятся взаимно-прозрачными, символическими. Когда, после отчаянной и беспощадной попытки примирения, Анна уезжает и садится в вагон, за несколько минут до смерти, уже со смертью в душе: «Все неправда, все ложь, все обман, все зло!..» – «испачканный, уродливый мужик в фуражке, из-под которой торчали спутанные волосы, прошел мимо окна вагона, нагибаясь к колесам». «Что-то знакомое в этом безобразном мужике», – подумала Анна. И, вспомнив свой сон, она, дрожа от страха, отошла к противоположной двери. Это уже сон въяве, страшный сон, сделавшийся еще более страшною явью. В полусознании, сама не понимая, куда идет, что делает, Анна выходит на станции. «Боже мой, куда мне?» – все дальше и дальше уходя по платформе, думала она. – Подходил товарный поезд. Платформа затряслась, и ей показалось, что она едет опять. И вдруг, вспомнив раздавленного человека в день ее первой встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать. – Она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона. И ровно в ту минуту, как середина между колесами поровнялась с нею, она, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки, и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колени. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что сделала. «Где я? Что я делаю? Зачем?» Она хотела подняться, откинуться; но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину. «Господи, прости мне все!» – проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом».
Мужичок вырос до исполинских размеров и предстал ей в последний раз, как «неимоверное видение», которым кончается все, которое воплотило для нее смысл всей ее жизни, всей жизни мира, соединило явь этой жизни с последним сном. В смерти окончил таинственный мужичок то, что начал в жизни любви, сладострастии: сделал-таки свое страшное дело над нею в железе, в железе беспощадных законов природы, – законов необходимости. Он кажется жестоким, как железо, которое давит и режет живое тело; но ведь и Вронский, когда ласкает ее, покрывает поцелуями ее лицо и плечи, кажется жестоким, страшным; он тоже похож на зверя или убийцу, который тащит и режет окровавленное тело. «Я вас истреблю!» – говорит у Достоевского любящий возлюбленной. «Чуть достиг удовлетворения, является желание истребить, раздавить». – «Надо его бить, раздавить, размозжить» – «il faut le battre, le broyer, le pеtrir»; звук жестокого железа в оргийной буре сладострастия, в этой симфонии мира, сливается со звуком самых нежных человеческих слов. Теперь только, в смерти, Анна поняла, что значил пророческий сон ее жизни: «Все неправда, все обман, все ложь, все зло». И добро есть зло, и любовь есть ненависть, и сладострастие есть жестокость. Нет Бога, нет Отца: Бог не «Он», а Оно – то «огромное, неумолимое», что «толкнуло ее в голову и потащило за спину» под колеса железной «машины». У такого Бога нет милосердия, а есть только железный закон правосудия, закон необходимости: «Мне отмщение, Аз воздам». Призрак «Ветхого деньми», христианский призрак до-христианского Бога и есть этот маленький Старичок со взлохмаченной бородой, который вечно работает над железом какой-то «громадной машины», «делает свое страшное дело в железе», над всякою «дышащею, любящею» плотью: «Надо ее бить, раздавить, размозжить». – «Отчего одеяние Твое красно и ризы Твои, как у топтавшего в точиле?» – «Я топтал точило один. Я топтал народы во гневе Моем, и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое» (Исаии, гл. LXIII, 2–3). «Бог – получеловек, получудовище», – говорит Л. Толстой об этом именно видении, провидении Бога, до-христианского в самом христианстве. «Природа, – говорит один из героев Достоевского, – мерещится в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила, поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное Существо – такое, которое одно стоило всей природы и всех законов ее – то есть Сына Божьего. Бог есть «первый двигатель» этой машины. «Я помню, что кто-то, будто бы, повел меня за руку, со свечкой в руках, показал мне какого-то огромного и отвратительного тарантула и стал уверять, что это то самое темное, глухое и всесильное Существо, и смеялся над моим негодованием». Когда, при последней вспышке свечи, которая должна потухнуть, Анна заглянула, наконец, в лицо своего безобразного Мужичка и, может быть, увидела то, что страшнее всякого лица человеческого или божеского – нечто безликое, серое, как железо, шершавое, паучье, – то не поняла ли она, что это и есть Оно – Чудовище, темное, глухое и немое, похожее на огромного «тарантула», Бог-Зверь, Бог-Дьявол? Мы видели, что в другом, равно великом произведении Л. Толстого, в «Войне и мире», является тот же самый призрак до-христианского Бога, попирающего народы в ярости Своей, обрызганного кровью мщения; мы видели Его в конце Бородинского сражения, над кровавою бойнею народов, которые устали истреблять друг друга, но не могут остановиться, потому что «какая-то непонятная, таинственная сила еще продолжает руководить ими… И ядра так же быстро и жестоко перелетали с обеих сторон и расплюскивали человеческое тело, и продолжало совершаться то страшное дело, которое совершается не по воле людей, а по воле Того, Кто руководит людьми и мирами». Чугунные ядра точно так же расплющивают тело солдат, как чугунные колеса – тело Анны.
Когда умирающий Иван Ильич «просовывается в черный, узкий мешок» и никак не может просунуться, – «вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то». Точно так же и Анну, когда она хотела «подняться, откинуться от колес вагона», вдруг «что-то неумолимое толкнуло в голову и потащило за спину». – «Боже, прости мне все», – сказала Анна. «Пропусти» вместо «прости», – говорит Иван Ильич. «Пропусти без суда Твоего!» – молится и Дмитрий Карамазов: «без суда», помимо суда, помимо железного закона отмщения и воздаяния. Когда Анна «провалилась в дыру», когда свеча навсегда «потухла», то, может быть, и для нее так же, как для Ивана Ильича, «там, в конце дыры, засветилось что-то» – уже не тусклый свет свечи, а новый, невечерний, не мерцающий свет. Может быть, и для нее «вместо смерти был свет». Может быть, и она сказала себе: «Где она? Какая смерть?» Страха никакого не было, потому что и смерти не было. «Так вот что!.. Какая радость». И при этом-то свете лицо страшного Старичка преобразилось, просветлело, сделалось родным, знакомым, любящим, лицом доброго, простого Старичка «с белой бородой», которому молилась она в детстве: «Отче наш». – «Боже, прости мне все!» И Он ее простил. Сказал ей, не как жестокий «Хозяин» – христианский старец Аким, для которого во всякой плоти есть нечто проклятое: «Мне отмщение, Аз воздам», а как Отец – Своей дочери, Им же созданной плоти, как великий «язычник», дядя Ерошка, благословляющий всякую живую плоть, всякую «Божью тварь»: «ни в чем греха нет. Все Бог сделал на радость человеку» – и тогда, может быть, заглянув уже бесстрашно в лик Отчий, узнала она в нем Сыновний лик, лик Второго Пришествия, славный, сияющий, как солнце, – лик Господа.
И сказал ей Господь, как некогда жене, «взятой в прелюбодеянии»:
– Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?
– Никто, Господи.
– И Я не осуждаю тебя.
«Когда книжники и фарисеи привели к Иисусу женщину, взятую в прелюбодеянии, и сказали Ему, искушая Его: Учитель! Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? – Тогда Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. – И опять, наклонившись низко, писал на земле. – Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди».
Женщина, стоящая посреди, это – Анна Каренина. Но, по-видимому, у нас, «христиан», совесть бесстрашнее, чем у фарисеев. Мы твердо держим камень и все еще готовы бросить его. Именно так, то есть как совершение Ветхого закона, понята была эта трагедия всеми нами, «от старших до последних», кажется, так понята была она и самим Толстым, даже самим Достоевским. Но почему же Тот, Кому принадлежит отмщение и воздаяние, Кто один «без греха», почему, не глядя нам в очи, как бы стыдясь увидеть тайну совести нашей, «наклонившись низко, что-то пишет перстом на земле». Что пишет Он? Какое слово? Не слово ли последней любви и последней свободы о тайне пола преображенного, о тайне святого целомудрия и святого сладострастия? В Евангелии нет этого слова, единственного, не сказанного им, а написанного, никем не прочтено оно, навсегда забыто, стерто с земли, развеяно пустынным ветром почти двух тысячелетий скопческого и прелюбодейного христианства. «Кто может вместить, да вместит». Но «слово Мое в вас не вмещается». Кажется, именно это слово о старом грехе, о новой святости пола всего менее вмещается в нас. – «Вы теперь не можете вместить; когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Не потому ли эта скорбь осталась неутешенной, эта истина – незавершенною первым Пришествием, что Духу-Утешителю, ведущему нас от первого ко второму Пришествию, предстоит утешить нас от этой скорби, возвестить нам эту истину? Во всяком случае, недаром же самая глубокая мысль двух величайших русских писателей, искавших дерзновеннее чем кто-либо, новой религии, два самые пророческие видения, обоих – Старичок Л. Толстого, Тарантул Достоевского, – устремлены именно в эту сторону – к тайне пола: как будто они предчувствовали, что от вмещения этого слова Господня, главным образом, и зависит вся будущность христианства.
Смерть Анны не случайно противопоставлена художником родам Кити: и здесь, И там, и в смерти, и в рождении, одинаково приподымаются все «покровы», завеса плоти и крови над тем, что за плотью и кровью.
Когда, в самом начале родов, при первом приступе болей, муж Кити, Левин, смотрит на «зарумянившееся лицо ее», которое «сияет радостью и решимостью», он «поражен тем, что обнажается теперь, когда вдруг все покровы сняты, и самое ядро ее души светится перед ним». «Кити страдала и как будто жаловалась ему на свои страданья. И ему в первую минуту по привычке показалось, что он виноват». – «Если не я, то кто же виноват в этом?» – невольно подумал он, отыскивая виновника этих страданий, чтобы наказать его; но виновника не было. Кому же «отмщение», кто «воздаст»? Левин этого «не мог понять», «это было выше его понимания».
Глубже, чем Левин, задумался над этою странною «виною» Позднышев. Описывая «мерзость медового месяца», говорит он, между прочим: «Неловко, стыдно, гадко, жалко и, главное, скучно, до невозможности скучно… Надо, чтобы супруг воспитал в жене этот порок для того, чтобы получить от него наслаждение.
– Как порок? Ведь вы говорите о самом естественном человеческом свойстве.
– Естественном? – сказал он. – Естественном? Нет, я скажу вам напротив, что я пришел к убеждению, что это не… естественно. Да, совершенно, не… естественно. Спросите у детей, спросите у неразвращенной девушки.
Вы говорите: естественно!
Естественно есть, и есть радостно, легко, приятно и не стыдно с самого начала; здесь же и мерзко, и стыдно, и больно. Нет, это неестественно! И девушка неиспорченная, я убедился, всегда ненавидит это.
– Как же продолжался бы род человеческий?
– Зачем ему продолжаться, роду-то человеческому?
– Как зачем? Иначе бы нас не было.
– Да зачем нам быть?
– Как зачем? Да чтобы жить.
– А жить зачем?.. Если есть цель жизни, то ясно, что жизнь должна прекратиться, когда достигается цель… Если цель человечества благо, добро, любовь, то ведь достижению этой цели мешает что? Мешают страсти. Из страстей самая сильная и злая, и упорная – половая, плотская любовь, и потому, если уничтожатся страсти, и последняя, самая сильная из них, плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему незачем будет жить». – «Я думаю, – говорит у Достоевского Кириллов по поводу минут „вечной гармонии“, – я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коль цель достигнута? В Евангелии сказано, что в воскресении не будут родить, а будут, как ангелы Божии».
Так вот откуда, из каких религиозных глубин идет это чувство вины, преступности, которое испытывает Левин. Брак его с Кити – истинное таинство, освященное церковью, благословенное Самим Господом. Когда Кити стоит перед алтарем в подвенечном уборе, она «чистейшей прелести чистейший образец». Но ведь вот совершится же и над нею уже вне церкви, как будто помимо церкви, нечто, по мнению Позднышева, «стыдное, мерзкое, свиное», и даже «не естественное», нечто, как будто действительно похожее на самое жестокое насилье, на убийство, – то, что, может быть, недаром самою природою отмечено кровью. Белые одежды девственницы запятнаются кровью. Наступит такое мгновение и для добрейшего, добродетельнейшего Левина, когда он вдруг сделается, по крайней мере, в глазах циника Позднышева, похожим на «убийцу», который «режет и тащит» убитое тело, или на того человека-зверя, который у Достоевского говорит любимой женщине: «Я вас истреблю!» Вот уже почти два тысячелетия, как мы закрываем на это глаза, стараемся об этом не думать, не говорить, пройти мимо этого. Но не видеть этого нельзя; уже все «покровы» сняты: рано или поздно мы должны будем либо отречься от всякой крови, либо освятить до конца и эту все еще не святую кровь. Вот в этой-то недостаточной, «не вмещенной» нами святости плотского, кровного соединения («вы теперь еще не можете вместить») и зародилось то чувство вины, преступности, отнюдь не реального, но нравственного порядка, которое впоследствии перед болями рожающей Кити испытывает Левин, и которое заставит Позднышева кощунствовать – видеть только мерзость запустения на святом месте пола. Все считают Анну Каренину, она сама себя считает виноватою какой-то страшною виною; но, может быть, и ее вина, как вина Левина перед Кити, тоже вовсе не реального, нравственного, а какого-то высшего, сверх-нравственного порядка, «какой-то первородный грех» всей рождаемой и рождающей твари, – грех, не искупимый никаким человеческим и уже искупленный божеским искуплением – «кровью Агнца»? Религиозное сознание современного человечества против Анны за Левина. Но если бы оно было и за нее, то, может быть, это, связанное с полом, чувство мистической вины, преступного, преступающего за все пределы жизни, не отдалило бы и ее, Анну, от Бога, а устремило бы к нему, точно так же, как Левина.
«Боже, прости мне все!» – молится она перед смертью. «Господи, помилуй! прости, помоги!» – молится и Левин перед родами Кити. «И он, неверующий человек, – говорит Л. Толстой, – повторял эти слова не одними устами. Теперь, в эту минуту, он знал, что все не только сомнения его, но та невозможность по разуму верить, которую он знал в себе, нисколько не мешают ему обращаться к Богу. Все это теперь, как прах, слетело с его души. К кому же ему было обращаться, как не к Тому, в Чьих руках он чувствовал себя, свою душу и свою любовь?» Невинно виноватый Левин мог бы теперь точно так же молиться, как «преступный» Дмитрий Карамазов: «Господи, не суди меня. Пропусти мимо, без суда Твоего!» Без суда – ибо, что здесь, в тайне зачатия и рождения, совершается, – выше всякого, даже Твоего суда, всякого «отмщения» и «воздаяния».
Может быть, впрочем, и здесь совершается какое-то таинственное «отмщение» за какую-то таинственную вину; но и эта вина, и это отмщение с человеческою нравственностью, с человеческим злом и добром несоизмеримы.
«Вдруг раздался крик, ни на что не похожий. Крик был так страшен, что Левин даже не вскочил, но, не переводя дыхания, испуганно-вопросительно посмотрел на доктора. – Прислонившись головой к притолке, он стоял в соседней комнате и слышал чей-то, никогда не слыханный им визг, рев, и он знал, что это кричало то, что прежде было Кити».
Это живая плоть визжит, ревет под жестоким железом вечного «Старичка»; это он «работает над железом», «не обращая на нее внимания, делает свое страшное дело в железе над нею», над рожающею Кити, так же, как над умирающею Анною: il faut le battre, le broyer, le pеtrir. Как будто и здесь – сладострастная жестокость, желание «истребить, раздавить». И не мерещится ли природа, при взгляде на эти безобразные муки, как мерещилась она Достоевскому, «в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя, или в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя существо человеческое и, вместо живой плоти, вместо лица, выбросила только «раздавленное тело», «мясо», что-то страшное, близкое: «лица Кити не было. На том месте, где оно было прежде, было что-то страшное и по виду напряжения, и по звуку, выходившему оттуда. Левин припал головой к дереву кровати, чувствуя, что сердце его разрывается». И здесь, как в бреду князя Андрея, «за дверью стоит оно; это что-то ужасное, уже надавливая с другой стороны, ломится в дверь. Что-то нечеловеческое, смерть ломится в дверь, и надо удержать ее. Но силы слабы… Еще раз оно надавило оттуда. Последние сверхъестественные усилия тщетны, обе половинки отворились беззвучно. Оно вошло». И оно есть смерть? Нет, не смерть. «Ужасный крик» рождающей Кити, «как бы дойдя до последнего предела ужаса, вдруг затих. Левин не верил своему слуху, но нельзя было сомневаться: крик затих, и слышалась тихая, суетная шелесть и торопливые дыхания, и ее прерывающийся, живой и нежный, счастливый голос тихо произнес: „Кончено“. И вдруг, из того таинственного и ужасного, нездешнего мира, в котором он жил эти двадцать два часа, Левин мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний, обычный мир, но сияющий теперь таким новым светом счастья, что он не перенес его. Рыдания и слезы радости поднялись в нем». – «Так вот что! Какая радость!» – мог бы воскликнуть и он, подобно Ивану Ильичу, когда тот провалился в «дыру», и «там, в самом конце дыры, засветилось что-то». Когда «ложесна» Кити разверзлись, и крик затих, когда «обе половинки двери распахнулись беззвучно», то оно вышло оттуда, – и оно не смерть, а новая жизнь, новый свет. Свеча жизни для Кити и Левина, так же как для Анны «вспыхнула более ярким светом, чем когда-либо, озаряя все, что было во мраке», и зажгла новую свечу. «Там в ногах постели, в ловких руках Лизаветы Петровны (повивальной бабки), как огонек над светильником, колебалась жизнь человеческого существа, которого никогда прежде не было, и которое так же, с тем же правом, с тою же значительностью для себя, будет жить и плодить себе подобных». – «Вместо смерти был свет». – «Кончено», – тихо произнес счастливый голос матери. Кончено страшное дело Старичка в железе над живою плотью; и дело это здесь, в рождении, так же как там, в смерти, оказалось благим, святым, радостным. И здесь, как там, жестокое железо необходимости, достигнув последней жестокости, вдруг умягчилось, развеялось, как веяние последней тишины и свободы, как «тихая суетная шелесть» и «торопливые дыхания» любящих, как живой и нежный голос матери: «Кончено». Недаром Левин, подобно Анне и Дмитрию Карамазову, молился: «Господи, помоги, прости, пропусти мимо, без суда Твоего». И здесь, в рождении, так же, как там, в смерти, страшный Старичок оказался Богом-Отцом, Тем самым, к которому Левин во времена детства обращался доверчиво и просто. Нет вины, нет преступления. «Ни в чем греха нет». Бог не проклинает соединения плоти с плотью, подобно христианскому старцу Акиму или Позднышеву: «Люди, перестаньте быть свиньями, или я вас истреблю, и вы превратитесь в кусок разлагающейся плоти под железным законом моего правосудия»; – а подобно дяде Ерошке благословляет всякую живую, дышащую, любящую плоть, всякую «Божью тварь». «Все Бог создал на радость человеку».
Да, «все покровы сняты», и в обнажившейся последней глубине плоти и крови, «там, в самом конце дыры, засветилось что-то»: засветилось за кажущеюся противоположностью действительное единство тайны рождения и тайны смерти.
Во время родов Кити Левин «знал и чувствовал, что то, что совершалось, было подобно тому, что совершалось год тому назад на одре смерти брата Николая». Мы могли бы прибавить: и в смерти князя Андрея, и в смерти Ивана Ильича, и в смерти Анны Карениной, и вообще во всякой смерти. «Но то (смерть) было горе, это (рождение) была радость. Но и то горе, и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни, были в этой обычной жизни, как будто отверстия, сквозь которые показывалось что-то высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и одинаково непостижимо, при созерцании этого высшего, подымалась душа на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде, и куда рассудок уже не поспевал за нею». Смерть и рождение – два «отверстия» или, говоря позднейшим, толстовским, как будто циническим, на самом деле, бесконечно-целомудренным языком – «две дыры» в завесе плоти и крови, сквозь которые «одинаково», то есть в своем последнем соединении, символе, «показывается что-то высшее», чем рождение и смерть. Именно здесь, в сияющей точке пола, как в своем оптическом фокусе, пересекаются, скрещиваются все противоположные лучи верхнего и нижнего неба, двух половин мира, двух полумиров.
Когда Левин, уже после родов, подходит к Кити, она «встречает его взглядом, – взглядом притягивает к себе. Взгляд ее, и так светлый, еще более светлел, по мере того, как он приближался к ней. На ее лице была та самая перемена от земного к неземному, которая бывает на лице покойников; но там прощание, здесь встреча». Взгляд рождающей Кити совершенно подобен и совершенно противоположен, как полюс полюсу, взгляду умирающего князя Андрея. «Они обе (сестра и невеста князя) видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно, опускался от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть, и что это хорошо».
«– Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: «Да, это правда, это хорошо», – описывает Кириллов минуту «вечной гармонии». Князь Андрей опускается куда-то туда, в какую-то «дыру», в какое-то отверзшееся «чрево мира». И когда сквозь отверзшиеся ложесна Кити выходит новая жизнь, новый свет жизни, что-то опять-таки «опускается», но уже в обратном движении – оттуда сюда, из того же самого «чрева мира», – в здешний мир. И опять: «это правда, это хорошо». «Тут чревом любишь, – говорит Иван Карамазов о своей любви к плоти и крови. – И это прекрасно, это хорошо, – отвечает Алеша. – Одна половина твоего дела сделана, теперь надо постараться тебе о второй твоей половине, и ты спасен». Все равно, куда бы ни шли мы – оттуда или сюда – из второй ли половины в первую, или из первой во вторую, в чрево, или из чрева мира, это одинаково хорошо, мы идем не по двум разным путям, а по одному и тому же пути в две противоположные стороны, совершая вечный круг, от Бога к Богу. Рождение и смерть – одно, Вифлеем и Голгофа – одно, Отец и Сын – одно. Но ведь это и есть глубочайшая, хотя все еще сокровенная, «не вмещенная» нами, тайна Христова. «Ибо Он, по слову апостола Павла (к Ефесянам, II, 14–15), есть мир наш (мир, то есть примирение, соединение, Символ), соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, дабы из двух создать в Себе Самом одного – и в одном теле примирить обоих с Богом». Вот к этой-то тайне последнего соединения, тайне святой Плоти, святой Крови и прикоснулся ясновидец плоти, Л. Толстой, именно здесь, в величайшем своем создании, в Анне Карениной – в сопоставлении смерти Анны и родов Кити; здесь бессознательно приобщился он страшных тайн Христовых, может быть, в большей мере, чем даже ясновидец духа, Достоевский, в своем полном сознании. Здесь уже действительно «все покровы сняты», «преграда, стоявшая посреди, разрушена», обнажены оба полюса мира – «концы обнажены», и, кажется, вот-вот
Концы концов коснутся,
Проснутся «да» и «нет»,
И «да» и «нет» сольются,
И смерть их будет Свет, —
свет «неимоверного видения», которым кончается все, видение Савла по пути в Дамаск: «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба; он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Сауле, Сауле, что Мя гониши? жестоко ти есть противу рожна прати“. И Л. Толстому, уже „дышавшему угрозами и убийствами“ ветхозаветными, уже по пути в Дамаск бесплотного и бескровного «обрезанного» христианства, предстало, как Савлу, видение Плоти и Крови в Анне Карениной. В рождении и в смерти услышал он один и тот же голос, говоривший ему: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?» Если бы узнал он Того, Кто с ним говорил тогда, и действительно обратился бы к Нему, то стал бы христианином, может быть, большим, чем Достоевский – одним из великих апостолов, Павлом нового христианства. Почему же он не узнал Христа? Почему не только ослеп от осиявшего его света, но так и остался слепым, не прозрел, как Савл? Что за пелена застилает и доныне от этих глаз ясновидящего то единственное, что ему всего нужнее видеть? Почему и доныне, как это ни «трудно», ни «жестоко» ему, Л. Толстой «прет противу рожна» своей же собственной, единственно подлинной святыни – святой Плоти и Крови?
«В детстве, лет семи или восьми, Лев Николаевич возымел страстное желание полетать в воздухе, – рассказывается в одном из толстовских „житий“. – Он вообразил, что это вполне возможно, если сесть на корточки и обнять руками свои колени, при этом, чем сильнее сжимать колени, тем выше можно полететь. Мысль эта долго не давала ему покою, и, наконец, он решился привести ее в исполнение. Он заперся в классную комнату, взлез на окно и в точности исполнил все задуманное. Он упал с окна на землю с высоты около двух с половиною сажен и отшиб себе ноги и не мог встать» («Воспоминания» С. А. Берс).
Мы, взрослые, презираем детские мысли; но, может быть, дети еще не знают, помнят кое-что, о чем забыли взрослые; может быть, и в этой детской мысли Льва Николаевича о полете, которая едва не стоила ему жизни, сказывается нечто глубокое, предзнаменующее для всей его жизни? Если так, то тут прежде всего любопытна безграничная вера в себя, в свою способность гениальных открытий и какая-то отчаянная преданность мечте о самом невозможном, – преданность, доходящая до мгновенного безумия, ибо подобное смешение реального с чудесным, естественного со сверхъестественным, есть что-то большее, чем простая глупость, даже для семилетнего ребенка: это уж какой-то бред, чуть прорастающее семя какого-то безумия. В этом сне наяву о крыльях (все мы летали во сне) не сказывается ли какая-то очень темная, мистическая черта, свойственная природе человеческой вообще: притяжение бездны, соблазн крыльев, искушение чудом полета, – может быть, смутная мечта о той самой «физической перемене» людей и законов природы, которой бредит Кириллов у Достоевского, и о которой пророчествует апостол: «Не все мы умрем, но все мы изменимся скоро, во мгновение ока», – самое страшное и таинственное искушение Господа Дьяволом: «поставил Его на крыле храма и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз». Замечательно, что именно в то время, когда все три искушения пробудились вновь, и вновь борьба Дьявола с Богом загорелась в человечестве с еще небывалою силою – во время Итальянского Возрождения – у человека, внутренне стоявшего ближе всех к этой борьбе, у Того, Кто в Тайной Вечере дал людям совершеннейший лик Господа – у Леонардо-да-Винчи является эта же искусительная мечта о полете, о крыльях человеческих: дневники Леонардо полны вычислениями и чертежами летательной машины; при тогдашнем состоянии механики это была самая невозможная, дерзкая и даже как бы детская мысль, что-то вроде желания Левушки лететь «на корточках»; и, однако, всю жизнь этого предтечу Галилея и Бэкона, точнейший из математических умов, преследует «неимоверное видение» «Лебедя», «великой Птицы», «grande uccello», крылатого «сверх-человека». Но, может быть, еще более замечательно то, что и с противоположной стороны, в глубинах Востока, в аскетическом христианстве возникает подобное же видение: из византийской иконописи переходит в древнерусскую и здесь достигает огромных, апокалипсических размеров, образ крылатого человека, Иоанна Предтечи Крылатого. И, наконец, по преданию Церкви, величайшее последнее чудо и знамение Антихриста, то чудо, после которого он будет уничтожен «дыханием уст Господних», – есть чудо полета.
Сказавшееся в детской мечте Льва Николаевича искушение бездною повторяется отчасти и в другом, столь же вещем сне его, который приснился ему уже на пороге старости, в самое роковое мгновение совершавшегося в нем религиозного переворота, и который окончательно, в его собственных глазах, определил мистический смысл этого переворота. Вот как рассказывает он сам в «Исповеди» об этом сновидении:
«Вижу я, что лежу на постели, на плетеных веревочных помочах, прикрепленных к бочинам кровати. Мне неловко, я двигаюсь и соскальзываю с этих помочей. Весь низ моего тела спускается и висит, ноги не достают до земли. Я держусь только верхом спины, и мне становится не только неловко, но отчего-то жутко. Тут только я спрашиваю себя: где я и на чем я лежу? И начинаю оглядываться, и прежде всего гляжу вниз, туда, куда свисло мое тело, и куда, я чувствую, что должен упасть сейчас. Я гляжу вниз и не верю своим глазам: не то, что я на высоте, подобной высоте высочайшей богини или горы, а я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе. – Я не могу даже разобрать, вижу ли я что-нибудь там, внизу, в той бездонной пропасти, над которой я вишу и куда меня тянет. Сердце сжимается, и я испытываю ужас. Смотреть туда ужасно. Если я буду смотреть туда, я чувствую, что я сейчас соскользну с последней помочи и погибну. Я не смотрю; но не смотреть еще хуже, потому что я думаю о том, что будет со мной сейчас, когда я сорвусь с последней помочи. И я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно скольжу по спине ниже и ниже. Еще мгновение – и я оторвусь. И тогда приходит мне мысль: не может это быть правда. Это сон. Проснись. – Я пытаюсь проснуться и не могу. – Что же делать, что же делать? – спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу, и действительно я забываю. Бесконечность внизу отталкивает меня и ужасает; бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я также вишу на последних, не выскочивших из-под меня помочах над пропастью; я знаю, что я вишу, но я смотрю только вверх – и страх мой пропадает. – И я гляжу все дальше и дальше, в бесконечность, вверх. – И я спрашиваю себя: ну, а теперь что же, – я все так же? – И я не столько оглядываюсь, сколько всем телом своим испытываю ту точку опоры, на которой я держусь. И вижу, что я уже не вишу и не падаю, а держусь крепко. Я спрашиваю себя, как я держусь, ощупываюсь, оглядываюсь, и вижу, что подо мной, под серединой моего тела – одна помоча, и что, глядя вверх, я лежу на ней в самом устойчивом равновесии; что она одна и держала прежде. И тут, как это бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, – очень естественным, понятным и несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет никакого смысла. Я во сне даже удивляюсь, как я не понимал этого раньше: оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твердость этого столба не подлежит никакому сомнению, несмотря на то, что стоять этому тонкому столбу не на чем; потом от столба проведена петля, как-то очень хитро и вместе просто, и если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении. Все это мне было ясно, и я был рад и спокоен. И как будто кто-то мне говорил: смотри же, запомни. – И я проснулся».
Этот вещий сон исполнился, как мы видели, с поразительною точностью в дальнейших религиозных судьбах Л. Толстого: «христианство» его оказалось не живым открылением, не вольным полетом, о котором мечтал он в детстве, а именно только «механизмом» неподвижного равновесия, то есть чем-то машинным, автоматическим, мертвенным и притом самоубийственным и самообманным: для того, чтобы «механизм» этот действовал, надо умертвить целую половину своего религиозного зрения – глядеть только вверх, видеть только верхнюю, исключительно будто бы христианскую бездну духа, закрывая глаза на нижнюю, исключительно будто бы языческую бездну плоти; мало того – уже заглянув нечаянно в эту нижнюю бездну, уже увидев, что она совершенно равна верхней, что она – такая же «бесконечность», надо все-таки себя обманывать, утверждая, будто бы она вовсе не бездна, а только яма, – что-то смрадное, грязное, гадкое, смешное, «свиное». Да весь этот «механизм», вся эта евангельская машина – неподвижный столб и петля, прикрепленная к столбу – до ужаса напоминают виселицу: вместо крылатого, летящего над бездною, оказался только повешенный. Если бы маленькому русскому Икару – Левушке предложили такой «механизм» вместо крыльев и такое висение вместо полета, то он отверг бы дар этот с отвращением и ужасом, предпочел бы сразу упасть и разбиться. Ребенком наяву Лев Николаевич был храбрее, чем взрослым во сне. Будь он столь же храбр во сне, как наяву, то понял бы, что последняя из ослабевших под ним «помочей», то есть бессознательное христианство, не может его спасти, что, напротив, она-то и губит его; он сделал бы последнее усилие, чтобы освободиться от нее, и жалкая полуистлевшая веревка не оказалась бы тою мертвою петлею, в которой он удавился, – он бы сорвался с нее, упал, полетел. И тогда, может быть, совершилось бы чудо, то самое чудо полета, о котором в детстве, да и потом, кажется, всю жизнь мечтал он бессознательно. Тогда понял бы он, что казавшееся ему гибелью было единственным спасением. Почувствовал бы вдруг, что за плечами его выросли два крыла, которые несут его между двойною бездною, и что ему уже нечего бояться, потому что
Небо – вверху, небо – внизу,
Звезды вверху, звезды внизу,
Все, что вверху, – все и внизу.
Ужас падения сделался бы восторгом полета; он окончательно проснулся бы, прозрел и увидел, что бесконечность верхняя и нижняя – не два, а одно, дух и плоть – одно, Сын и Отец – одно. И окончательно победил бы он свой противоположный сон, привидение старого языческого Бога-Зверя, страшного подземного «Старичка», который «работает в железе», победил бы сверхъестественною свободою и легкостью полета этого дьявола «земной тяги», земной тяжести – рабства железным законам естественной необходимости. И открылась бы ему последняя истина, последняя свобода Христа («познаете истину и истина сделает вас свободными». Иоанна, VIII, 32), которая – сверх добра и зла, которая есть последнее соединение двух бесконечностей. И вместо «повешенного», мертвого старца Акима, явился бы воистину воскресший, преображенный дядя Ерошка – «полной славой тверди звездной отовсюду окруженный», «Лебедь» – русская «великая Птица», летящая к будущему – русский Крылатый Предтеча Второго Пришествия.
«Когда страшный и премудрый дух поставил Тебя на вершине храма и сказал Тебе: „Если хочешь узнать, Сын ли Ты Божий, то верзись вниз, ибо сказано про Того, что ангелы подхватят и понесут его, и не упадет, и не расшибется, – и узнаешь тогда, Сын ли Ты Божий, и докажешь тогда, какова вера Твоя в Отца Твоего“; Ты, выслушав предложение, отверг его и не поддался, и не бросился вниз». – Это у Достоевского говорит Великий Инквизитор Тому, Кто кажется ему «православным» Христом: для религиозного сознания Достоевского, точно так же, как для бессознательной стихии Л. Толстого, искушение чудом полета, преображенною плотью есть главное искушение Христа и всего христианства. И здесь, то есть в самом важном, глубоком, как всегда, везде, Достоевский в своей противоположности совершенно, хотя и обратно-подобен Л. Толстому. Сон Толстого – явь Достоевского; Достоевский видит наяву те самые две бесконечности, которые Л. Толстой видит во сне. Сам Достоевский принадлежал к числу великих созерцателей-подвижников христианских, которые, по выражению Черта, «такие бездны веры и неверия могут созерцать в один и тот же момент, что, право, иной раз кажется, только бы еще один волосок, и полетит человек…» Но Достоевский не старался, подобно Л. Толстому, смотреть в одну лишь верхнюю бездну, закрывая глаза на нижнюю; он испытывал бесстрашным взором обе бездны, и понимал, что они равны в своей противоположности: «Все, что вверху – все и внизу»; бездна нижняя притягивала его не менее, чем верхняя, может быть, даже более (и в этом более – слабость Достоевского, опять-таки обратная слабости Л. Толстого – его непобежденный демонизм): «потому что я Карамазов: потому что, если уж полечу в бездну, то опять-таки прямо головой вниз и вверх пятами… И вот, в самом-то позоре, я вдруг начинаю гимн. Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог мой; пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки и Твой сын, Господи, я люблю Тебя и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть». Это падение в бездну, которое будет полетом над бездною, и есть вся религиозная жизнь Достоевского: уже не во сне, а в яви, более вещий, чем самый вещий сон, висит он «между двумя бесконечностями»; но не цепляется, судорожно и боязливо, как Л. Толстой, за полусгнившую веревку, за ослабевшую детскую «помочу» бессознательной религии, а рвется на свободу, прикованный, подобно древнему титану, железною цепью к «неподвижному столбу», к несокрушимой скале церкви; цепь эта есть кровная связь Достоевского с русским народом, любовь его к народной, даже простонародной вере – к православию. Он уже почти сознавал, что, если разорвет цепь и кинется в бездну, то не упадет, а полетит, что у него есть крылья; но когда хотел он их расправить, чтобы лететь, – цепь не пускала его, и он вдруг чувствовал, что последнее звено ее – в самом сердце его, что вырвать ее можно только вместе с сердцем.
«О, Ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, лишь движение броситься вниз, Ты тотчас бы и искусил Господа, и веру в Него всю потерял и разбился бы о землю, которую спасать пришел, и возрадовался бы умный дух, искушавший Тебя. – Но много ли таких, как Ты? И неужели Ты, в самом деле, мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтобы отвергнуть чудо и оставаться лишь со свободным решением сердца? – Ты понадеялся, что, следуя Тебе, и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но Ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. – Ты не сошел с креста, когда кричали Тебе, издеваясь и дразня Тебя: „Сойди с креста, и уверуем, что это Ты“. Ты не сошел, потому что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника перед могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут Ты судил о людях слишком высоко… И чем виноваты слабые люди, что не могли вытерпеть?.. Чем виновата слабая душа, что не могла вместить столь страшных даров. Да неужто же и впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных?.. Свобода Твоя, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят их перед такими чудами и неразрушимыми тайнами, что приползут они к ногам нашим и возопиют: «Спасите нас от себя самих».
Вот одна из двух бездн, бездна верхняя, бездна духа – человеческая свобода, противопоставленная божеской любви; мистическая невозможность, противопоставленная реальной необходимости чуда. Великий Инквизитор соблазнительно умалчивает о чудесах Евангельских, принятых не только Западною, но и Восточною православною церковью, и о главном из них, о том, без которого вся «вера наша тщетна» – о чуде воскресения. Христос отверг предложенное дьяволом чудо полета; но отверг его только «до времени»; когда же наступило время, принял это же самое чудо, уже не от дьявола, а от Бога: «бросился вниз», в глубочайшую из всех бездн, в бездну смерти, и не упал, не разбился, а перелетел через нее, вознесся над нею, в силе и славе. – Ну, а что, если все-таки не перелетел – упал и «разбился о ту самую землю, которую пришел спасать»? Что значит этот «труп человека», – это «лицо, страшно разбитое ударами, вспухшее, со страшными, вспухшими и окровавленными синяками», эти «открытые глаза», «скосившиеся зрачки», «большие, открытые белки глаз, блещущие каким-то мертвенным стеклянным отблеском»? «Как могли они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет?» Вот главное сомнение Кириллова, которое доводит его до безумия: «не оправдалось сказанное… А если так, если законы природы не пожалели и Этого, даже чудо свое не пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и дьяволов водевиль». И природа мерещится в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя, или в виде какой-нибудь громадной машины, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя великое и бесценное Существо. И Бог, Бог-Отец, покинувший Сына Своего («Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?») – в виде «какого-то огромного и отвратительного Тарантула» или ужасного Механика этой ужасной машины. Вот противоположная верхней бездне духа и свободы – бездна плоти и необходимости, зияющая пасть Зверя, разверзшееся «чрево мира», откуда выходит и куда возвращается все.
Противоположность этих двух бездн, противоречие божеской любви и человеческой свободы, мистической необходимости и реальной невозможности чуда – это неразрешимое для религиозного сознания Достоевского противоречие мучило его всю жизнь, отразилось на всех его произведениях – но с величайшею силою на величайшем, последнем из них, на «Братьях Карамазовых», на мыслях и чувствах, переживаемых главным героем Алешею, по поводу «тлетворного духа», когда усопший старец Зосима «предупредил естество в тлении», или, по циническому слову нигилиста Ракитина, «провонял».
«Не чудес ему нужно было, а лишь „высшей справедливости“, которая была, по верованию его, нарушена… За что? Кто судил? Кто мог так рассудить – вот вопросы, которые тотчас же измучили сердце его… Ну, и пусть бы не было чудес вовсе, – но зачем же объявилось бесславие, зачем попустился позор, зачем это поспешное тление, «предупредившее естество», как говорили злобные монахи? Где же Провидение и перст Его? К чему сокрыло Оно свой перст «в самую нужную минуту» (думал Алеша) и как бы Само захотело подчинить Себя слепым, немым, безжалостным законам естественным?» – законам необходимости, жестоким, как то «железо», в котором толстовский мужичок делает свое страшное дело над всякою живою и мертвою плотью: «il faut le battre, le broyer, le pеtrir».
Это сомнение Алеши не есть отвлеченная мысль, а уничтожающая боль, которая вдруг пронизывает все существо его, оружие, проходящее душу: всею тленностью состава своего человек вдруг чувствует невозможность нетления; всею смертною тяжестью тела своего – невозможность полета над бездною смерти. Алеша, может быть, первый из людей пережил снова ту единственную, никогда никем на земле не испытанную тоску, которую девятнадцать веков назад переживали ученики Господни, там, на Голгофе, у подножия креста, при взгляде на «труп измученного Человека». Из-за трупного запаха над гробом старца Зосимы слышится Алеше иной, еще более ужасный, «тлетворный дух», веющий сквозь все благоухания Жен-мироносиц. Сняты покровы, коими века обвили, как плащаницею, это мертвое Тело, – и вот опять лежит Он перед нами в страшной наготе своей. И бесстыдный обман кажется бесстыдною правдою: «собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: „Господин! мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну; – итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, пришедши ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых. И будет последний обман хуже первого“ (Матфея, XXVII, 62–64). Из-за чувств и мыслей Алеши по поводу „тлетворного духа“ подымается с такою силою, как, может быть, нигде, никогда, за все девятнадцать веков христианства, вопрос о самом его существовании, вопрос Ницше и Достоевского; «Кто это был? что это было». Во время великого отступления, которое только что пережило европейское человечество, Христос как бы снова умер на кресте, и чудо воскресения должно совершиться снова; теперь, как и тогда, чудо это, прежде, чем в гробу, совершится в сердце человеческом. В сердце Алеши Достоевский и подслушал первое, самое таинственное рождение самого таинственного из чудес – первое во гробе движение воскресающей плоти.
«Кана Галилейская» есть ответ на вопрос последних пяти веков отступления от Христа – о «тлетворном духе».