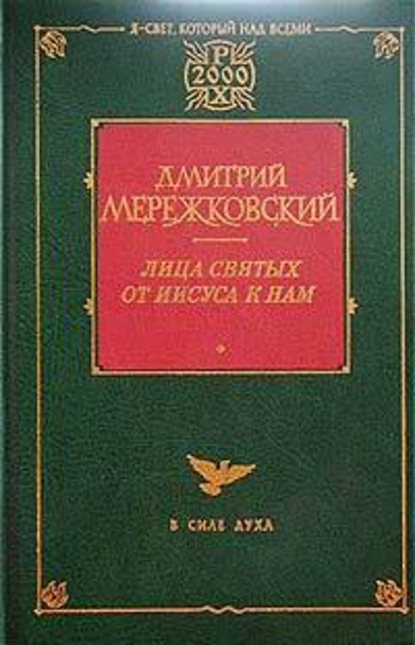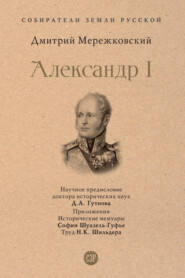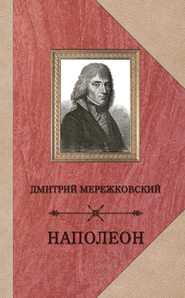По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Павел. Августин
Жанр
Год написания книги
1936
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это были ее последние слова, и на девятый день болезни, на пятьдесят шестом году своей жизни, на тридцать третьем – моей, святая душа ее разрешилась от плотских уз»[208 - Confess. IX. 10–11.]
Если та страница «Исповеди», об «огненном Крещении», – самая живая, о жизни, то такая же эта живая – о смерти.
L
Может быть, и в смерти, вещий сон жизни для св. Моники исполнился: длинный-длинный, прямой-прямой, как та «деревянная линейка», lignea regula, – в бесконечную даль уходящий солнечный луч; стоя на нем, горько плачет она, все еще по земной привычке, о разлуке с сыном; и видит вдруг идущего к ней по тому же лучу Светлого Юношу, и слышит: «Не плачь, он уже здесь, с тобой». И, оглянувшись, видит, что сын стоит за нею, все на том же луче. И Тот, Светлый, тогда во сне, еще неузнанный – узнанный только теперь наяву, – и сын так друг на друга похожи, как братья-близнецы. И радуется она, что любит Одного в Двух.
LI
После смерти матери Августин возвращается в Рим, где медлит еще целый год возвращением в Африку. Медленность эта, как будто косность, на пути Господнем, происходит, кажется, от двух причин. Первая – та, что смерть матери оказалась для него более тяжким, «сокрушающим кости ударом жезла Господня», чем он сам думал сначала.
Только что закрыл ей глаза, как стоявший тут же пятнадцатилетний сын его, Адеодат, вдруг заплакал, закричал, как маленькие дети плачут с криком. «Детское, что тогда еще было и в моем сердце, хотело так же плакать, кричать, но я подавлял его, и оно затихало», – вспоминает Августин.
– «Если же иногда и побеждало меня, то все же не до слез… И даже тогда, как опускали тело ее в могилу (тут же, в Остийской гавани), я не пролил ни одной слезы».
Но чем меньше плакал, тем больше страдал. «Очень не нравилось мне, что свойственное нашему естеству человеческому все еще имеет надо мной такую власть, и я скорбел о скорби моей, как бы второю скорбью (духовной) о первой (плотской), alio dolore dolebam dolorem».[209 - Confess. IX. 12.]
Дальше, кажется, нельзя идти в самонаблюдении, самоумерщвлении чувства разумом. «Странно! – мог бы он и теперь удивиться, так же как некогда. – Странно! даже в минуты самого жаркого горя я не могу не рассуждать»[210 - В письме к Небридию: «в минуты самой жаркой веры».]
Два человека в нем и теперь, как всегда: «лунный» – тот, для кого вся плоть мира, и его собственная, – «из ничего, почти ничто», «есть, как бы не есть», est non est; и «солнечный» – тот, для кого плоть все еще «есть». Борются в нем эти два человека, и оба изнемогают в борьбе, а между ними изнемогает и он.
Это, кажется, одна из двух причин тогдашней «косности» его, а другая, может быть, та, что новые или новым светом освещенные громады мысли, воли и чувства движутся в нем и громоздятся. Самая громадная и тяжкая – все та же вечная мука – вопрос всей жизни его: «Откуда зло?» Здесь уже, в Риме, начинает он книгу «О свободе воли», De libero arbitrio, продолжая в вечном городе Петра и Павла их неоконченный спор о Законе и Свободе.[211 - Guilloux. 381.] Этою же книгой начинает и главное дело всей второй половины жизни своей – борьбу с еретиками за Церковь.
Ровно через год, в том же месяце июле – августе, из той же Остийской гавани, как бы дождавшись того же корабля, которого не дождался тогда, с матерью, – отплывает он в Африку.
LII
Через Карфаген едет в родной городок Тагаст, откуда, четверть века назад, выехал «маленький язычник Аврелий» и куда вернулся теперь великий служитель Христа, Августин.
Продал клочок земли, наследье отца, роздал нищим все, что имел, и, с помощью друзей, основал тут же, в Тагасте, полусветскую пустыньку, где уходящие, но еще не совсем ушедшие от мира могли жить в братском союзе, подобном первой общине Апостольских дней, «имея все общее и ничего не называя своим»; где и пострига не было, так что всякий, при первом желании, мог уйти, но не уходил никто: так сладостно было здесь, уже на первом рубеже сверкающей пустыни, но все еще на последней опушке тенистых, как бы северных, под африканским небом, дремучих лесов, проводить святую жизнь в тишине, в посте и молитве, в добрых делах и мудрых беседах.[212 - Possid. Vita August. III. – Jolivet. 175.]
Судя по тому, что сообщает жизнеописатель Августина, Поссидий, о второй такой же общине, основанной Августином, года через три, в Гиппоне Приморском, крайнего умерщвления плоти не было в этих обителях: «мера соблюдалась во всем… середина между обилием и скудостью»; всегда для гостей и немощных – мясо за трапезой; «вся посуда глиняная, каменная или деревянная, а ложки – серебряные». Но женщин, приходивших в обитель, в том числе и родной сестры своей, престарелой игуменьи, Августин не только в те дни, но и потом, уже в глубокой старости, «никогда не принимал наедине», а всегда в чьем-либо присутствии.[213 - Possid. XXI; Possid. XXVI.]
В этом сочетании все еще как бы «мирских», почти «языческих», серебряных ложек и уже глубоко монашеского страха «плотской похоти», libido, даже в лице родной сестры-старицы, – в этом сочетании, «Аврелий – Августин», грешный и святой, «солнечный» и «лунный», – весь, как живой.
LIII
Года через три (в 391 г.) умер Адеодат, здесь же, должно быть, в Тагастской обители.
«Хотя и плод греха моего, – вспоминает о нем Августин, – не был он похож на меня ни в чем… Так щедро одарен Тобою, Господи, что, мальчиком лет пятнадцати, превосходил умом многих ученых мужей… Мне иногда бывало страшно от такого ума, почти в ребенке… Скоро Ты, Господи, взял его к Себе, и это ко благу: я уже не боюсь для него искушений ни в юные, ни в зрелые годы».[214 - Confess. IX. 12.]
Вот и все, что вспоминает отец о смерти сына, – да и то мимоходом, вспомнив об его крещении; а о том, как умер и отчего, – ни слова. Тенью вошел в жизнь Августина и тенью исчез «Богоданный» (A-deo-datus, значит: «Данный Богом»),
– отлетел неузнанным Ангелом.
Отнял отец мать у сына и об этом забыл. Сердце свое, «истекавшее кровью», в разлуке с любимою, помнит, а сердце сына, разлученного с матерью, – забыл. «А что, если умер и от этого!» – так и не спросил тогда, вспоминая; но, может быть, когда-нибудь спросит. Память сердца длительнее, чем память ума; ум забыл, а сердце помнит.
Сколько бы «лунный» не побеждал «солнечного», – чья победа будет последней, решит, пока еще неведомый, конец борьбы.
LIV
Умер сын, «плод греха», и «это ко благу моему», – радуется Августин, что руки и сердце у него, наконец, развязаны от последних уз «плоти»: в «духе» может теперь служить Богу.
Кончена жизнь – «житие» начинается. Годы и годы пройдут, – сорок лет, почти без одного события, зримого, внешнего, но с величайшим событием, невидимым, внутренним, – рождением того, что мы называем так узко и плоско «Протестантством», «Реформацией», а на самом деле, чего-то бесконечно большего. Лютер, Кальвин, Паскаль, и мы все, и то, что за нами, до конца времен, – в св. Августине, за эти сорок лет, родилось.
LV
В тот же год, как умер сын, Августин, приехав случайно (это предпоследний «случай» в жизни его; будет еще один, последний), приехав случайно в город Гиппон (Hippo Regius), для обращения такого же, как недавно он сам, ищущего Христа, язычника, так полюбился тамошней пастве, что однажды, в церкви, буйная толпа окружила его, схватила и, по тогдашнему обычаю, повлекла насильно к епископу «с великим криком»: «Посвяти! Посвяти!» И епископ Валерий рукоположил его в священники. «Он же горько плакал», – вспоминает Поссидий.
«Полно, не плачь, скоро будешь и епископом!» – утешал его народ, думая, что плачет он от обиды, что рукоположен только в священники. «Плакал же он потому, что страшился великого бремени священства».[215 - Possid. III.]
«Нет ничего страшнее духовного сана, все равно большой он или малый, – вспомнит сам Августин. – Только что начал я тогда учиться править ладьей Господней, как принудили меня, еще не умеющего держать весла в руке, – стать у кормила. „Не за то ли, – думал я, – что порицал я ошибки других пловцов… желает посрамить меня Господь?“.. Вот отчего я плакал тогда».[216 - Epist 21. – Guilloux. 177. – Jolivet. 180–183.]
И через пять лет, в 396 г., когда, по смерти Валерия, будет посвящен, так же насильно, в епископы Гиппонские, – опять будет плакать, как маленькие дети плачут от страха. «Я все еще только младенец пред лицом Твоим, Господи, parvulus sum».
– «Но даруй мне, что повелишь, и повели, что хочешь», – с этим он и принял тяжкий дар священства.[217 - Confess. X. 1. – Guilloux. 278.]
LVI
Плакал от страха недаром: тяжким, почти сверх сил человеческих, оказалось для него это бремя.
Столько в те дни было ересей в Церкви, как еще никогда. Стая лютых волков окружает овчий двор Господен: манихеяне, донатисты, пелагиане, ариане, присциллиане и множество других. А пастух, тогда почти единственный, в Африке, – он, Августин.
Восемьдесят восемь ересей – ран зияющих на теле Христовом – Церкви, а врач, почти единственный, – он же, Августин.[218 - Jolivet. 269.]
Ереси – внутри Церкви, а извне – язычество, все еще и в предсмертных судорогах хватающее Церковь за горло, чтоб задушить. «Быть или не быть христианству?» – на этот вопрос все еще не ответила История; вынудит ответ бесповоротный: «быть», – только Августин.
Сорок лет простоит на сторожевой вышке Церкви, так пристально следя за бесчисленными врагами ее, что все глаза проглядит. «Страж Господен», – наверху, в созерцании, а внизу, в действии, – боец.[219 - Possid. XIX.]
Множество малых боев, а великих – три: с манихеями, донатистами и пелагианами. Выйдет из всех трех победителем. Но третий, последний бой будет для него смертельным, хотя и с бессмертным венцом победы – святостью.
LVII
«После Апостолов величайший учитель Церкви – Августин», – скажет в конце средних веков св. Петр Достопочтенный св. Бернарду Клервосскому, а современник Августина, св. Проспер Аквитанский, признает за его учением «святую власть, апостольскую», и в нем самом «первосвященство верховное».
«Нет, я – только один из многих, unus ex multis», – смиренно ответит ему Августин. – Я не столько желаю быть первым, сколько быть слугою всем».[220 - Maximus post Apostolos ecclesiarum instructor. – Labriolle. 564;…Sanctam et apostolicam doctrinae tuae auctoritas. – Epist. 225. I–II; – Pierre Batiffol. Le catholicisme de Saint Augustin. Paris: Lecoffre, 1929. P.530; De dono perseverant. 55. – Non tantum praeesse quam prodesse desidero. – Epist. 134, 1.]
Два «Апостольских Престола», два «Первосвященника», – в Риме один, а другой в Гиппоне; там Петр, а здесь Павел – Августин: этого не могло быть, по многим причинам; между прочим, и потому, что при одной мысли об этом Августин «заплакал бы от страха», как маленькие дети плачут.
LVIII
Первый великий «схизматик-раскольник», Лютер, за тысячу лет до Реформации, – Донат.
Циркумцеллионы (донатистский толк и боевая дружина) ходят шайками «Божьих разбойников» по большим дорогам Нумидии; целыми полками врываются, как бесноватые, в города и селения, с крутящимися над головами «святыми дубинами» и с боевым кличем: «Господу хвала! Бей, разбивай!» – бьют и разбивают все, что ни встречается им на пути; грабят и жгут православные церкви; мучают и убивают священников, «втирают им в глаза негашеную известь с уксусом».[221 - Possid. IX.]
Злейший враг их – Августин. «Кто его убьет, спасется», – обещают им донатистские пастыри.
Чем же он ответит им на такую ненависть? «Сын мой, приди!» – зовет (еретика) Церковь-Голубка, стеная, veni! te vocat Columba, gemendo», – скажет Августин на языке тогдашней церковной риторики; скажет и просто: «Силой никого нельзя принуждать к вере». – «Все вы, находящиеся в Церкви, не ругайтесь над теми, кто вне Церкви, а молитесь, чтоб они вошли в нее… К Церкви надо приводить… словом и разумом». И еще проще скажет мирским судьям еретиков: «Мы, пастыри, хотим, чтобы вы исправляли их, а не убивали… потому что иначе мы не можем обращаться в ваши суды: лучше нам самим быть убитыми, чем видеть, как вы их убиваете».[222 - In Joan, tract. VI. 15. – Ad fidem nullus cogendus invitus Contra litter., Petiliani, ap. Batiffol. 332. – Epist. 127, ad Donat. proconsul.]
Если та страница «Исповеди», об «огненном Крещении», – самая живая, о жизни, то такая же эта живая – о смерти.
L
Может быть, и в смерти, вещий сон жизни для св. Моники исполнился: длинный-длинный, прямой-прямой, как та «деревянная линейка», lignea regula, – в бесконечную даль уходящий солнечный луч; стоя на нем, горько плачет она, все еще по земной привычке, о разлуке с сыном; и видит вдруг идущего к ней по тому же лучу Светлого Юношу, и слышит: «Не плачь, он уже здесь, с тобой». И, оглянувшись, видит, что сын стоит за нею, все на том же луче. И Тот, Светлый, тогда во сне, еще неузнанный – узнанный только теперь наяву, – и сын так друг на друга похожи, как братья-близнецы. И радуется она, что любит Одного в Двух.
LI
После смерти матери Августин возвращается в Рим, где медлит еще целый год возвращением в Африку. Медленность эта, как будто косность, на пути Господнем, происходит, кажется, от двух причин. Первая – та, что смерть матери оказалась для него более тяжким, «сокрушающим кости ударом жезла Господня», чем он сам думал сначала.
Только что закрыл ей глаза, как стоявший тут же пятнадцатилетний сын его, Адеодат, вдруг заплакал, закричал, как маленькие дети плачут с криком. «Детское, что тогда еще было и в моем сердце, хотело так же плакать, кричать, но я подавлял его, и оно затихало», – вспоминает Августин.
– «Если же иногда и побеждало меня, то все же не до слез… И даже тогда, как опускали тело ее в могилу (тут же, в Остийской гавани), я не пролил ни одной слезы».
Но чем меньше плакал, тем больше страдал. «Очень не нравилось мне, что свойственное нашему естеству человеческому все еще имеет надо мной такую власть, и я скорбел о скорби моей, как бы второю скорбью (духовной) о первой (плотской), alio dolore dolebam dolorem».[209 - Confess. IX. 12.]
Дальше, кажется, нельзя идти в самонаблюдении, самоумерщвлении чувства разумом. «Странно! – мог бы он и теперь удивиться, так же как некогда. – Странно! даже в минуты самого жаркого горя я не могу не рассуждать»[210 - В письме к Небридию: «в минуты самой жаркой веры».]
Два человека в нем и теперь, как всегда: «лунный» – тот, для кого вся плоть мира, и его собственная, – «из ничего, почти ничто», «есть, как бы не есть», est non est; и «солнечный» – тот, для кого плоть все еще «есть». Борются в нем эти два человека, и оба изнемогают в борьбе, а между ними изнемогает и он.
Это, кажется, одна из двух причин тогдашней «косности» его, а другая, может быть, та, что новые или новым светом освещенные громады мысли, воли и чувства движутся в нем и громоздятся. Самая громадная и тяжкая – все та же вечная мука – вопрос всей жизни его: «Откуда зло?» Здесь уже, в Риме, начинает он книгу «О свободе воли», De libero arbitrio, продолжая в вечном городе Петра и Павла их неоконченный спор о Законе и Свободе.[211 - Guilloux. 381.] Этою же книгой начинает и главное дело всей второй половины жизни своей – борьбу с еретиками за Церковь.
Ровно через год, в том же месяце июле – августе, из той же Остийской гавани, как бы дождавшись того же корабля, которого не дождался тогда, с матерью, – отплывает он в Африку.
LII
Через Карфаген едет в родной городок Тагаст, откуда, четверть века назад, выехал «маленький язычник Аврелий» и куда вернулся теперь великий служитель Христа, Августин.
Продал клочок земли, наследье отца, роздал нищим все, что имел, и, с помощью друзей, основал тут же, в Тагасте, полусветскую пустыньку, где уходящие, но еще не совсем ушедшие от мира могли жить в братском союзе, подобном первой общине Апостольских дней, «имея все общее и ничего не называя своим»; где и пострига не было, так что всякий, при первом желании, мог уйти, но не уходил никто: так сладостно было здесь, уже на первом рубеже сверкающей пустыни, но все еще на последней опушке тенистых, как бы северных, под африканским небом, дремучих лесов, проводить святую жизнь в тишине, в посте и молитве, в добрых делах и мудрых беседах.[212 - Possid. Vita August. III. – Jolivet. 175.]
Судя по тому, что сообщает жизнеописатель Августина, Поссидий, о второй такой же общине, основанной Августином, года через три, в Гиппоне Приморском, крайнего умерщвления плоти не было в этих обителях: «мера соблюдалась во всем… середина между обилием и скудостью»; всегда для гостей и немощных – мясо за трапезой; «вся посуда глиняная, каменная или деревянная, а ложки – серебряные». Но женщин, приходивших в обитель, в том числе и родной сестры своей, престарелой игуменьи, Августин не только в те дни, но и потом, уже в глубокой старости, «никогда не принимал наедине», а всегда в чьем-либо присутствии.[213 - Possid. XXI; Possid. XXVI.]
В этом сочетании все еще как бы «мирских», почти «языческих», серебряных ложек и уже глубоко монашеского страха «плотской похоти», libido, даже в лице родной сестры-старицы, – в этом сочетании, «Аврелий – Августин», грешный и святой, «солнечный» и «лунный», – весь, как живой.
LIII
Года через три (в 391 г.) умер Адеодат, здесь же, должно быть, в Тагастской обители.
«Хотя и плод греха моего, – вспоминает о нем Августин, – не был он похож на меня ни в чем… Так щедро одарен Тобою, Господи, что, мальчиком лет пятнадцати, превосходил умом многих ученых мужей… Мне иногда бывало страшно от такого ума, почти в ребенке… Скоро Ты, Господи, взял его к Себе, и это ко благу: я уже не боюсь для него искушений ни в юные, ни в зрелые годы».[214 - Confess. IX. 12.]
Вот и все, что вспоминает отец о смерти сына, – да и то мимоходом, вспомнив об его крещении; а о том, как умер и отчего, – ни слова. Тенью вошел в жизнь Августина и тенью исчез «Богоданный» (A-deo-datus, значит: «Данный Богом»),
– отлетел неузнанным Ангелом.
Отнял отец мать у сына и об этом забыл. Сердце свое, «истекавшее кровью», в разлуке с любимою, помнит, а сердце сына, разлученного с матерью, – забыл. «А что, если умер и от этого!» – так и не спросил тогда, вспоминая; но, может быть, когда-нибудь спросит. Память сердца длительнее, чем память ума; ум забыл, а сердце помнит.
Сколько бы «лунный» не побеждал «солнечного», – чья победа будет последней, решит, пока еще неведомый, конец борьбы.
LIV
Умер сын, «плод греха», и «это ко благу моему», – радуется Августин, что руки и сердце у него, наконец, развязаны от последних уз «плоти»: в «духе» может теперь служить Богу.
Кончена жизнь – «житие» начинается. Годы и годы пройдут, – сорок лет, почти без одного события, зримого, внешнего, но с величайшим событием, невидимым, внутренним, – рождением того, что мы называем так узко и плоско «Протестантством», «Реформацией», а на самом деле, чего-то бесконечно большего. Лютер, Кальвин, Паскаль, и мы все, и то, что за нами, до конца времен, – в св. Августине, за эти сорок лет, родилось.
LV
В тот же год, как умер сын, Августин, приехав случайно (это предпоследний «случай» в жизни его; будет еще один, последний), приехав случайно в город Гиппон (Hippo Regius), для обращения такого же, как недавно он сам, ищущего Христа, язычника, так полюбился тамошней пастве, что однажды, в церкви, буйная толпа окружила его, схватила и, по тогдашнему обычаю, повлекла насильно к епископу «с великим криком»: «Посвяти! Посвяти!» И епископ Валерий рукоположил его в священники. «Он же горько плакал», – вспоминает Поссидий.
«Полно, не плачь, скоро будешь и епископом!» – утешал его народ, думая, что плачет он от обиды, что рукоположен только в священники. «Плакал же он потому, что страшился великого бремени священства».[215 - Possid. III.]
«Нет ничего страшнее духовного сана, все равно большой он или малый, – вспомнит сам Августин. – Только что начал я тогда учиться править ладьей Господней, как принудили меня, еще не умеющего держать весла в руке, – стать у кормила. „Не за то ли, – думал я, – что порицал я ошибки других пловцов… желает посрамить меня Господь?“.. Вот отчего я плакал тогда».[216 - Epist 21. – Guilloux. 177. – Jolivet. 180–183.]
И через пять лет, в 396 г., когда, по смерти Валерия, будет посвящен, так же насильно, в епископы Гиппонские, – опять будет плакать, как маленькие дети плачут от страха. «Я все еще только младенец пред лицом Твоим, Господи, parvulus sum».
– «Но даруй мне, что повелишь, и повели, что хочешь», – с этим он и принял тяжкий дар священства.[217 - Confess. X. 1. – Guilloux. 278.]
LVI
Плакал от страха недаром: тяжким, почти сверх сил человеческих, оказалось для него это бремя.
Столько в те дни было ересей в Церкви, как еще никогда. Стая лютых волков окружает овчий двор Господен: манихеяне, донатисты, пелагиане, ариане, присциллиане и множество других. А пастух, тогда почти единственный, в Африке, – он, Августин.
Восемьдесят восемь ересей – ран зияющих на теле Христовом – Церкви, а врач, почти единственный, – он же, Августин.[218 - Jolivet. 269.]
Ереси – внутри Церкви, а извне – язычество, все еще и в предсмертных судорогах хватающее Церковь за горло, чтоб задушить. «Быть или не быть христианству?» – на этот вопрос все еще не ответила История; вынудит ответ бесповоротный: «быть», – только Августин.
Сорок лет простоит на сторожевой вышке Церкви, так пристально следя за бесчисленными врагами ее, что все глаза проглядит. «Страж Господен», – наверху, в созерцании, а внизу, в действии, – боец.[219 - Possid. XIX.]
Множество малых боев, а великих – три: с манихеями, донатистами и пелагианами. Выйдет из всех трех победителем. Но третий, последний бой будет для него смертельным, хотя и с бессмертным венцом победы – святостью.
LVII
«После Апостолов величайший учитель Церкви – Августин», – скажет в конце средних веков св. Петр Достопочтенный св. Бернарду Клервосскому, а современник Августина, св. Проспер Аквитанский, признает за его учением «святую власть, апостольскую», и в нем самом «первосвященство верховное».
«Нет, я – только один из многих, unus ex multis», – смиренно ответит ему Августин. – Я не столько желаю быть первым, сколько быть слугою всем».[220 - Maximus post Apostolos ecclesiarum instructor. – Labriolle. 564;…Sanctam et apostolicam doctrinae tuae auctoritas. – Epist. 225. I–II; – Pierre Batiffol. Le catholicisme de Saint Augustin. Paris: Lecoffre, 1929. P.530; De dono perseverant. 55. – Non tantum praeesse quam prodesse desidero. – Epist. 134, 1.]
Два «Апостольских Престола», два «Первосвященника», – в Риме один, а другой в Гиппоне; там Петр, а здесь Павел – Августин: этого не могло быть, по многим причинам; между прочим, и потому, что при одной мысли об этом Августин «заплакал бы от страха», как маленькие дети плачут.
LVIII
Первый великий «схизматик-раскольник», Лютер, за тысячу лет до Реформации, – Донат.
Циркумцеллионы (донатистский толк и боевая дружина) ходят шайками «Божьих разбойников» по большим дорогам Нумидии; целыми полками врываются, как бесноватые, в города и селения, с крутящимися над головами «святыми дубинами» и с боевым кличем: «Господу хвала! Бей, разбивай!» – бьют и разбивают все, что ни встречается им на пути; грабят и жгут православные церкви; мучают и убивают священников, «втирают им в глаза негашеную известь с уксусом».[221 - Possid. IX.]
Злейший враг их – Августин. «Кто его убьет, спасется», – обещают им донатистские пастыри.
Чем же он ответит им на такую ненависть? «Сын мой, приди!» – зовет (еретика) Церковь-Голубка, стеная, veni! te vocat Columba, gemendo», – скажет Августин на языке тогдашней церковной риторики; скажет и просто: «Силой никого нельзя принуждать к вере». – «Все вы, находящиеся в Церкви, не ругайтесь над теми, кто вне Церкви, а молитесь, чтоб они вошли в нее… К Церкви надо приводить… словом и разумом». И еще проще скажет мирским судьям еретиков: «Мы, пастыри, хотим, чтобы вы исправляли их, а не убивали… потому что иначе мы не можем обращаться в ваши суды: лучше нам самим быть убитыми, чем видеть, как вы их убиваете».[222 - In Joan, tract. VI. 15. – Ad fidem nullus cogendus invitus Contra litter., Petiliani, ap. Batiffol. 332. – Epist. 127, ad Donat. proconsul.]