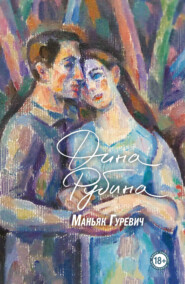По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Не вычеркивай меня из списка…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дорога назад – в его настоящую жизнь, к любимому делу, краскам, холстам, свободе – мелькала весело, нетерпеливо, взахлёб: за окнами поезда меж тополями вспыхивали серебряные лоскуты воды, солнце блистало на красном куполе, как румянец на мелькнувшем лице города; к вечеру сумерки распускали бледные цветы фонарей на мимолётных полустанках и станциях; менялись пейзажи, растительность, запахи, колотился ветер в проводах, трепал занавески над приспущенной рамой окна, и луна вперегонки бежала за поездом, но, напоровшись на мост, расплескалась по реке.
В какой-то момент он вытащил из рюкзака книгу Хемингуэя, привычно раскрыл наугад, стал читать… Через минуту закрыл: вся эта чужая минувшая жизнь его больше не интересовала. Его самого – он был в этом уверен – впереди ожидало столько всего! – дай бог управиться. Дай бог впитать этот мир – ежеминутный, единственный, ускользающий, – отразить его, воплотить в материале… А Хемингуэй – что ж, он хороший писатель. И свой мир описал добросовестно и честно.
Последний день пути поезд катил вдоль моря – с утра оно было цвета изморози, но вскоре загустело до блескучей сапфировой синевы. Замелькали веерные пальмы на набережных, крыши, балконы, кипарисы, араукарии. И так радовалось сердце, узнавая как родных перевёрнутые лодки на песке, бревно, выбеленное морской водой, и блистающего на солнце гнедого коня, которого мальчишки вели по берегу…
Наконец поезд выкатился в сверкающий полдень, замедлился, шумно выдохнул… и въехал в вокзал.
* * *
Пустячное происшествие в воровской малине, вернее, полное отсутствие какого-либо происшествия, почему-то много лет не давало Борису покоя. В некоторых его картинах наряду с придуманными или знакомыми, или родными лицами встречалось такое необычное, сильное женское лицо: выпуклый лоб, крутые скулы, облако курчавых волос.
И при виде кустов сирени, в какой бы стране он ни оказался – с выставкой или просто в поездке с женой, – в памяти тотчас оживала женщина в ореоле пепельных кудрей. Её плавная фигура удалялась в полутьме длинной анфилады комнат, синяя дверь, распахнутая в яркий весенний двор, казалась рамой, а вокруг под ветерком колыхались кипенно-белая черёмуха и зелёные шали прозрачных берёз… И казалось, сто?ит лишь вглядеться в шевелящиеся губы, чтобы услышать – что она хочет сказать…
«Тебе здесь не место, – повторял ему голос во сне, – иди, иди, тебе здесь не место…»
Будто хотела уберечь его от какого-то гибельного шага, не только в тот день, но и впредь, и далее – за гранью, за толщей лет…
Август 2023, Иерусалимские горы
От Евы до Евы
Старики занудны… Кто вообще вслушивается в то, что они говорят, особенно если это твои старики: бабка, дед, бабкина сестра Берта с её дурацкими «партЕйными собраниями»… Старики рассказывают ветхозаветные притчи, интересные одним лишь тараканам на кухне. Старики допотопны, их проблемы ничтожны, их жалобы смешны. В конце концов они помирают – и это правильно: старики должны помирать, а иначе для чего существует заведённый порядок этого мира?
И вдруг однажды ты понимаешь, что, собственно, сама превращаешься… ну, не в старуху пока, а как бы это помягче – в женщину в возрасте. Что у тебя тут ненароком возникли внучка и внук, дорогие тебе существа, забавные ребятки, которым до тебя – и это так заметно! – совершенно нет дела. Моя деловая внучка недавно отрезала посреди какой-то моей высокомудрой тирады: «Баба, молчи, а? Мешаешь…» И моё первое желание возразить семилетней засранке, что меня пока вполне слушают полные залы, а читают ещё более обширные массы людей, мгновенно разбилось о её незамутнённый взгляд нового человека. Представителя нового поколения. Свеженькую личность, которая лучше знает, что лично ей понадобится в жизни. Которой недосуг выслушивать рассуждения бабки, пусть и любимой…
И я вспомнила свою бабку Рахиль.
Ташкентское землетрясение (раньше я писала «знаменитое ташкентское землетрясение», но с недавних пор поняла, что величие того или иного события связывается с непрочными жизнями переживших его и быстро тускнеет для следующих поколений), – ташкентское землетрясение 1966 года грянуло, когда мне исполнилось двенадцать лет. Подземные толчки растрясли половину города, в основном, конечно, частную застройку. Саманный домик моего дядьки растрясло изумительно точно, я бы сказала, концептуально точно: из него вывалилась наружу одна стена. Целая стена той комнаты, где я спала на топчане, приезжая к бабке на каникулы трамваем.
Помню яркое апрельское утро, слегка курящееся над развалинами повсеместно поднятой пылью. Я проснулась на своём топчане и сижу на нём, как на сцене, свесив босые ноги. Снаружи стоит во дворе моя бабка Рахиль и, уперев руки в бока, толкует с моими приятелями Мишкой и Сёмкой.
– Тёть Рахиля-а-а… – тянут они. – Отпустите Динку скорпионов ловить…
Скорпионы, потревоженные судорогами почвы, действительно полезли из всех саманных щелей, из-под обломков кирпичей и действительно возникли всюду в огромных количествах: Азия… Мы их ловили в банки или бутылки, заливали спиртом, и это считалось противоядием от укусов. Банку с такой начинкой можно было недурно продать и обогатиться: мороженого накупить, надувных шариков, деревянных свистулек. Занятие весьма опасное, что и говорить. Но с каких это пор опасность отпугивала настоящих охотников?
– Я вам дам скорпиёнов! – вопит моя бабка. – Гляньте на этих паразитов! Такое горе кругом, люди остались без стен, без крыши, а у них одни удовольствия в голове!
С возрастом начинаешь за возрастом следить: замечаешь некую цикличность жизни, убийственное обаяние её бестрепетного хода, ровный бег этих валов, наплыв-откат, весну-осень…
Тихий шелест разговоров давно ушедших стариков с годами разгорается в тебе всё ярче, становится всё дороже. И вот сейчас бы ты поговорила, вот сейчас бы расспросила обо всём… Откуда взялась, как проросла в наследниках прабабка-цыганка и что ж это за глупость такая, что, потеряв ценную вещь (кольцо или серьгу, или кошелёк, например, вытащили), ты радуешься хорошему знаку: отпустили, выходит, тебя там, наверху, если взяли деньгами…
А потом ты осознаёшь со слепящей ясностью, что ты и есть просто звено в этой цепочке рода, просто ячейка генов, просто ступень в бесконечность бесконечных переплетений родственных жизней от Евы до… может быть, другой Евы?
И тогда ты мысленно раскидываешь руки, пальцами правой касаясь давно истлевшей руки собственной бабки, а пальцами левой – маленькой юркой ручки собственной внучки, и удовлетворённо понимаешь: ты на месте. Ты там, где, даже и умерев, положено тебе стоять во веки веков.
Бабка
Рассказ
Она звала меня «мамэлэ», и…
Вновь и вновь ворошу память: что бы ещё дополнило благостный образ еврейской бабушки?.. Боюсь, что ничего. Вот уж благости в моём роду днём с огнём не сыскать; в бабке – тем более.
Правда, на давней сохранившейся карточке выражение лица у неё не то что умилённое или смиренное, скорее… постное. Разве что очи не возведены к небесам. Полагаю, придуривалась.
Снята она восемнадцати лет – длинные косы вдоль длинного платья – на фоне каких-то живописных развалин. Нога в узкой туфельке с медной пряжкой попирает обломок скалы, за спиной – витые колонны, мавританские арки, забранное плющом окошко венецианского замка… Фотограф местечка Золотоноша имел возвышенную страсть к искусству и декорации в своей студии расписывал сам.
Дочери Пинхуса Когановского сняты им на карточки в один летний день начала прошлого века (все пятеро в лёгких платьях); и ему потребовалось немало фантазии в рассуждении композиции, дабы расставить их в разных, чрезвычайно изысканных позах. Моя юная бабка извернулась совсем уж неестественным образом: локоть упёрт в приподнятое колено, подбородок в ладонь – очень романтично…
Но что поражает меня до сих пор на той устричного цвета картонке – её нервные руки (узкая кисть, длинные пальцы, безупречно овальная форма ногтей), руки, однажды узнанные мною в портрете Чечилии Галлерани, знаменитой «Даме с горностаем» Леонардо да Винчи, – когда я прогуливалась по музею князей Чарторыжских в Кракове.
Между прочим, в семье невнятно поминали некоего художника, что в юности «снял с неё портрэт». (О эти художники! Всюду, куда ни кинь, – художники в историях моей семьи. Думаю, и на том свете я обречена позировать какому-нибудь тамошнему мазиле.)
Так вот, некий молодой художник был якобы в неё, в мою бабку Рахиль, влюблён смертельно. Туманный шлейф незадачливой юношеской любви рассеивается в отсутствии деталей. Художник куда-то делся. «А портрет? Где же портрет?» – задаю я маме идиотский вопрос и, спохватившись, умолкаю. Какой там портрет…
Из пяти сестёр Когановских Рахиль была самой артистичной. Во-первых, она пела. Во-вторых…
Нет, надо бы не так.
Не удаётся мне отринуть вечную иронию по отношению к собственной родне и сосредоточиться на образе! А образ того стоит: высокая, гибкая, с алебастровой кожей, глаза зелёные, смешливые, – бабка всегда привлекала к себе внимание. «На неё оборачивались, – вспоминает мама. – Когда мы появлялись на пляже, головы всех мужчин сдувало в её сторону, как флюгера под ветром».
В детстве к этому свидетельству я относилась недоверчиво: разве тогда были пляжи? Где – в местечке Золотоноша? Были-были, отвечают фотографии, письма, а также мерцающие кадры старых кинолент. В фильмах времён бабкиной молодости все купальщики, известно, выглядят уморительно! Я представляла свою бабку в полосатом купальном трико эпохи Чарли Чаплина, приседающей на берегу в энергичной физзарядке… – и дико хохотала.
Словом, бабка была неотразима. Во-первых, она пела. Да: пела в застолье. И не просто пела. Она «спивала украиньски песни божественным голосом». Соседи и друзья сбегались послушать, как Рахиль выводит грудным своим контральто заливистые кренделя. Вот это мамино «спивала» в моём детском воображении воплотилось в фольклорную картину: молодая бабка, в украинском кокошнике с лентами, упоённо закинув голову, так что горло трепещет, как у нашей жёлтенькой канарейки, – спивает: впивает, пьёт нежные переливчатые песни над праздничным столом: «Ничь яка мисячна, зоряна, ясная… Выдно, хочь голкы збырай…»
Ну, и так далее…
И всё же не песня была её коронным номером. Когда наполовину опустошались бутыли и штофы с наливками и свет люстры отражался в потных лысинах и лбах, когда уже пламенели разгорячённые уши, и шмыгали от удовольствия носы, и утирались салфетками усы и бороды – кто-нибудь из гостей обязательно просил:
– Рухэлэ… представь!
В ответ она сооружала изумлённо-оторопелое лицо.
– Представь, представь! – неслось со всех концов стола. – Хватит придуриваться!
Она разводила руками, пожимала плечами, с недоумением оглядывалась, будто не к ней взывали, а к кому-то за её спиной…
– Представь!!! – вопили гости.
– Та я шо ж… – начинала она мямлить. – Шо ж… разве ж я…
Далее – из растерянных ухмылок, заикания, бесконечного повторения одних и тех же дурацких фраз – возникал монолог какой-нибудь отсутствующей, не называемой ею соседки, имя которой выкрикивалось дружным хором гостей на второй минуте представления, настолько убийственно точно – интонационно, характерно, тембром голоса и ужимками – передавала бабка образ человека. Язык и текст «номера» соответствовал персонажу. И скороговоркой на «суржике» представала перед гостями какая-нибудь Оксана Петровна Федько, торгующая на рынке дюжину яиц: «Та то ж у вас разве яйца?! Не будет вам от мени комплименту на ваши яйца!»… Или Голда Рафаиловна, отставшая от поезда на пересадке в Меджибоже; аптекарша Голда Рафаиловна Ганц, которая, в тщетной попытке уберечь пять чемоданов от шныряющей вокруг шпаны, перетаскивает свою откляченную задницу с одного на другой, проклиная на идише собственных детей и внуков – мол, те дали ей неправильную телеграмму.
И долго рокотал над столами, повизгивал и кудрявился восторженный смех гостей…
* * *
Я таких застолий не помню. Это были уже другие времена и другие земли: не благодатная довоенная Украина, а знойное столпотворение саманного Ташкента, куда – через Кавказ и Казахстан – моих родных занесло эвакуацией в начале войны и где они застряли навсегда. Но то, как моя бабка Рахиль «представляла», – отлично помню с младенчества. Никаких сказок, никаких стишков из детских книжек – ничего такого, чем обычно пичкают ребёнка, заставляя «съесть ещё ложечку».
В какой-то момент он вытащил из рюкзака книгу Хемингуэя, привычно раскрыл наугад, стал читать… Через минуту закрыл: вся эта чужая минувшая жизнь его больше не интересовала. Его самого – он был в этом уверен – впереди ожидало столько всего! – дай бог управиться. Дай бог впитать этот мир – ежеминутный, единственный, ускользающий, – отразить его, воплотить в материале… А Хемингуэй – что ж, он хороший писатель. И свой мир описал добросовестно и честно.
Последний день пути поезд катил вдоль моря – с утра оно было цвета изморози, но вскоре загустело до блескучей сапфировой синевы. Замелькали веерные пальмы на набережных, крыши, балконы, кипарисы, араукарии. И так радовалось сердце, узнавая как родных перевёрнутые лодки на песке, бревно, выбеленное морской водой, и блистающего на солнце гнедого коня, которого мальчишки вели по берегу…
Наконец поезд выкатился в сверкающий полдень, замедлился, шумно выдохнул… и въехал в вокзал.
* * *
Пустячное происшествие в воровской малине, вернее, полное отсутствие какого-либо происшествия, почему-то много лет не давало Борису покоя. В некоторых его картинах наряду с придуманными или знакомыми, или родными лицами встречалось такое необычное, сильное женское лицо: выпуклый лоб, крутые скулы, облако курчавых волос.
И при виде кустов сирени, в какой бы стране он ни оказался – с выставкой или просто в поездке с женой, – в памяти тотчас оживала женщина в ореоле пепельных кудрей. Её плавная фигура удалялась в полутьме длинной анфилады комнат, синяя дверь, распахнутая в яркий весенний двор, казалась рамой, а вокруг под ветерком колыхались кипенно-белая черёмуха и зелёные шали прозрачных берёз… И казалось, сто?ит лишь вглядеться в шевелящиеся губы, чтобы услышать – что она хочет сказать…
«Тебе здесь не место, – повторял ему голос во сне, – иди, иди, тебе здесь не место…»
Будто хотела уберечь его от какого-то гибельного шага, не только в тот день, но и впредь, и далее – за гранью, за толщей лет…
Август 2023, Иерусалимские горы
От Евы до Евы
Старики занудны… Кто вообще вслушивается в то, что они говорят, особенно если это твои старики: бабка, дед, бабкина сестра Берта с её дурацкими «партЕйными собраниями»… Старики рассказывают ветхозаветные притчи, интересные одним лишь тараканам на кухне. Старики допотопны, их проблемы ничтожны, их жалобы смешны. В конце концов они помирают – и это правильно: старики должны помирать, а иначе для чего существует заведённый порядок этого мира?
И вдруг однажды ты понимаешь, что, собственно, сама превращаешься… ну, не в старуху пока, а как бы это помягче – в женщину в возрасте. Что у тебя тут ненароком возникли внучка и внук, дорогие тебе существа, забавные ребятки, которым до тебя – и это так заметно! – совершенно нет дела. Моя деловая внучка недавно отрезала посреди какой-то моей высокомудрой тирады: «Баба, молчи, а? Мешаешь…» И моё первое желание возразить семилетней засранке, что меня пока вполне слушают полные залы, а читают ещё более обширные массы людей, мгновенно разбилось о её незамутнённый взгляд нового человека. Представителя нового поколения. Свеженькую личность, которая лучше знает, что лично ей понадобится в жизни. Которой недосуг выслушивать рассуждения бабки, пусть и любимой…
И я вспомнила свою бабку Рахиль.
Ташкентское землетрясение (раньше я писала «знаменитое ташкентское землетрясение», но с недавних пор поняла, что величие того или иного события связывается с непрочными жизнями переживших его и быстро тускнеет для следующих поколений), – ташкентское землетрясение 1966 года грянуло, когда мне исполнилось двенадцать лет. Подземные толчки растрясли половину города, в основном, конечно, частную застройку. Саманный домик моего дядьки растрясло изумительно точно, я бы сказала, концептуально точно: из него вывалилась наружу одна стена. Целая стена той комнаты, где я спала на топчане, приезжая к бабке на каникулы трамваем.
Помню яркое апрельское утро, слегка курящееся над развалинами повсеместно поднятой пылью. Я проснулась на своём топчане и сижу на нём, как на сцене, свесив босые ноги. Снаружи стоит во дворе моя бабка Рахиль и, уперев руки в бока, толкует с моими приятелями Мишкой и Сёмкой.
– Тёть Рахиля-а-а… – тянут они. – Отпустите Динку скорпионов ловить…
Скорпионы, потревоженные судорогами почвы, действительно полезли из всех саманных щелей, из-под обломков кирпичей и действительно возникли всюду в огромных количествах: Азия… Мы их ловили в банки или бутылки, заливали спиртом, и это считалось противоядием от укусов. Банку с такой начинкой можно было недурно продать и обогатиться: мороженого накупить, надувных шариков, деревянных свистулек. Занятие весьма опасное, что и говорить. Но с каких это пор опасность отпугивала настоящих охотников?
– Я вам дам скорпиёнов! – вопит моя бабка. – Гляньте на этих паразитов! Такое горе кругом, люди остались без стен, без крыши, а у них одни удовольствия в голове!
С возрастом начинаешь за возрастом следить: замечаешь некую цикличность жизни, убийственное обаяние её бестрепетного хода, ровный бег этих валов, наплыв-откат, весну-осень…
Тихий шелест разговоров давно ушедших стариков с годами разгорается в тебе всё ярче, становится всё дороже. И вот сейчас бы ты поговорила, вот сейчас бы расспросила обо всём… Откуда взялась, как проросла в наследниках прабабка-цыганка и что ж это за глупость такая, что, потеряв ценную вещь (кольцо или серьгу, или кошелёк, например, вытащили), ты радуешься хорошему знаку: отпустили, выходит, тебя там, наверху, если взяли деньгами…
А потом ты осознаёшь со слепящей ясностью, что ты и есть просто звено в этой цепочке рода, просто ячейка генов, просто ступень в бесконечность бесконечных переплетений родственных жизней от Евы до… может быть, другой Евы?
И тогда ты мысленно раскидываешь руки, пальцами правой касаясь давно истлевшей руки собственной бабки, а пальцами левой – маленькой юркой ручки собственной внучки, и удовлетворённо понимаешь: ты на месте. Ты там, где, даже и умерев, положено тебе стоять во веки веков.
Бабка
Рассказ
Она звала меня «мамэлэ», и…
Вновь и вновь ворошу память: что бы ещё дополнило благостный образ еврейской бабушки?.. Боюсь, что ничего. Вот уж благости в моём роду днём с огнём не сыскать; в бабке – тем более.
Правда, на давней сохранившейся карточке выражение лица у неё не то что умилённое или смиренное, скорее… постное. Разве что очи не возведены к небесам. Полагаю, придуривалась.
Снята она восемнадцати лет – длинные косы вдоль длинного платья – на фоне каких-то живописных развалин. Нога в узкой туфельке с медной пряжкой попирает обломок скалы, за спиной – витые колонны, мавританские арки, забранное плющом окошко венецианского замка… Фотограф местечка Золотоноша имел возвышенную страсть к искусству и декорации в своей студии расписывал сам.
Дочери Пинхуса Когановского сняты им на карточки в один летний день начала прошлого века (все пятеро в лёгких платьях); и ему потребовалось немало фантазии в рассуждении композиции, дабы расставить их в разных, чрезвычайно изысканных позах. Моя юная бабка извернулась совсем уж неестественным образом: локоть упёрт в приподнятое колено, подбородок в ладонь – очень романтично…
Но что поражает меня до сих пор на той устричного цвета картонке – её нервные руки (узкая кисть, длинные пальцы, безупречно овальная форма ногтей), руки, однажды узнанные мною в портрете Чечилии Галлерани, знаменитой «Даме с горностаем» Леонардо да Винчи, – когда я прогуливалась по музею князей Чарторыжских в Кракове.
Между прочим, в семье невнятно поминали некоего художника, что в юности «снял с неё портрэт». (О эти художники! Всюду, куда ни кинь, – художники в историях моей семьи. Думаю, и на том свете я обречена позировать какому-нибудь тамошнему мазиле.)
Так вот, некий молодой художник был якобы в неё, в мою бабку Рахиль, влюблён смертельно. Туманный шлейф незадачливой юношеской любви рассеивается в отсутствии деталей. Художник куда-то делся. «А портрет? Где же портрет?» – задаю я маме идиотский вопрос и, спохватившись, умолкаю. Какой там портрет…
Из пяти сестёр Когановских Рахиль была самой артистичной. Во-первых, она пела. Во-вторых…
Нет, надо бы не так.
Не удаётся мне отринуть вечную иронию по отношению к собственной родне и сосредоточиться на образе! А образ того стоит: высокая, гибкая, с алебастровой кожей, глаза зелёные, смешливые, – бабка всегда привлекала к себе внимание. «На неё оборачивались, – вспоминает мама. – Когда мы появлялись на пляже, головы всех мужчин сдувало в её сторону, как флюгера под ветром».
В детстве к этому свидетельству я относилась недоверчиво: разве тогда были пляжи? Где – в местечке Золотоноша? Были-были, отвечают фотографии, письма, а также мерцающие кадры старых кинолент. В фильмах времён бабкиной молодости все купальщики, известно, выглядят уморительно! Я представляла свою бабку в полосатом купальном трико эпохи Чарли Чаплина, приседающей на берегу в энергичной физзарядке… – и дико хохотала.
Словом, бабка была неотразима. Во-первых, она пела. Да: пела в застолье. И не просто пела. Она «спивала украиньски песни божественным голосом». Соседи и друзья сбегались послушать, как Рахиль выводит грудным своим контральто заливистые кренделя. Вот это мамино «спивала» в моём детском воображении воплотилось в фольклорную картину: молодая бабка, в украинском кокошнике с лентами, упоённо закинув голову, так что горло трепещет, как у нашей жёлтенькой канарейки, – спивает: впивает, пьёт нежные переливчатые песни над праздничным столом: «Ничь яка мисячна, зоряна, ясная… Выдно, хочь голкы збырай…»
Ну, и так далее…
И всё же не песня была её коронным номером. Когда наполовину опустошались бутыли и штофы с наливками и свет люстры отражался в потных лысинах и лбах, когда уже пламенели разгорячённые уши, и шмыгали от удовольствия носы, и утирались салфетками усы и бороды – кто-нибудь из гостей обязательно просил:
– Рухэлэ… представь!
В ответ она сооружала изумлённо-оторопелое лицо.
– Представь, представь! – неслось со всех концов стола. – Хватит придуриваться!
Она разводила руками, пожимала плечами, с недоумением оглядывалась, будто не к ней взывали, а к кому-то за её спиной…
– Представь!!! – вопили гости.
– Та я шо ж… – начинала она мямлить. – Шо ж… разве ж я…
Далее – из растерянных ухмылок, заикания, бесконечного повторения одних и тех же дурацких фраз – возникал монолог какой-нибудь отсутствующей, не называемой ею соседки, имя которой выкрикивалось дружным хором гостей на второй минуте представления, настолько убийственно точно – интонационно, характерно, тембром голоса и ужимками – передавала бабка образ человека. Язык и текст «номера» соответствовал персонажу. И скороговоркой на «суржике» представала перед гостями какая-нибудь Оксана Петровна Федько, торгующая на рынке дюжину яиц: «Та то ж у вас разве яйца?! Не будет вам от мени комплименту на ваши яйца!»… Или Голда Рафаиловна, отставшая от поезда на пересадке в Меджибоже; аптекарша Голда Рафаиловна Ганц, которая, в тщетной попытке уберечь пять чемоданов от шныряющей вокруг шпаны, перетаскивает свою откляченную задницу с одного на другой, проклиная на идише собственных детей и внуков – мол, те дали ей неправильную телеграмму.
И долго рокотал над столами, повизгивал и кудрявился восторженный смех гостей…
* * *
Я таких застолий не помню. Это были уже другие времена и другие земли: не благодатная довоенная Украина, а знойное столпотворение саманного Ташкента, куда – через Кавказ и Казахстан – моих родных занесло эвакуацией в начале войны и где они застряли навсегда. Но то, как моя бабка Рахиль «представляла», – отлично помню с младенчества. Никаких сказок, никаких стишков из детских книжек – ничего такого, чем обычно пичкают ребёнка, заставляя «съесть ещё ложечку».