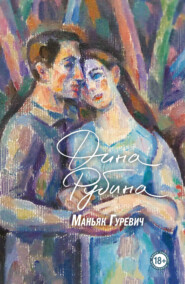По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дизайнер Жорка. Книга первая. Мальчики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После занятий среди тупых второклашек (у которых пятьдесят три умножить на двенадцать считалось немыслимой умственной нагрузкой) он просился на урок в пятый класс, посидеть за партой с соседом Серёгой. И за пять минут до начала урока решал тому всю «домашку», так что Серёга был жуть как доволен. «Марь Ефимна! – просил, поднявши руку. – Можно малыш со мной посидит, за ним присмотреть некому. Он тихий». И Марь Ефимна неизменно отвечала: «Пусть сидит, мине до лампочкы». Родом она была из Белоруссии, и тяжёлый акцент сохранила на всю жизнь. Преподавала математику в 5–6-х классах, в 7-м не работала, так как программу 7-го не знала. Спросишь у неё что-то, чего нет в учебнике, она своё: «А мине до лампочкы…»
В общем, в один из весенних дней Матвеич, зайдя утром за какой-то соседской надобностью и узрев Жоркину родительницу во всём её отвратном бытовании, забрал пацана к себе. На робкие вопросы – мол, а школа как же… – отмахнулся и сказал: «Да на черта те школа, одна морока и безделье! Ты вон в уме считаешь, как бухгалтер Симаков на счётной машинке! И што? Всё равно будешь трактористом…»
Жорка притих. Не то чтоб согласился с нарисованной картинкой своего будущего, о будущем он не больно-то и думал. Просто скоро начиналось лето, а значит, – каникулы, Волга, пристань, базары… а Матвеич ему нравился.
У Матвеича в доме было чисто, хотя по-мужски просто и пустовато: голые лампочки на шнурах, выметенные доски пола. Никаких ковриков или там абажуров. Но стол как стол, четыре стула, громоздкий шифоньер, рукомойник, железная кровать. Всё на месте, всё для жизни. Была ещё широченная деревянная лавка без спинки, на которой стояла парочка лоханей и разная кухонная надобность. Но в первый же вечер Матвеич всё это смёл на пол, постелил две овчины, бросил в изголовье подушку – получилась лежанка. Жестковатая, узковатая, но Жорка так уматывался за день со стадом, что миг, когда тело касалось лежанки, и миг, когда на рассвете Матвеич будил его (интересно так: брал в пригоршню загривок и слегка сжимал, потряхивая), сливались в единый промельк ночи.
Зато по вечерам, отогнав стадо в коровник, они жарили картошку с салом и ели вдвоём прямо со сковороды, после чего Матвеич разрешал мальчику подбирать хлебной корочкой прогорклую жижу с ошмётками зажаренного лука, и вкуснее этого Жорка ничего не ел.
Иногда перед сном он обеспокоенно думал: что там мамка, кто ей таскает водку, кто картошку варит (Жорка давно уже навострился сам себя кормить и мамке тарелку ставил), пока в один из вечеров к ним не наведалась Татьяна Петровна, соседка, и, пошептавшись с Матвеичем, покачивая головой и отирая губы, с фальшиво оживлённым лицом объявила Жорке, что маманю забрали по «скорой» в больницу в острой фазе и теперь всё будет хорошо.
– Что будет хорошо? – хмуро спросил мальчик, и соседка так же оживлённо заверила, что мамку вылечат и всё станет как прежде: вернётся мамка твоя чистенькая, умненькая, добренькая… Какая была.
Почему-то именно эти приседающие няньки-суффиксы навеяли на Жорку такую тоску, что он сразу понял: ничего хорошего больше не будет. Что там сделают с мамкой, как её нагнут, во что превратят и куда закатают – неведомо. Один теперь Жорка, и держаться надо Матвеича.
* * *
Вставали они рано, в четыре утра, к пяти уже пригоняли гурт на ближнее пастбище, которое простиралось от кромки леса до пологих берегов ерика Солёного…
Туман вкрадчиво выползал из воды, извиваясь по руслу ерика, то поднимая драконью голову, то высовывая длинный гребень, то показывая язык. На передвижения и преображения тумана хотелось смотреть бесконечно, но луч на лесном горизонте уже пробивал кроны снопами солнечных игл, шарил по туманной реке, разгоняя тайны и расчищая водную гладь.
Стадо было большим и трудным, коровы все – своевольные и очень сообразительные твари. Были среди них вожаки, как у людей: к примеру, огромная чёрная Милка-Чума. Её даже быки слушались, побаиваясь острых рогов. К счастью, Милка любила конфеты, так что в кармане курточки надо было держать наготове кулёк леденцов, чтобы не сбежала, а заодно и стадо за собой не увела.
Днём, когда коровы укладывались отдыхать, аккуратно выстилая на траве большие розовые или бежевые четырёхцилиндровые вымена, Матвеич разрешал и мальчику покемарить. Расстилал в тени под огромным вязом свою телогрейку, Жорка валился на неё, как телёнок, и тотчас сквозь крону на него ссыпались целые пригоршни огненных цифр, крутясь и сопрягаясь в голове в бесконечные ряды коров и телят.
Мальчик был маленького роста, головастый, чернявый, слегка раскосый (в детстве отец поддразнивал: мол, никакой не Иванов он, а Кыргызов), с худыми несильными руками, потому драк избегал. И с кнутом никакого толку поначалу не выходило: кнутом надо было громко щёлкать, при этом очень громко матерясь – не со зла и даже не для острастки, – просто это был язык, который коровы понимали. А Жорка, слова эти прекрасно зная, почему-то не умел их правильно складывать и убедительно произносить, не умел пересыпать ими речь. Так что поначалу его делом было следить, чтоб коровы в клевер не забрели: если после клевера стадо напьётся воды – все коровы, как одна, враз подохнут.
А Матвеич был пастух настоящий: знал кормные места, привычки и нрав каждой питомицы и говорить мог о них часами. Это только кажется, говорил, что коровам всё по хер, у них душа нежная. Они за всё беспокоятся. Ежли ты к ней по-доброму, она всё поймёт и отблагодарит – знаешь как? Молочка больше даст. Обязательно лишний стаканчик молока в ведёрко добавит.
– Матвеич, а как же, вот ты кричишь на них, кнутом стреляешь.
– Да брось, милай, это ж просто разговор такой, они всё правильно чуют, они умные. Ну, а как драться меж собой почнут, так на то уж одна управа: кнут и ядрёный мат.
Вскоре Жорка знал всё стадо по именам: Маланка, Апрелька, Мальвина, Чернуха, Борька и Бублик, и красавец Бонапарт… Несмотря на огромную массу тела, коровы были игривыми особами: тёлочки и бычки гонялись друг за другом, как собачонки за собственным хвостом, валились на спину на траву, смешно елозили, задрав голенастые ноги. Стоило им попасть на облысевшую утоптанную площадку, кто-то из молодняка издавал трубный зов, затевал игру, и минут через пять большая часть стада, говорил Матвеич, гоняла ворон…
Лето катилось сухое, дни сине-жёлто-зелёные, один в один. Томительная жарь прогретого воздуха стояла плотной стеной, сотканной из звона кузнечиков, зудения ос, басовитого хода шмелей и голосистой, от земли до неба пестряди птичьего пения.
К июлю Жорка окреп, загорел, руки и плечи слегка набрали плоти, так что не стыдно было и майку снять. Трижды он удачно подрался с соседскими пацанами, которые дразнили его Коровьей Лепёшкой и Хвостом; он и сам тумаков нахватал, но и врезал по роже Костяну настоящим кулаком; и с того дня драк уже не боялся…
Он только скучал по тетрадкам и карандашу, по тайной жизни своих рисованных цифр. Но Матвеич обещал, что скоро вся эта галиматья из него выветрится, нельзя же, говорил, всё время хрен знает что в башке таскать. Ты жизнью интересуйся, жизнью! Она вон какая широкая…
2
…От пастушьей (или трактористской) доли Жорку спасла учительница математики Марь Ефимна – та самая, которой, вроде, всё было «до лампочкы». Просто начался учебный год, и сосед Серёга, переведённый из пятого в шестой класс только благодаря малышу, «за которым некому присмотреть», стал демонстрировать на уроках удручающие результаты. Спустя неделю после начала занятий Марь Ефимна поинтересовалась у Серёги, где ж его мозговитый братишка? Ну, и пришлось отвечать, что никакой то не братишка, а сосед, что теперь он в школу не ходит, а пасёт с Матвеичем стадо; что зовут его Жорка Иванов и что это у него папаню током шибануло до смерти.
– Иванов? – подняла голову от классного журнала Марь Ефимна. – Так он Славы сын?
И задумалась…
Славу она отлично помнила: тот, как и прочие совхозные дети, был когда-то её учеником. Бесхитростный покладистый мальчик, улыбка всегда наготове. Женился, кажется, на Светочке Демидовой, они и в школе за одной партой сидели… «А Светлана… она что, разве не?..». И услышала Марь Ефимна то, о чём все, кроме неё, знали: что Светлана, маманя Жоркина, спилась вчистую, до зелёных чёртиков, «до белочки», и уже месяц как увезена в районную психушку, где и пребывает беспамятная, а на сына ей плевать. А Жорку сосед прибрал, Матвеич, у него ж левая рука без пользы висит и трясётся, и он давно у председателя просил подпаска. В общем, они теперь оба-двое коровам хвосты крутят тремя руками.
– Так, продолжаем работу над ошибками, – оборвала Марь Ефимна смешки в классе. – Мине ваш юмор до лампочкы.
Она уже знала, что делать.
Вспомнила, что у Светланы был старший брат по отцу, Володя, лет на шестнадцать старше Светланы. Какие-то у парня были семейные неурядицы, стычки с мачехой, с отцом он тоже разругался и потому, отслужив армию, в село не вернулся: в техникум поступил, то ли в Астрахани, то ли в Ульяновске. Не может быть, чтоб ни разу не написал кому-то из школьных дружков, уж открытку точно отправил, а открытки в домах хранили. На них то Кремль запечатлён, то университет на Ленинских горах, то крейсер «Аврора», то вздыбленный мост над Невой. Словом, какая-то красота, а такое не выбрасывают.
Тем же вечером после занятий Марь Ефимна прошлась по улице Ударной, стучась ко всем соседям семьи Ивановых. И точно: открытка с Володиным адресом обнаружилась у его дружка Сёмки Страшно?го, ныне Семёна Михайловича, агронома по семеноводству. Сам Семён Михайлович был на полях, а жена Ирина, в прошлом Ира Никитина, и тоже ученица Марь Ефимны, порывшись в ящике коридорной тумбы, эту открытку своей учительнице охотно предоставила. И да: на открытке под густым синим небом празднично сиял-зеленел куполами Астраханский кремль.
«Здравствуй, Володя! – тем же вечером писала Марь Ефимна. – Не удивляйся этому посланию твоей старой учительницы…»
Письмо затевалось краткое, деловое и спокойное, но с первых же строк как-то расхристалось и разнюнилось.
Ей всё в подробностях рассказали соседки: и как в начале горя, жалея вдову с сиротой, каждая забегала чем-то помочь: прибрать, простирнуть, приносила горячее в кастрюльках. А потом все устали: ну, сами посудите, Марь Ефимна, рази ж у неё одной главная беда стряслась? У нас у каждой что-нибудь да случалось. У Валентины, вон, здоровый ребёночек помер просто во сне, у Клавы оба брата в своём «жигулёнке» по пьяни с моста кувыркнулись. Рази ж это не горе? Ну и сколько можно баловать молодую бабу? Поднимись уже, зенки пьяные проморгай, да и пошла борщ варить пацанёнку, правильно я понимаю?
Да вот неправильно, потому как, получается, неспроста это у неё, не от настроения или там лени… И в данный момент Светлана, бывшая её ученица-отличница, проходит суровое лечение в районной психиатрической больнице, и никто не знает, когда это лечение возымеет хоть какое-то действие. Ибо, выйдя из делирия, очнувшись от грёз и обнаружив себя вдовой-алкоголичкой, Светлана лечилась ныне от тяжёлой безысходной болезни, как она называется-то… синдром какой-то маникальный, что ли…
Всё это очень Марь Ефимну расстроило, так что письмо получалось уж никак не деловое.
«Мне кажется, Володя, – писала старая учительница, – что негоже тебе оставаться в стороне от этого близкого горя, неважно, в каких отношениях ты был с сестрой и мачехой, тем более та давно померла. Твой племянник Георгий – мальчик на диво талантливый в точных предметах, но трудный по характеру, угрюмый и замкнутый. К тому же семейное несчастье его сильно пришибло. Георгию необходим тёплый дом, родные люди, ласка. И нормальная школа. За ним присматривает сосед, один местный пастух, инвалид. Человек он хороший, но недалёкий, внушает Георгию, что учёба ему не нужна, и под разными предлогами учиться его не пускает. А новый школьный год уже в пути. Приезжай, Володя, и забери мальчика. Поверь, тебе это доброе дело окупится сторицей. Я уверена, что…»
* * *
…Тамара первой прочитала это письмо.
Собственно, Володя и не удосужился его прочитать, не до писем было, он пребывал в очередном запое, во второй его фазе: сидел за столом на кухне и открывал всё новые бутылки.
Письмо привело Тамару в волнение, в оторопь, и разобраться в подоплёке этого волнения было непросто. Первый её брак закончился выкидышем, после которого особой надежды на материнство не было, да и Володя, второй её муж, не сильно по детям горевал: нет их, и не надо.
Предлагаемый ей восьмилетний мальчик Георгий не был сладким младенцем, который в будущем станет звать её мамулей и обвивать её шею шёлковыми ручонками. С другой стороны, он не был и совершенно чужим. Володин племянник всё же. Он мог оказаться той самой возможностью материнства, а мог свалиться в самую серёдку её маленькой корявой семьи со всей своей… как там в письме училки-то? – «угрюмой замкнутостью». А ведь ещё неизвестно, что там с его мамашей: вылечат ли её или закатают до конца жизни в дурку? Говорят, там такими лекарствами пичкают, что человек имени своего не вспомнит, не то что за ребёнком смотреть.
Полночи Тамара сидела в кухне на табурете, слушая Володин храп и размышляя… Она и сама не была сильно ласковой да приятной, сама выросла в детдоме в голодные годы. Из-за пониженного слуха говорила громче, чем требуется, и потому у окружающих часто складывалось впечатление, что она нарывается на скандал. «На диво талантливый» – это что имеется в виду? С этим как быть? В будущем это диво могло обернуться удачей и почётом, а могло оказаться каким-нибудь безумием, разве нет: вон их сколько, этих чокнутых профессоров. Весь третий этаж ими полон. Возьмите хоть Макароныча…
Под утро, совсем измученная борьбой с собственной совестью, ни в чём не виноватая, никому ничего не должная, трижды поменяв решение, Тамара села и написала учительнице ответное письмо. Сильно не старалась, ясно и сухо писала своим крупным почерком: понимаем, ответственности не чураемся, мальчика заберём. Благодарны за заботу и внимание. Но уж будьте так добры, пусть все нужные бумаги подготовят в конторе совхоза. Юрист там какой-никакой имеется или как?
В школе детского дома № 10 для детей с нарушениями слуха Тамара училась как положено, была твёрдой хорошисткой. Ныне ежегодно подписывалась на журнал «Юность», который прочитывала от редакционной передовицы до юмористического отдела «Зелёный портфель». Иногда писала на местное радио письма с ответами на вопросы викторин, так что письмо, написанное ею с уважительным достоинством бывалого письмописца, должно было произвести на учительницу благоприятное впечатление.
Она выждала неделю, получила ответ на своё письмо, назначила день прибытия, выпросив для этого два дня отпуску на своей меховой фабрике… И дня три ещё дала себе время – успокоиться, вычистить и отмыть после запоя Володю, выбить коврики и перины, приготовить дом к приезду и поселению ещё одного человека. Мысленно так и произносила – «человека». И перетаскивала с места на место, сортировала узлы и ящики, выносила на помойку мешки со старьём, ползала с тряпкой по всем углам, расчищая площадь тесной двухкомнатной квартирки. «Кладовку ещё разобрать, – бормотала, – человек приедет, ему для вещичек место тоже требуется». Волновалась: тащить ли в Займище пустой чемодан для пожитков мальчика, или, возможно, в доме там найдётся, или кто из соседей расщедрится…
Но оказавшись на крыльце запертого дома Ивановых, внимательно оглядев разбитые алкоголичкой и заколоченные фанерой (сердобольные соседи постарались) окна, Тамара поняла, что никакого чемодана для пожитков новому «человеку» не потребуется…
3
…Добираться до села Солёное Займище можно по-разному. Есть романтический, продутый ветерком, хотя и долгий речной путь: на пристани, рядом с рестораном «Поплавок», можно сесть на «ракету», теплоход на подводных крыльях, и вверх по Волге идти до Чёрного Яра, откуда баркасом или речным трамваем уже добираться до Займища. Тамара приблизительно дорогу знала – однажды по профсоюзной путёвке отдыхала в профилактории комбината «Бассоль» на озере Баскунчак. Лечила там своё женское недомогание целебными грязями и рапными солями.
Между прочим, соль Баскунчака, крупнозернистая, опаловая, драгоценная – главный секрет посола знаменитой астраханской воблы. А нашу воблу ни с чем не спутаешь. Никакие тарани, густера, чехонь, краснопёрка, никакая плотва, ни даже вобла других регионов страны и близко не подплывают к великому кулинарно-культурному феномену по имени «астраханская вобла». Трое суток нежат её под гнётом в баскунчакской соли. А готовность проверяют на просвет: спинка должна янтарно светиться от жира, благоухание должно за сердце хватать, слюнка должна на губах играть! Но это так, к слову: удержаться не получилось!
Можно и проще выбрать путь – автобусом. Проще, да муторней: шесть часов по колдобинам и ямам трюхать, это ж все кишки повытрясет! Прикинув затраты и заморочки, Тамара решила в Займище добираться на автобусе, а вот назад в Астрахань прокатить «человека» с ветерком по Волге: тоже ведь впечатление для мальца, разве нет?